Исход бесплатное чтение
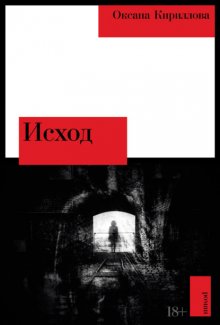
Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Редактор: Вера Копылова
Издатель: Павел Подкосов
Главный редактор: Татьяна Соловьёва
Руководитель проекта: Ирина Серёгина
Художественное оформление и макет: Юрий Буга
Корректоры: Елена Воеводина, Наталья Федоровская
Верстка: Андрей Ларионов
В оформлении обложки использована иллюстрация Shutterstock.com
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© О. Кириллова, 2025
© Художественное оформление, макет.
ООО «Альпина нон-фикшн», 2025
«Окружив себя высокими заборами и накинув на них километры колючей проволоки, вы делаете всего одну благую вещь – даете возможность народу избежать ответственности. Кто поглупее или умеет договариваться с совестью, тот упокоится тем, что “не знал”, а умным людям будет не скрыться от горького покаянья, когда придет этому конец, а в том, что он придет, я не сомневаюсь. Каждый бич завершал свое истязание, всякая чума проходила. Но неглупых, видишь ли, много, в том и боль наша. Увечны сейчас: разум и воля – паралитики. И тем больнее и абсурднее, что воспитаны в христианской вере, на почитании морального и нравственного. В том самом обществе, что породило Гегеля и Фихте, продолжавших труды греческих философов, которые размышляли о Всебожественной Мудрости – непостижимой и невыразимой, но ощущаемой. Когда же мы перестали ощущать ее? Где случился перелом? С каким энтузиазмом, увлеченные россказнями о нашем превосходстве, мы начали массово прыгать в эту пропасть и теперь не можем остановиться… Сегодня повстречал двух сказочных дураков. Они спорили в очереди (за всем ныне длинные очереди, слава Германии!) за консервами. Подумай только, один удивлялся, почему мы позволили англичанам и русским так глубоко продвинуться, ведь “так можно и войну проиграть”. Второй уверенно растолковал: якобы это не что иное, как западня, в которую фюрер заманивает легковерных противников. “У Гитлера в резерве чудесное оружие, которое полностью изменит ход войны. Информация самая достоверная. Прямиком из ставки фюрера. Великий поворот уже скоро. Геббельс лично по радио…” Дело рейхсминистра народного просвещения по-прежнему живо и дает жирные плоды-переростки: слепая безоглядная вера в фюрера становится тем крепче, чем ближе страшный конец. Мы двигаемся по инерции по заданной фюрером траектории, даже не пытаясь понять, куда она нас ведет. А те, кто догадались, уже не желают сойти с нее. Они устали. А уставшие люди хуже врага. Они покоряются любой дурости. Они утрачивают чувство реальности и живут в мире иллюзий своего повелителя, на которого переложили и самый труд мысли. Кто знает, может, теперь это единственный способ сохранить разум, ведь если мы начнем задавать вопросы сами себе, то рискуем сойти с ума, как сын Норберта Георг, о котором я тебе как-то писал. Я ведь еще раз с ним встретился, перед тем как он повесился. Он рассказал, что делал в Польше после того, как оттуда были выведены части вермахта и территория была полностью передана во власть СС. Он не знал, чем ему нужно было руководствоваться: присягой фюреру ли, моральными принципами, верой в Бога? Где тот предел подчинения, когда моральные принципы, совесть и то, что принято называть человечностью, начинают противиться выполнению приказов? Георг был полностью потерян. В конце концов он руководствовался обычным страхом… страхом того, что с ним станет, если он откажется исполнять. Верно ты, сынок, сейчас говоришь, что у тебя нет выбора, как говорил и Георг (когда еще пытался цепляться за жизнь), но когда-нибудь мир объяснит тебе, что выбор есть всегда.
В субботу в очереди за водой (и все-таки слава Германии, что очереди еще есть, а постоять – дело нетрудное) все с возбуждением обсуждали вечерний радиоэфир. Я лично слышал, как сообщение о воздушной тревоге вдруг прервалось и незнакомый голос сообщил, что Винница будет отдана! (А мы-то знаем, где базируется главный штаб нашего фюрера.) Еще он сказал, что основные железнодорожные узлы на Восточном фронте мы уже потеряли, а потому наши войска и отступить толком не смогут, и с неба их не прикроют, потому как самолетов уже давно не хватает: авиационные заводы Мессершмитта, Дорнье и Цеппелина разрушены воздушными бомбардировками. Начал он что-то говорить и про ситуацию на Балтийском море, но его прервали и прежний диктор торопливо сообщил, что это происки заграничной пропаганды, которая прорвалась в эфир и дала лживую информацию. “Слыханное ли дело, чтобы фюрер свою ставку отдал?! Развелось этих подпольных станций, всех не перестреляешь!” – выкрикнул кто-то из очереди. Я не могу понять стремления любой ценой продолжать уже проигранную борьбу, ведущую лишь к еще бóльшим жертвам нашего народа. Это похоже на боксерский поединок в разных весовых категориях: один, уже истекающий кровью, лежит на ринге, ему бы и дальше лежать, так ведь нет – на трясущихся ногах, с плывущим взглядом, не чувствуя ничего от боли, он пытается встать, чтобы получить еще один убийственный удар и навсегда остаться калекой, а все потому, что из угла кричит его оголтелый тренер, не желающий верить в поражение того, кому истинно больно. Чего мы добиваемся, Вилли? Этого смертельного удара, который окончательно свалит нас с ног и заставит лежать еще долго-долго? Так ведь можно уже и никогда не подняться… Вилли, ваш “тренер” – пленник собственного бреда, человек, тяжко болеющий и не способный замечать того, что происходит, самолепный властитель без роду без племени, который извращенно и беззаветно поклоняется только одному – самому же себе. Судя по всему, он осознал, что у него нет будущего, потому он принялся отчаянно столбить свое место в прошлом… Что ж, он может быть доволен, – его запомнят… Наши города один за другим превращаются в пепел. Все рушится…»
Я отложил мелко исписанный с обеих сторон лист, не дочитав: пора было идти в комендатуру.
Утром того дня, когда я получил письмо от отца, нам официально сообщили, что потеряна Винница.
В начале мая в лагерь вернулся Рудольф Хёсс[1] и приказал экстренно готовиться к прибытию эшелонов из Венгрии. В Биркенау рабочие в спешном порядке завершали прокладку железнодорожного пути, ведущего от основной ветки прямо к крематориям, – теперь разгружать эшелоны можно было буквально в сотне метров от второго и третьего. Еще одна группа рабочих была направлена в пятый крематорий на ремонт топок, в остальных тщательно чистили печи. Торопливо ремонтировали второй бункер, который уже давно не использовался, – там снова должна была заработать газовая камера.
– Судя по всему, объемы ожидаются внушительные, – проговорил Габриэль, наблюдая за рабочими, которые толкали тачки с землей.
Я кивнул:
– Хёсс счастлив вернуться и не скрывает этого.
– Да, давно я не видел его таким сияющим.
– В конце концов, он не без основания считает Аушвиц своим детищем.
– И сейчас его ребенок вступает в важную пору своего становления. И ко всему прочему, – Габриэль усмехнулся, – венгерские евреи – люди зажиточные. Сложно представить, сколько добра они привезут с собой. Вы слышали, что комендант отозвал из Гливице гауптшарфюрера Молля? Это существо будет снова ответственно за наши крематории.
– Что ж, – я посмотрел на Габриэля, – кажется, все на своих местах.
На следующий день в лагерь собственной персоной заявился Адольф Эйхман. Я был весьма удивлен, увидев его в комендатуре в сопровождении Хёсса. Не привлекая их внимания, я забрал необходимые документы и вышел. Спустя какое-то время вышли и они, сели в ожидавшую машину и укатили в сторону платформы. Я выкинул недокуренную сигарету и снова вернулся в комендатуру. Судя по разговорам, которые я краем уха слышал, Эйхман приехал лично проверить готовность лагеря к принятию его транспортов из Венгрии. Что ж, даже его вечно мятущаяся душа ныне должна быть удовлетворена: усилиями вернувшегося на свой пост Хёсса лагерь был готов полностью.
Собственно, как я и ожидал, Эйхман остался доволен увиденным. За обедом мы все-таки встретились и он был в прекрасном расположении духа. Он первый увидел меня и громко поприветствовал:
– А, гауптштурмфюрер фон Тилл, знал, что встречу вас здесь! Рад видеть, прекрасно выглядите.
– Что ж, удовлетворен ты увиденным? – спросил я, когда мы вышли на улицу, оставшись наедине.
Стояла отличная погода. Чистое майское небо было неестественно голубым, словно кто-то плеснул в него сочной химической краски. Припекало солнце. Мы расстегнули воротники и закурили. Эйхман разглядывал бараки, ровной чередой уходящие вдаль. В лагере было необычайно тихо.
– Вполне, – кивнул он.
– Уже обсудил с комендантом график депортаций и количество составов, которые предстоит принять? – осторожно поинтересовался я.
Эйхман снова кивнул.
– Это мы обсудили еще во время его приезда ко мне в Будапешт. Кстати, я рад, что Хёсс добрался до меня и имел возможность лично убедиться в качестве местных евреев. Для работ, увы, непригодны… ну, может, процентов двадцать пять, не больше. Остальных на уничтожение.
Я ничего не ответил. Эйхман продолжил:
– Хорошо, что Хёсса вернули в Аушвиц. С Либехеншелем каши не сваришь, его либеральная политика в управлении лагерем – полная ерунда. До перевода в Инспекцию служил адъютантом в Лихтенбурге[2], говорят, прослыл там чувствительным тихоней. Удивительно, что в нем разглядел Глюкс[3]?..
Тут я вынужден был согласиться:
– Да, при всем моем уважении к оберштурмбаннфюреру Либехеншелю, это совершенно не его.
– Правду говорят, что он отменил наказания за мелкие провинности? – Эйхман насмешливо изогнул светлые брови.
– Так и есть, и еще запретил охране пользоваться информаторами среди заключенных, – кивнул я.
– Бред. Впрочем, Либехеншель и не скрывал, что не желал этого перевода. Все знают, за что рейхсфюрер отправил его сюда.
Я пожал плечами.
– Боюсь, эта информация прошла мимо меня.
– Брось, фон Тилл. Всем известно, что он оставил жену и троих детей ради секретарши Глюкса. Дурак. Разве кто-то упрекнул бы его, что он завел любовницу? В Управлении этим все грешны. Но рушить ради интрижки семью? Увольте. Подумать только, жена, трое детей, – Эйхман покачал головой. – Да к тому же в Управлении ходят слухи, что эта секретарша в прошлом имела связь с евреем. Поль[4] в ярости. Он лично посылал Баера[5] вразумить одуревшего от любви Либехеншеля, но без толку. Не смогли его отвадить от секретарского тела!
– Думаю, у него не было выбора, сюда он привез ее уже с приличным животом.
– Мерзость, – Эйхман скривился, – как можно дотрагиваться до того, что было хоть единожды во владении грязного еврея?!
Я спокойно смотрел на Эйхмана.
– И как он тут?
Я продолжал смотреть на Эйхмана.
– И как он тут? – повторил он.
– Пьет, – наконец ответил я.
Эйхман усмехнулся:
– Вот уж правда, неудачная баба – конец карьеры для мужчины. Не дурак ли, так бездарно разрушить собственную жизнь из-за женщины? Куда его теперь?
– Временно в Майданек, они сейчас без коменданта.
– Какое унижение после такого взлета. Впрочем, – он вдруг глянул на меня с некоторым укором, – твое прошение об окончательном переводе сюда из Управления с точки зрения карьерных перспектив тоже… – он замялся, подыскивая подходящее слово, – вызывает сожаление и откровенное недоумение.
Я смотрел в чистое небо. Хотелось распрощаться с Эйхманом и уйти по своим делам, но я медлил. Не желал выглядеть грубым.
– Так как дела в Венгрии? – спросил я, планируя на том и окончить наш разговор.
– В Венгрии, как и везде, – тут же встрепенулся Эйхман, – без помощи местных не справиться, благо в этот раз работаю с толковым малым – Ласло Ференци, начальник местной жандармерии. Но сколь хорош начальник, столь бестолковы подчиненные. Я всеми силами пытаюсь убедить еврейский сброд, что Германии сейчас нужны рабочие руки, что мы собираемся отправить их исключительно на производство. Но находятся идиоты из жандармерии, которые во время обысков с ухмылкой обещают, что из тех тут мыло сварят. И все! Слухи уже не остановить! Евреи разбегаются как тараканы по чердакам и подвалам, и приходится тратить колоссальные силы, чтобы их выкурить.
Я молча слушал, продолжая смотреть в небо, и время от времени кивал.
– Ты ведь знаешь: изначально я пытался лишь отправить их за пределы рейха, я честно пытался избавиться от них вполне человеческим способом. Но честь – это не для них, так что план этот потерпел крах. – В голосе его промелькнуло сожаление, я скосил удивленный взгляд на Эйхмана, но промолчал. – Не скрою, поначалу я был зол, ведь я потратил столько сил, чтобы наладить процесс депортации. А теперь, видишь, пришел к выводу, что так даже лучше… только так можно окончательно решить проблему этой напасти. Иначе где гарантия, что они не войдут в новую силу и не вернутся потом? Нет, фон Тилл, хороший еврей – мертвый еврей. С мертвым евреем подобных проблем не будет. Да и на кой черт он нужен миру живым? Существо, которое на протяжении всей своей истории затевает финансовые катастрофы, искусственные дефициты, столкновения, всю ту грязь, которая служит верным залогом всех крупных конфликтов…
Я внимательно смотрел на Эйхмана, но видел перед собой увлеченного порывистого мотоциклиста, затянутого в кожу, с мягкими белыми, почти женскими руками и таким же девичьим скошенным подбородком. Тогда, в окружении розенхаймских зевак, я слушал его зачарованно, но сейчас был поражен: во фразах и аргументах, казавшихся мне много лет назад непреложными и истинными, не было ничего нового. Снова эти попытки оправдать свои беды действиями другого народа, который по неведомой мне до сих пор причине принимает это.
– Все эти погромы, гонения, – говорил вроде бы Эйхман, а слышал я голос того мотоциклиста из Розенхайма моего детства, – к чему приводили? Они собирались с силами и становились еще хитрее, выносливее, циничнее, лживее. Мы должны положить этому конец. Европа еще будет нам благодарна, когда уляжется пыль военного времени.
Я посмотрел на трубы крематория. Сегодня дымил только один. Неровный столп медленно уплывал ввысь, растворяясь в небесной голубизне без следа.
– Когда уляжется пепел военного времени… – медленно проговорил я вслед за Эйхманом, делая вид, что участвую в диалоге.
Эйхман затянулся и внимательно посмотрел на меня. Затем перевел взгляд на трубы.
– Цель, к которой мы идем, фон Тилл, оправдывает все наши средства, – выспренно проговорил он, – мы обязаны переступить через этот пепел и построить на нем новый мир.
Затем он вдруг пожал плечами и проговорил уже совершенно будничным тоном:
– Я хорошо помню свою первую депортацию, фон Тилл. Не эвакуацию, а именно депортацию. Это было в феврале сорокового. Евреи из Штеттина, тысяча триста. Их отправили в Люблин. Мне тогда казалось: это огромная толпа! И как же, думал я, можно заставить такую толпу встать и идти туда, куда нужно нам? Неважно, день или ночь на дворе… Можем ли мы просто приказать им оставить их дома, лавки, киоски, фабрики? Я хотел понять, что скажут поутру их соседи, когда увидят опустевшие дома? И я получил ответы на все вопросы. Я понял: мы все можем и ничего не последует.
Неожиданно он пошел вперед, сделав мне знак следовать за ним. Некоторое время мы шли молча, пока Эйхман снова не заговорил. Было в его тоне что-то походившее на скрытое недоумение и возмущение одновременно, но к этому примешивалось и некоторое оправдание, но я никак не мог взять в толк, на кой черт оно Эйхману.
– Их поразительная способность выворачивать все себе на пользу даже здесь проявилась. Я как-то раз наблюдал одно выступление в небольшом городке, где работала моя группа. Всех евреев согнали на главную площадь, и там, пока ждали транспорт, какой-то раввин возжелал говорить. Неожиданно он вспомнил не самый похвальный факт их истории, когда они сами же судили Христа и вынесли ему смертный приговор. Как по мне, распяли и распяли, что ж теперь, – в конце концов, их еврей. Но тот раввин призвал вспомнить, что кровь Христа на их совести. И он сказал, как сейчас помню, клянусь тебе: «Не настал ли момент, когда мы должны ответить за пролитую кровь? Так смиримся же и ответим достойно, как дóлжно народу избранному! Не будем сопротивляться святому искуплению и понесем наказание. Покоримся и пойдем смиренно с молитвами и мыслями о нем…» Я был поражен! Они упивались своим страданием!
– Разве евреи верят, что Иисус – Богочеловек? – Я приподнял бровь, глядя на Эйхмана с иронией, от него это не укрылось. – Насколько мне известно, у них несколько иной взгляд на этого персонажа.
– А вот поди ж ты, некоторые уверовали, судя по всему. Оно и понятно, идея искупительной жертвы весьма привлекательна в их ситуации: она покрывает их безволие. Вредная идея, но нам во благо. Поначалу я даже решил, что раввин подкуплен кем-то из наших. Так просто – одним словом – заставил покориться огромную толпу! А ведь при желании она могла смять горстку охранников! Раввин все сделал за нас.
Эйхман посмотрел на меня, едва заметно улыбнувшись плотно сжатыми губами. Я ничего не ответил. Мне по-прежнему хотелось избавиться от него: чем дольше он говорил, тем надсаднее у меня ныло в затылке. Жара становилась все нестерпимее.
– Ты понимаешь, что это было?! Те евреи свели роль всей нашей лагерной системы к очередному испытанию для своего несчастного народа! Всего лишь новый этап в тысячелетних страданиях, которые они возвели в абсолют. Очередное испытание веры! Получается, этот народец обхитрил нас, фон Тилл: посредством нас они искупают свой личный долг! Каково, а?! Мы лишь инструмент, помогающий им обелить себя за давнюю промашку, так сказать. Так по этой логике что же они хают нас?
– Это убийственная логика, Эйхман. Чаще делись этими мыслями с окружающими. Это многим поможет сжиться с происходящим.
Я помолчал.
– Ты действительно веришь, будто Иисус хотел, чтобы за него мстили?
Эйхман перевел на меня удивленный взгляд, нижняя часть его лица медленно ширилась в насмешливой улыбке:
– Да на кой черт мне их Иисус со своими желаниями? Мы не мстим за него, да и вообще плевать на него. Но если такое восприятие помогает нам вести в газ сотни тысяч без боя, то я не против. Мне и так хватает проблем с организацией транспорта и улаживанием всех административных проволочек.
Постепенно боль опоясала всю мою голову, перекинувшись на виски. Я с трудом сдержал порыв сжать их, не желая выказать слабость перед Эйхманом. Он меж тем продолжал.
– Кто бы знал, как это все сложно. Казалось бы, собрать, затолкать в вагоны – и поехали. Как бы не так! Веди бесконечные переговоры, выбивай согласие у всех причастных министерств, а у каждого свои условия и пожелания, как будто у заказчиков грандиозного праздника. Каждый раз мне приходится запрашивать Министерство транспорта, которое, в свою очередь, должно связаться с армейскими, чтобы те проверили, не пойдут ли мои транспорты через места их операций, и дали добро. Но и тем и другим плевать на мои сроки, они постоянно задерживают ответы на все мои запросы. Отсюда простой забитых под завязку эшелонов, а коменданты потом недовольны, что им на платформы вываливаются полутрупы, непригодные к труду. А взять банальное возмещение расходов железнодорожным компаниям? Война войной, но скидок мне никто не делает, более того, все они требуют с меня оплаты в их национальной валюте! Грекам подавай драхмы, французам – франки, итальянцам – лиры, сербам – динары, голландцам – гульдены, но и марки, конечно, нужно иметь, ведь у Рейхсбана[6] мы тоже не имеем никаких преференций, хотя, казалось бы… Так что я как заправский меняла: приходится заниматься валютно-обменными операциями по всей Европе, выискивать самый выгодный курс. Ведь в бюджет даже не заложена графа на разницу курсов! И, чтобы хоть как-то компенсировать эти затраты, я должен заниматься еще и продажей конфискованного еврейского имущества, – с откровенным возмущением проговорил Эйхман.
– То есть они сами оплачивают свою доставку в газовые камеры? – уже довольно бесцеремонно перебил я, желая как можно скорее прекратить разговор, но тем самым лишь еще больше раззадорил Эйхмана.
Он возмущенно затряс руками.
– Оплачивают – это когда тебе принесли и заплатили! А мы сами возимся с их барахлом и банковскими счетами. А поиск поводов?!
– Поводов? – довольно рассеянно пробормотал я.
Эйхман тяжело усмехнулся:
– Да, представь себе, подбрасывать кости, чтобы подкармливать заграничную прессу, – тоже на мне. Любая акция вызывает бурную реакцию за границей, как бы мы ни пытались делать все тихо. И каждый раз я должен найти и согласовать определенный повод: будь то нападение на нашу полицию, обнаружение взрывчатки в синагоге для атаки на немцев, валютные махинации и прочая ерунда. А еще приходится упражнять свою фантазию и в выдумывании бесконечных названий для всего этого. Ты не представляешь, как усложняет жизнь невозможность называть вещи своими именами. Всем процессам я вынужден придумывать названия, которые не будут прямо говорить о происходящем, но и не позволят Управлению прислать мне отказ на обеспечение.
Я вспомнил, как совсем недавно через мои руки прошли докладные, в которых газовые камеры Аушвица фигурировали под названием «Малое отделение ”Операции Рейнхардт”[7]», а бараки с вещами заключенных – «камерами дератизации и исполнения ”Операции Рейнхардт”».
– И если нужно признать существование Бога, чтоб хоть как-то уменьшить мою головную боль со всем этим, то я первый же и скажу им: «Бог есть! А теперь марш в печь – искупать свою вину перед ним!»
Эйхман усмехнулся, необычайно довольный собственной шуткой.
– Итак, наш успех держится на религиозных фанатиках, – с некоторой усмешкой констатировал я.
– Причем на фанатиках с обеих сторон, – совершенно серьезно кивнул он, – фанатизм народной массы, верящей в своего идола, – самый мощный инструмент, который только можно иметь в своем распоряжении.
Я так и не понял, причислял ли Эйхман себя к этим фанатикам. Он говорил так, будто находился над этой фанатичной толпой, но в то же время я не мог поверить, что человек, не проникнутый этим фанатичным духом, способен делать с таким усердием то, что делал он, и при этом… нет, не засыпать каждую ночь – черт бы с ней, с моралью, она была удушена в бункере вместе с первой же партией советских военнопленных, – но сохранять столь явное воодушевление и необычайно сильную жажду деятельности.
– Я не душу этот сброд своими руками, я даже ни разу не прикасался к ним, – неожиданно продолжил Эйхман, словно бы я высказал свои мысли вслух, – это правда. Но когда-нибудь мир поймет, что его чистота – целиком и полностью моя заслуга. Я гоню их в гетто и, пока держу там, нощно и денно формирую эшелоны, я слежу за графиком перевозок, договариваюсь о транспортах, сопровождении и прочих мелочах, которые остаются за кулисами. Ведра, черт их дери, ведра! Понял? Недавно мне пришлось решать вопрос ведер в вагоны, сам понимаешь для чего. Мерзость?! А мне приходится думать и об этом и выискивать средства.
– Когда твои люди впихивают по сто человек в один вагон, боюсь, эта забота лишняя. Там не то что ведро некуда поставить, они там и вторую ногу опустить не могут. Я присутствовал при приемке.
Его лицо помрачнело, он пожал плечами. Мимо прошли караульные и отсалютовали. Эйхман даже не глянул на них. Очевидно, он углядел в моих словах упрек.
– Ну уж, скажешь тоже… По сто человек… ну, может, разве когда в партии много детей, но так тем объективно нужно меньше места.
– Но больше воздуха…
– Но меньше места, – уже с нажимом повторил он, – а воздух, что ж, воздуха у них пока вдоволь, нам некогда конопатить вагоны. Все это не самая легкая работа… делать этот мир лучше.
– Ты счастливый человек, Эйхман: веришь в то, что делаешь. Любопытно, насколько ты уже сделал этот мир лучше? – неожиданно спросил я. – Я имею в виду цифры. Ведешь какой-то подсчет?
– Интересно, что ты спросил об этом, – проговорил он. – Буквально на днях Мюллер прислал ко мне профессионального статистика, доктора Рихарда Корхера. Довольно известная личность в научных кругах, при этом, кстати, не является членом СС, однако определенное влияние имеет. Говорят, сам рейхсфюрер к нему часто прислушивается. Так вот, этот Корхер составлял подробную статистическую таблицу по нашему вопросу. Поначалу я решил, что это было распоряжение Гиммлера, но, когда вслед за Корхером прямиком с Принц-Альбрехтштрассе прибыла специальная печатная машинка с большими литерами, я понял, откуда ноги растут.
Я с недоумением посмотрел на Эйхмана. Он пояснил.
– Конечно, мало кто знает об этом, – с неприкрытым самодовольством проговорил он, – это специальная машинка, на которой печатают отчеты лично для фюрера. Я тут же распорядился предоставить Корхеру все дела вне зависимости от грифа. К тому времени он уже имел подобную подборку практически от всех управлений. Когда он объединил все эти отчеты, то цифра вышла весьма… – он подбирал слово, пожевывая нижнюю губу, – впечатляющая. Весьма. Я не имею права ее разглашать, но могу тебя заверить, нам есть чем гордиться. А впрочем… – Эйхман задумчиво посмотрел на меня.
В это мгновение я понял, что так до конца и не был уверен, хочу ли услышать эту цифру, но, прежде чем я успел что-либо произнести, Эйхман выпалил:
– Четыре миллиона в лагерях уничтожения. Сюда я уже добавил наши венгерские планы и планируемые чистки в гетто. Еще около двух миллионов на счету айнзацкоманд, оперативных групп плюс естественная убыль. То есть всего…
– Шесть миллионов.
Словно со стороны я услышал свой чуть охрипший, но совершенно спокойный голос. Мне и до этого было нестерпимо жарко, но сейчас захотелось распахнуть китель полностью, я с трудом поборол и это желание. Головная боль накатила с новой силой. Эйхман продолжал говорить, но его слова с трудом пробивались сквозь туманную болезненную муть, которой заволокло голову. На кой черт я спросил его об этом? Он держал эти цифры при себе, но легкость, с которой он расстался с «секретом», указывала на то, что осознавать их в одиночку было не самым простым делом. Я вдруг понял, что, не спроси об этом, он бы вскоре сам завел разговор на эту тему.
– В манускриптах индийских мудрецов сказано, что человеку для идеальной жизни нужно каждый день заглядывать внутрь себя и спрашивать: «Что я сделал, что еще надо сделать и что я могу сделать из того, что еще не сделал?» Уверен, я бы сразил и мудрецов этими цифрами. И они бы согласились, что мною сделано уже все возможное. Но мне по-прежнему есть к чему стремиться. Они же как паразиты: попрятались и размножаются…
Шесть миллионов… Я никак не мог поверить в эту цифру, она продолжала казаться мне надуманной, но я был уверен, что сам Эйхман ничуть не сомневается в ней. Я тряхнул головой, пытаясь сфокусироваться на его словах.
– Полагаю, Гиммлер был счастлив, предвкушая, как он впечатлит этими цифрами фюрера, но увы. Опять же, строго между нами. Мюллер сообщил, что Гиммлеру не удалось передать отчет лично фюреру. Папку пришлось отдать Борману, а тот ее вскоре вернул – заявил, что слово «ликвидация» неприемлемо в отчете для Гитлера. Мы отредактировали текст, но, насколько мне известно, Борман так и не отдал ее фюреру.
– Почему? Уверен, фюрер был бы доволен теми впечатляющими цифрами, которые вы не имеете права разглашать, – многозначительно добавил я.
Эйхман не заметил иронии в моих словах.
– Знаешь, что я думаю, фон Тилл… дело в том… не пойми меня превратно, мы всё делаем правильно… но… – Эйхман нахмурился.
Я чувствовал, что слова он уже давно нашел, но попросту не решался их произнести.
– Думаю, фюрер просто избегает официального ознакомления с ситуацией, – наконец выпалил он и тут же быстро продолжил: – Безусловно, еврейский вопрос требует решения, это все понимают. Однако этот вопрос решается, как бы так правильнее выразиться, без его прямого вмешательства. Им занимаются все вокруг, так или иначе этому подчинены все наши ведомства, но… официальное вмешательство главы рейха в этот вопрос не требуется. По крайней мере, так считает его ближайшее окружение или… или… возможно, и он сам. Это… вопрос… вопрос, скажем так, некоторой… Впрочем, какая разница? – резко оборвал он себя. Я прекрасно понял, какое слово он так и не заставил себя проговорить, – «ответственность».
– Ты веришь в то, что он лично отдавал такой приказ? – в лоб спросил я.
Эйхман уставился на меня долгим взглядом, в котором сквозила безотчетная тревога. Он был похож на ребенка, которому испортили праздник, но который еще не понимал, чем именно. Он лишь видел, что музыка прекратилась, а клоуны расходились.
– Я верю в то, что фюрер дал понять своему окружению, чего он хочет и в чем есть необходимость. И его поняли в точности. Но сам он… Безусловно, никто не смеет претендовать на то, что мысль о полном истреблении впервые зародилась в его голове: ни покойный Гейдрих[8], ни Гиммлер, ни тем более я. Она исходила исключительно от фюрера. Но я не уверен, что он хоть раз облек ее в точный, четкий, прямой приказ. Фюрер умеет построить речь так, что, ни разу не назвав действие, он заставит своих подчиненных исполнить это действие со всей возможной точностью. Я думаю, в природе не существует ни одной бумаги за личной подписью фюрера, где прямо сказано «уничтожить такое-то количество евреев в газовых камерах» или что-то в этом роде.
И он замолчал. В его глазах мелькнул безотчетный испуг за только что произнесенное. Понимая, однако, что сказанного не воротишь, он терпеливо дожидался моей реакции. Я помедлил и неожиданно задал еще один прямой вопрос:
– Эйхман, ты веришь в то, что делаешь, – это ясно. Но веришь ли ты все еще в победу?
Желал ли я окончательно добить Эйхмана или попросту мстил ему за свою ужасающую головную боль – я и сам не осознавал. Он не изменился в лице, лишь едва заметно наклонил голову набок. Почему я раньше не замечал, сколь болезненный у него вид? Припухшие веки, лопнувшие капилляры, желтоватые круги под глазами, еще этот омерзительный запах изо рта… Ему бы следовало проверить печень.
– Германия проиграла войну, это ясно, и лично у меня нет никаких шансов. Союзники считают меня одним из главных военных преступников уже сейчас. Когда они доберутся до наших документов или просто пересчитают по головам оставшихся, мне крышка.
Мы продолжали смотреть друг другу в лицо.
– Все твои слова о благодарности Европы после того, как уляжется пыль военного времени…
– …не стоят и выеденного яйца, – кивнул он, – но что еще я могу говорить? В любом случае мне не в чем себя упрекнуть. Я преданный солдат своего фюрера и всегда на сто процентов отдавался делу. Я никогда не отлынивал.
Эйхман перевел взгляд на дорогу, ведущую в лагерь от станции. По ней медленно двигалась колонна только что прибывших заключенных. Они еще были в гражданской одежде.
– Посмотри туда, – проговорил он.
Я проследил за его взглядом:
– Что там? Толпа евреев идет к крематорию.
– Вот именно. Они идут… сами. А отвечать мне.
Он развернулся и пошел обратно в комендатуру.
Я снова закурил и посмотрел на заключенных.
Уже через неделю лагерь сотрясло небывалым потоком узников. То, что происходило в течение предыдущих месяцев и казалось мне небывалым, померкло в сравнении с тем, что лагерь испытывал в дни венгерских депортаций. Транспорты шли один за другим, выплевывая на платформу в Биркенау толпы ошалелых и ничего не понимающих евреев. Команда Эйхмана чистила Венгрию по четко намеченному распорядку: вначале поезда шли из Карпатской Руси, затем из Трансильвании, потом – эшелоны из Северной Венгрии, далее из Южной и, наконец, из западной части страны. Для работ отбирали лишь малую часть – иногда всего тридцать процентов из целого эшелона, порой не доходило и до десяти. Остальных без промедления отправляли в газовые камеры.
И эсэсовцам, и рабочим командам приходилось трудиться круглосуточно в три смены, камеры и крематории не простаивали ни минуты. Но мощностей не хватало. Состав зондеркоманд увеличили в четыре раза, теперь в крематориях работали девятьсот человек, но и они едва справлялись с нагрузкой.
– Наша авиация приказала долго жить. Американские бомбардировщики практически уничтожили предприятия, которые производили горючее. Шпеер кинул все силы на восстановление, но топлива для люфтваффе фактически нет. Дефицит сырья колоссальный.
Мы стояли с Габриэлем на платформе в тени каштанов, наблюдая, как из вагонов выходили люди. Их лениво теснили конвойные, изнывавшие от жары в полном обмундировании. Габриэль достал манерку, предложил вначале мне, я отказался, он сделал глоток. Я вытащил платок, утер пот и произнес:
– Нам еще повезло, что они только сейчас догадались бомбить нас из производственных соображений.
Впрочем, серьезный урон нашим военным заводам был нанесен еще прошлой весной, когда стало гораздо больше англо-американских бомбардировок, но тогда это ощущалось не так катастрофично, ведь фабрики Северной Италии, Бельгии, Франции и Чехословакии продолжали выдавать норму на благо рейха.
– Какая разная война, – усмехнулся доктор. – Стрельба где-то там, на территории противника, – это одна война, но бомбы над собственной головой – совершенно иная война. Мы легко согласились на эту славную военную авантюру во имя великой цели. Ведь тогда она требовала от нас лишь потуже затянуть пояса для снабжения святого воинства, которое ушло куда-то в закат. Но, когда этому воинству дают пинка под зад и гонят обратно, тут-то мы и вспоминаем о том, что война – самое бесчеловечное занятие, которое нужно прекратить сей же час каждому цивилизованному человеку.
– Вы вспомнили, Габриэль? – Я даже не пытался скрыть усмешку.
– Безусловно! – и не думал отпираться он. – Я первый готов кричать об этом, размахивая белым флагом. Жизнь слишком прекрасна, чтобы так бездарно разбазаривать ее. Но, глядите, чем ближе мы к тотальному краху, тем грандиознее планы, которые строят наши ведомства. Время ли размышлять о наращивании производства? Думать надо о том, в какую сторону отправить первого гонца: на Запад или на Восток! И я склонен считать, что переговоры с Москвой будут продуктивнее, чем с Лондоном. Черчилль слишком любит демонстрировать свою любовь к правде, Сталин же человек практичный, с ним фюрер всегда сможет найти общий язык. Я почему-то уверен: среди высшего руководства немало настроенных прорусски, хотя, безусловно, антибольшевистски.
Я не хотел вступать в политические рассуждения.
Толпа продолжала стекать с платформы, словно не было ей конца. Я переводил взгляд с одной фигуры на другую, они постепенно сливались в один сплошной поток.
– Опять это лопотание, – устало проговорил я.
– Мадьярский язык весьма занятный.
– Вы их понимаете?
– Нет, что вы. Очень сложный язык, настоящий вызов для полиглота.
– Вызов для нас сейчас – эти бесконечные транспорты.
– Вы в курсе, что нам не хватает «Циклона»? – спросил внезапно доктор.
Я покачал головой.
– Газовые камеры не простаивают ни часу, значит, где-то его достают…
– Да, – кивнул Габриэль, – не простаивают. Но в целях экономии приказано сократить дозу. То количество, которое засыпали раньше, убивало довольно быстро, теперь же они… скажем так, процесс затянулся. Они долго находятся в сознании.
Я ничего не сказал. Впился взглядом в толпу, разглядывая измученные жарой и дорогой лица. Всем хотелось поскорее достичь блаженной прохлады душевых, после которых им были обещаны отдых и обед.
– Кто знает, возможно, среди этой толпы родственники тех, кто воюет за нас, – задумчиво проговорил Габриэль. – Вы знали, что Венгрия отправила нам в помощь на Восточный фронт солдат-евреев? Интересно, эти солдаты в курсе?..
– Весь мир уже в курсе, – с откровенной злобой проворчал я. – В любом случае венгры не такие уж и святоши, какими пытались казаться. Хорти[9] – он же и вашим и нашим. Слышал, он тайно обсуждал перемирие с союзниками.
Габриэль медленно закивал.
– Кстати, сегодня дочитал «Дона Карлоса»[10], которого вы мне дали, – вспомнил он. – Заставило поразмышлять о развращающем влиянии власти. Почерпнул еще одну цитату, которая примиряет с действительностью. «В этом мире никому не дано остаться безгрешным. Каждый человек неизбежно совершит грех».
– Что ж, автор был прав. Но вопрос насчет сознательности по-прежнему остается открытым.
– Вы правы, заметить и осознать – два разных качества ума.
На жаре снова начинала болеть голова. В последнее время это все чаще беспокоило меня.
– Вы слышали? Наше военное производство переводят под землю, – произнес я, пытаясь отвлечься от тягостного нытья в затылке и висках.
– Весьма грамотный шаг… – Габриэль кивнул, задумчиво разглядывая толпу, – …был бы в сорок первом.
Я не сумел сдержать улыбки, хоть его речи и навевали тоску. Доктор продолжал рассматривать выходящих из вагонов: ему необходимо было подготовить отчет об общем состоянии прибывших евреев, почти все из которых будут признаны «непригодными к работе». Габриэль имел соответствующее распоряжение.
– Тогда наша скорая победа ни у кого не вызывала сомнений, – резонно заметил я.
– У некоторых индивидуумов она и поныне не вызывает сомнений.
– Нужно отдать должное Геббельсу: он не опускает рук.
– Нужно отдать должное массовому помутнению рассудка. Все верят, что рабочих рук у нас в избытке и военное производство на плаву, а пресса только подпитывает эти сладкие заблуждения. А между тем Шпеер в отчаянии дерет волосы на собственной заднице.
Мы оба знали, что людей не хватало не только для наращивания производства, но даже для того, чтобы латать его после разрушений. Держать Европу в тисках становилось все сложнее, все потуги Заукеля по добыче иностранной рабочей силы приносили все меньше пользы.
Габриэль многозначительно посмотрел на меня, затем кивнул на толпу людей, бредущих к крематориям:
– Они уже здесь, и у них так же две руки и две ноги, как и у тех, кого пытается заманить сюда Заукель. Заодно была бы решена и проблема нехватки «Циклона». – Кажется, последнее было произнесено с некой долей сарказма.
Я устало вздохнул:
– Они евреи.
Впрочем, Габриэль и так все осознавал. Он знал, сколь долго и безуспешно я бился над разрешением противостояния между хозяйственниками и службистами безопасности, где вторые, как цепные псы, были нацелены на окончательное уничтожение евреев, как будто временное их спасение несло опасность бóльшую, чем полный крах нашего производства. Впрочем, сейчас это касалось только венгерских партий. Уж не знаю, чем именно они выделились. Но остальных все-таки начали направлять на работы. За последние шесть месяцев построили даже больше рабочих лагерных филиалов, чем за предыдущие три года. Однако рацион заключенных снова урезали. Некоторые получали меньше семисот килокалорий в день. И это те, кто был задействован на тяжелых работах. На таком пайке в большинстве своем они были способны работать лишь на треть от своих возможностей. И в такой патовой ситуации коменданты вполне объяснимо не видели никакой выгоды в сотрудничестве с промышленниками. Как это ни прискорбно, но тут я понимал Хёсса.
– Эйхману следовало сосредоточиться исключительно на тех, которые способны трудиться. А он, судя по всему, опять идет на поводу у местного правительства, которое пытается впихнуть ему всякий сор, – Габриэль кивнул на толпу.
Согласно директивам, предельный возраст присылаемых нам евреев был шестьдесят лет, все должны были быть трудоспособными, а главное, никаких женщин и детей – насколько я знал, Хёсс лично условился об этом в Венгрии, – но Габриэль был прав: везли всех без разбора. Эйхман все валил на венгерскую жандармерию, но я был уверен, что он и сам был не против спихнуть нам всех скопом.
– Боюсь, как бы к этому потоку не присоединились еще и словацкие евреи. Слышал, что Веезенмайер[11] параллельно ведет переговоры в Словакии о включении их евреев в венгерские операции, но Тисо[12] пока непреклонен.
Доктор Линдт поморщился.
– Нет ничего хуже этих фашиствующих клерикалов. Их руки по локоть в крови, но каждый день они усиленно обмывают их святой водой и обтирают о сутану. Уверен, на самом деле он бы и рад в очередной раз отгрузить нам партию евреев, но, кажется, Ватикан наконец надавил на одного из своих сынов.
– Он заставил понервничать Эйхмана.
– Вы про то, как он усиленно сбагривал нам евреев, да еще и требовал гарантий, что они больше никогда не вернутся в Словакию? А потом внезапно потребовал предоставить этих «переселенцев» живыми и здоровыми? О да, эта история многих позабавила. Положение обязывало играть плохой спектакль, – улыбнулся Габриэль и задумчиво добавил: – Думаю, скоро всем нам предстоит стать профессиональными актерами. Как у вас с лицедейством, гауптштурмфюрер фон Тилл?
– Отвратительно, – честно признался я.
– Вам нужно было взять несколько занятий у Римана[13], когда была такая возможность, – усмехнулся доктор.
– Многим следовало это сделать. Как только пришло осознание.
Габриэль посмотрел на меня.
– Вы об Эйхмане? Думаю, к нему осознание пришло еще после Сталинграда, когда Антонеску[14] отказался выдавать ему своих евреев и болгары вдруг тоже возжелали защищать своих. Все вдруг попытались восстановить разрушенные мосты. Но Эйхману по ним, увы, никогда уже не перейти обратно, сколько бы уроков Риман ему ни дал.
– При Сталинграде Эйхман потерял своего младшего брата.
– В катастрофе Сталинграда каждый из нас кого-то или что-то потерял.
– А лично вы?
– Последние иллюзии касательно нашей победы.
По лицу Габриэля чиркнула тень, он вскинул голову. Широко раскинув крылья, над нами парила крупная птица. Протяжно крикнув, она изменила траекторию полета и поплыла по небосводу в сторону горных очертаний. Я провожал ее взглядом.
– Как бы то ни было, по какой-то извращенной логике Эйхман все-таки счастливый человек: он начал истово верить в то, что делает. Ведь только в таком случае мы получаем истинное удовольствие от своего существования, как уверяют мозгоправы.
– Что ж, скоро все останется в прошлом.
Габриэль покачал головой:
– Боюсь, масштаб нашего творения таков, что забвение в веках нам не грозит.
– Как это стало возможным, доктор Линдт?
– Нигде не было отказа. Я… я тоже в какой-то мере… я хотел, чтобы они исчезли… умерли, да, возможно. Но я определенно не хотел убивать.
Габриэль перевел на меня отрешенный взгляд.
Лагерный оркестр, обряженный зачем-то в синие матроски, беспрерывно играл отрывки из «Веселой вдовы» Легара. Под звуки оперетты венгерские колонны медленно текли к крематориям. Длинные составы без устали извергали измученную и озадаченную людскую массу и с опустошенным нутром возвращались обратно в Венгрию за добавкой. Только за май было собрано и отправлено в рейх сорок один килограмм коронок из драгоценных металлов. Из всего вала цифр и фактов, которые из документации просачивались в эти дни в мой разум, мне отчетливо запомнились именно зубные коронки.
В день мы принимали от двух до четырех транспортов, в самые тяжелые доходило до пяти. Некоторые эшелоны насчитывали до пятидесяти вагонов. И все они были забиты людьми и их скарбом. Я видел, что многие охранники и конвоиры уже едва стояли на ногах от усталости. Измученные, они с каждым днем зверели все больше, нарушая строгий запрет на насилие прямо на платформе. Распоряжение было отдано во избежание паники: сложно было представить, что могло случиться, если бы эти тысячи прибывших вдруг решили дать отпор. Но, к счастью, несмотря на вспышки жестокости среди охранников, прибывшие в массе своей продолжали утекать в крематории без эксцессов. В раздевалках не успевали убирать вещи и новую партию заставляли раздеваться, стоя на пожитках предыдущей, пока еще одна ожидала своей очереди в лесу между третьим и четвертым крематориями. Пытаясь сохранить хоть какой-то порядок, Хёсс постоянно ездил в Будапешт, чтобы воспрепятствовать самовольному увеличению утвержденных эшелонов со стороны Эйхмана. Но все равно бывали дни, когда количество поездов превышало установленную норму. Тогда ничего не оставалось, как держать запломбированные вагоны на боковых путях, пока не заканчивалась разгрузка предыдущей партии.
Приходили вести, что русские уже подошли к восточной границе Венгрии. От этих новостей охранники приходили в еще большую ярость, нежели от количества эшелонов. Я подозревал, что этой яростью они маскировали обыкновенный страх.
Через несколько недель из-за чудовищных перегрузок одна за другой ожидаемо начали перегорать печи. Тогда в дело вступили рвы, приготовленные загодя. Огромные костры горели днем и ночью, распространяя на многие километры вокруг нестерпимое зловоние. В ядовитом дыму все мы оказались равны: одинаково задыхались и заключенные, и охрана, и высшее руководство лагеря.
Вернувшись после очередной поездки в Будапешт, Хёсс пригласил меня на чай. Как я сразу понял – жаловаться.
– Эйхман окончательно сошел с ума со своей миссией и не видит берегов! Потом весь мир будет верещать о моем животном желании убивать, в то время как у меня нет никакого другого выхода! Эйхман шлет совершенно бесполезный сброд в плане рабочих рук! Идиот, он, похоже, не осознает, что первый же и встанет к расстрельному рву, если мы проиграем! Глупый беспринципный павиан! Нет, Венгрия из нас все жилы вытянет!
Давно я не видел Хёсса в такой ярости.
– Многие из тех, кого мы отправляем в газ, в состоянии работать – как женщины, так и мужчины, – возразил я, – да и многие пожилые в неплохой форме.
– Нет-нет, – он тут же замотал головой, – я их видел: совершенно непригодный материал. Я еще молчу, что потребность в охранном пополнении колоссальная. Все достойные охранники на передовой! А вермахт присылает нам откровенное отребье. Большинство из них резервисты под пятьдесят. Если так пойдет и дальше, то к концу года больше половины лагерной охраны будет состоять из этих стариков. Им не под силу лагерная служба! А многие даже в партии не состоят. Образ идеального политического солдата… элита нации… где это все?
– Приказало долго жить под давлением реалий. – Я пожал плечами. – Кого еще они могут прислать?
Хёсс был прав. Лагерям теперь оставалось довольствоваться теми, кого больше нельзя было использовать на передовой: ранеными, контужеными или стариками, не способными более держать оружие. Сюда еще можно было добавить разжалованных, которым раньше никто из нас и руки бы не подал, и иностранцев, едва способных связать два слова по-немецки. Ах да, еще маргиналы и уклонисты, которые и сами заслуживали треугольника на груди.
Хёсс сокрушенно качал головой:
– Все принципы Эйке, идеологическая подготовка – все забыто и попрано! Принимают даже гражданских, видел? Таможенников и железнодорожников. Они не только позволяют себе разговоры с заключенными, но даже их жалеют! Они поддерживают режим скорее из страха.
– Не стоит льстить режиму, Рудольф, страх был всегда. Боюсь, все идет к тому, что это и останется высшим достижением режима.
Хёсс посмотрел на меня и с горечью усмехнулся:
– Сейчас уже никто не стесняется в выражениях. Все осмелели.
– Эти ветераны многое понимают. Они осознают, что конец близок. Думаешь, почему они не желают менять солдатский мундир на эсэсовскую форму? Она для них своего рода метка, от которой теперь лучше избавиться.
– Но на что они надеются, пытаясь дистанцироваться от лагеря в самом же лагере?!
– Как минимум – не поменяться с узниками ролями. А еще лучше – купить обратный билет в послевоенный мир. Нам с тобой его, увы, не продадут. – И я торжественно приподнял чашку, показывая, за что пью. Жаль, в ней был не хороший коньяк, а всего лишь чай.
– Проблема в комплектовании стоит остро на всех уровнях, – не унимался Хёсс.
Он упорно не хотел замечать моего состояния и явного нежелания обсуждать все это всерьез. Я даже не пытался скрыть полнейшей скуки на лице.
– Это касается не только охранной части, но и административной, – продолжил он, с трудом справляясь с негодованием, которое начало меня забавлять, – заключенных теперь приходится привлекать даже к бумажной работе с нашей внутренней корреспонденцией. А ведь нельзя, чтобы они знали, что происходит на фронте. Это даст им надежду… Понимаешь, о чем я говорю? Если они осознáют, что наше поражение всего лишь вопрос времени, эти полутрупы выживут хотя бы для того, чтобы поглядеть, как нас растерзают победители.
– Стимул достойный, – кивнул я.
Хёсс помрачнел.
3 мая 1994. Тетради
Старая посылочная коробка с фанерными боками была покрыта толстым слоем пыли. Крышка вздулась, чернила на криво приклеенной адресной бумажке расплылись. Разобрать написанное было уже невозможно.
Лидия подцепила отверткой крышку и откинула ее. В лицо ей пахнуло сыростью. Внутри лежали раздувшиеся, скрученные влагой и плесенью черные тетради.
– Крыша у нас текет, по весне особенно подмачивает, – со вздохом проговорила Раиса, – перестилать надо, да где наберешься? Ни шифера, ни железа не достать. Есть люди, да через них дорого выходит. Да впрочем, – усмехнулась вдруг она, – чего жаловаться?! Бабка, помнится, говорила: до тех пор, пока выкидываем жмых из соковыжималки в мусор, жизнь у нас хорошая. Как начнем и его жрать, значит, всё… Узнала потом, что в голодный год мать гоняла ее, маленькую, к фабричной трубе: по той трубе сбрасывали в реку свекольный жмых после переработки. Полдеревни тем жмыхом кормилось…
