Большая книга тёмных сказок Руси бесплатное чтение
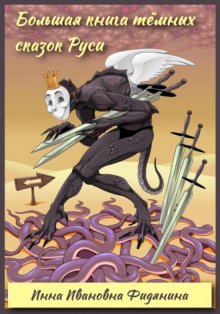
Тёмнорусь
/ Из книги «Взыскание о граде сокровенном Китеже» /
О запустении града того рассказывают отцы, а они слышали от прежних отцов, живших после разорения града и сто лет спустя после нечестивого, безбожного царя Батыя, ибо тот разорил всю ту землю заузольскую, а села огнем пожег. С того времени невидим стал град тот и монастыри его.
Сию книгу-летопись мы написали в год 6759 (1251)
/ Легенда о славном Китеж-граде, который покоится на дне озера Светлояр близ села Владимирского в Нижегородской области /
В конце 12 века повелел князь Юрий Всеволодович Владимирский построить на берегу озера град Большой Китеж. За дело принялись немедленно, и народ потянулся туда жить. А в 1237 году на Русь вторглись монголы. Услышал хан Батый о богатствах, что хранились в граде Китеже, послал он войска на город. Вел татар предатель Гришка Кутерьма, которого взяли в соседнем городе, Малом Китеже (нынешний Городец). Но в тот день близ Большого Китежа несли дозор три богатыря. Увидев врагов, один из них приказал мальчонке бежать в Китеж и предупредить горожан, тот кинулся к городским воротам, но стрела врага догнала его. Со стрелой в спине добежал малец до стен, крикнул: «Враги!» и упал замертво. Богатыри пытались сдержать ханское воинство, но погибли. На том месте, где они сражались, появился святой источник Кибелек. Монголы же осадили город. Горожане вышли на стены с иконами в руках и молились всю ночь. И тут свершилось чудо: зазвонили церковные колокола, затряслась земля, и Китеж стал погружаться в озеро Светлояр. Потрясенные монголы бросились врассыпную, но божий гнев настиг их: они заблудились в лесу и пропали. А город Китеж исчез. Но увидеть его может любой, в ком нет греха: отражаются церковные маковки и белокаменные стены в водах святого озера Светлояр.
/ 2013 год, одно из сёл вблизи Городца (Малый Китеж) /
В магазин зашел старичок-бедовичок с длинной, окладистой бородой, в суконной рубахе и лаптях. Попросив хлеба, он протянул старинные монеты времён монголо-татарского ига и спросил:
– Как сейчас на Руси? Не пора ли восстать граду Китежу?
Изумленная продавщица не нашлась с ответом, а старичок-бедовичок взял хлеб и ушел восвояси.
Ай, нe небо разгоралось,
то Земля наша качалась!
А ты спи, сынок, и слушай:
напою тебе я в уши.
А знаешь какая наша Земелька с космоса? Тёмное небо и маленький, круглый шарик, а на нём торчат огромные ели, сосны и дубы! А Русь наша сверху знаешь какая? Блином пушистым на земле лежит, всем ворогам в рот просится. А ещё град у нас есть сладкий-пресладкий, как варенье ежевичное – то старый, добрый Нижний Новгород. Вот поодаль от куполов новгородско-ягодных, и расстелилось зелёное покрывало – то буйный лес, а рядышком оладушек румяный раскинулся – святое озеро Светлояр. Из глади его вод блестят и переливаются золотые маковки церквей Большого Китежа, и доносится из глубины глухой звон колоколов. Это целый город под водой живёт. А как он туда попал – слушай дальше.
1. Левый берег святого озера Светлояр (Бедовичок – святой старец)
Как сбирали девки цветочки
да пускали в воду веночки,
пели песни всё невеселые,
а сами сонные, квёлые.
А за девками малый Китеж-град:
ни хорош, ни плох, а так и сяк.
С давней поры мамаевой, с того самого дня, когда злой хан Батый разорил Малый Китеж, а в светлые воды озера Светлояр со всеми церквями да куполами ушёл Большой Китеж, время в Малом Китеже остановилось. Поэтому каждый день тут был Батыевым днём 6759 года. И люди к такому ходу событий мал-по-малу привыкли, они так и говорили:
– Старый век провожай, а новый век не сыскивай.
Вот в тот самый Батыев день и волоклась по улицам Малого Китежа жалкая лошаденка, везла телегу с сеном. Извозчик спал, а по обе стороны дороги вяло суетились горожане. Скрипя и охая, телега подъехала к старой, покосившейся хате, в огороде которой не было даже и намека на грядки. Лишь посреди двора стояла привязанная к колышку коза с печальными глазами и ощипывала землю под ногами. Лошадка фыркнула, остановилась, извозчик проснулся, в сердцах плюнул наземь, скинул козе сено и повернул свою кобылу обратно, а коза неспешно принялась жевать сено. А внутри хаты за ветхим столом, среди берестяных свитков, сидел смешной старичок с длинной седой бородой и дописывал свою «Летопись прошлых лет»:
«О запустении града Большого Китежа рассказывают отцы, а слышали они от прежних отцов, живших после разорения града и сто лет спустя после нечестивого, безбожного царя Батыя, ибо тот разорил ту землю заузольскую, а сёла да деревни огнем пожег. С того времени невидим стал святой град Большой Китеж и монастыри его. Сию книгу-летопись написали Мы в год 6759.»
Старичок поставил гусиным пером жирную точку, подскочил и пустился в пляс. Вприсядку он вывалился на улицу, метнулся к козе и давай ее целовать! Коза перестала брезгливо жевать траву, удивлённо посмотрела на хозяина, а тот чуть ли не душит её от счастья:
– Написал! Написал я летопись, Марусенька. Узнает! Узнает народ теперича всю правду ту про Китеж-град Великий!
Коза лишь хрипела:
– Отвяжи!
– Да, да, родимая! – старик ещё раз поцеловал козу и забыв её отвязать, покатился к городским воротам.
Маруся с несчастными глазами посмотрела ему вслед, печально вздохнула и продолжила жевать своё сено. А старикашка уже несся мимо вялотекущей жизни горожан, его мысли были заняты лишь тем, как потомки воспримут его «Летопись прошлых лет». Граждане же, завидев старичка, неспешно кланялись иль испуганно крестились, а то и вовсе брезгливо плевались и говорили друг другу:
– Глянь-ка, наш святой старец куда-то лапти навострил!
– Дурно пахнет такая святость!
– Уж прапрадеды наши все издохли, что ещё при нём родились!
Но старичок, не замечая их лепет, выбежал за пределы города и поспешил к святому озеру Светлояр. А у озера кипела своя особенная, неспешная жизнь: малокитежские девки собирали на полянках цветочки, плели веночки и пускали их в воду. И так каждый день, из века в век. Парни ждали, ждали, когда все лютики на полянках закончатся, даже пытались их косить косой, но всё зря, вырастают проклятые снова и всё тут! Ну и ушли парни к вдовым бабам. А девки всё пускали и пускали свои венки, да песни горланили, те что и ни к месту и ни ко времени:
Не дарите мне цветов, не дарите.
В поле нет их милей, не сорвите!
На лужайку опущусь я вся в белом —
разукрашусь до ног цветом смелым:
красная на груди алеет роза,
на спине капризнейшая мимоза,
на рукавчике сирень смешная,
а на подоле астрища злая!
Я веночек сотку из ромашек.
А знаете, ведь нету краше
жёлтого, жёлтого одувана
и пуха его белого. Ивану
я рубаху разошью васильками:
бегай, бегай, Иваша, за нами!
Беги, беги, Иван, не споткнись —
во всех баб за раз не влюбись,
а влюбись в меня скорей, Иваша;
разве зря я, швея-вышиваша,
васильки тебе вышивала,
да на подоле астрища злая
просто так ко мне прицепилась?
И зачем в дурака я влюбилась?
А цветов мне не надо ваших!
Я сама швея-вышиваша!
Во-во! Все Иваши в округе пытались им втолковать, что и вышивать то девки разучились. Но те их не слушали: рвали свои цветы и пели, рвали и пели, рвали и пели… Бог на небе и тот махнул рукой на девок:
– Ну и чёрт с ними, пущай балуются!
Но вернёмся к бурным эмоциям нашего старичка: залез он в святую воду по пояс и плачет от счастья. Девки, как ни странно, заметили святого старца: бросили, наконец, своё ни на минуту не прерывающееся занятие, пошли пешком по воде, окружили дедушку хороводом и снова запели:
Старичок-бедовичок,
он спасти Мал Китеж смог!
Старичок-бедовичок,
ты спасти Мал Китеж смог!
Устав водить хоровод, девки вышли из воды, не замочив даже подол у платьев и расселись на бережку:
– Дедушка святой старец, расскажи нам про Большой Китеж-град!
Старичок-бедовичок вылез из воды, выжал свои портки, лёг на траву-мураву и затянул свой рассказ, который рассказывал не менее тыщи раз:
– Помнится, было это в годину 6759…
И тут дед захрапел, а девки в грусти и печали разошлись собирать полевые цветочки да кидать в воду веночки.
2. Правый берег святого озера Светлояр (Бедовичок – молодой крестьянин-шут)
А мы перенесемся на другой бережок святого озера Светлояр, в прошлое, на несколько веков назад. На сколько – точно не скажу, сама не помню, но стоял всё тот же 6759 год. Где-то в сторонке возвышался чудесный город Большой Китеж, а на бережку девушки пускали в воду венки и пели:
Ой ты, бог всех миров,
всех церквей и городов,
защити и обогрей,
отведи врагов, зверей,
нечисть тоже уведи
да во дальние земли!
Бог на небе умиленно слушал девичью песню, улыбался и ласково уводил большекитежских парней подальше от девушек, в лес за грибами.
А я отведу вас в Большой Китеж. Какой же это был красивый град с шумными улицами, золотыми церквями, нарядными торговыми площадями, где торговали купцы, плясали скоморохи, попы венчали и отпевали, а крестьяне пахали да сеяли. Весёлый такой городище, богатый. Одна беда – не защищен, не укреплен, да и не вооружён! Но людям думать о том нет причины: знай, работай себе да гуляй, отдыхай!
Но бог он всё видит, он заботливый. Пришёл день и у доброй матери Амелфии Несказанной народилось дитятко богатырское, личиком аки солнце ясное, а на третий день жизни ростом он был, как семилеточка. Ходили люди дивиться на младенца невиданного, головами качали, говорили:
– Добрый мир при нём будет, добрый!
Так и назвали богатыря Добромиром. Рос Добромир не по дням, а по часам, не успела луна обновиться, как он в совершеннолетие вошёл, наукам разным обучался: письму да чтению. И науки те впрок ему пошли. Начитавшись о подвигах небывалых русских сильных могучих богатырей, заскучала наша детинка, затосковала: сидит в светлице своей средь старых книг, читает да тоскует, подперев щёку кулаком.
Вдруг раскрытая книга выпустила из себя блеклый свет и жалобно потухла, ну а потом и говорит:
Добромиру дома сидеть было плохо,
о «Вавиле и Скоморохах»
читать уже надоело!
Добромир удивился на чудо такое, но всё же ответил волшебной книге:
Не наше бы это дело
махать кулаками без толку.
Но если только…
на рать, пока не умолкнет!
Захлопнул Добромир в сердцах волшебную книгу и поплелся во двор колоть дрова. А книжица вдруг ярко осветилась и из неё вырывались наружу три призрачных, волшебных Богатыря на удалых конях! Стали богатыри биться в окошко, створки открылись-распахнулись, Выскочили могучие воины во двор, встали подле Добромира да как гаркнут зычными голосами:
Выйдем, мечами помашем,
домой поедем с поклажей:
копий наберём браных,
одеж поснимаем тканных
с убиенной нами дружины.
Хошь и тебе половину!
Дома тебе не сидится?
Не сидится, бери дубину!
И про тебя напишут былину.
Добромир понял, что эти богатыри лишь духи и все их слова – пустомельство. Отмахнулся от них детинка и продолжил рубить дрова. Богатыри же, потоптавшись немного во дворе, ускакали на небо, а там и сгинули. Добромир, глядя на них, конечно расстроился, воткнул топор в чурку и пошёл домой, но не в свою светлицу, а прямо в горницу матушки своей Амелфии Несказанной. Матушка в тот вечер сидела у печки, вышивала портрет любимого сына и что-то тихонько мурлыкала себе под нос. Добромир кинулся ей в ноги:
– Милая моя матушка Амелфия Несказанная, не к лицу мне, добру молодцу, взаперти сидеть в светлой горнице, на бел свет глядеть сквозь письмена заветные! Хочу я всяким военным наукам обучаться, удалью молодецкой хвастаться, своей силе сильной применение иметь!
Вздохнула добрая матерь, отложила в сторону своё рукоделие и сына жалеючи, отправилась за советом в палаты белокаменны, к городскому главе – посаднику княжьему Евлампию Златовичу.
А Евлампий Златович в ту пору был занят работой важнейшей, в просторных подвалах пересчитывал богатство города Большого Китежа: сундуки со златом да драгоценностями. Рядом с ним толкались ключник и старший советник, которые так и старались сбить со счёту городского главу да звали чай пить с пряниками сладкими. Тут вбегает к ним, запыхавшись, немой служка и жестами зовет посадника наверх, в палаты белокаменны. Евлампий Златович расстроился, что его оторвали от дел научных; и ругая всё на свете, а также самого себя за жалость к немому служке, поволок своих подданных в палаты. А в палатах томилась в ожидании Амфелия Несказанная. Завидев посадника, она кланялась низко, челом била, речь держала:
– Гой еси, отец ты наш Евлампий Златович, не вели со двора гнать, вели слово молвить за чадо свое ненаглядное, младого Добромира, единственного богатыря во всём великом граде Китеже. И стал свет ему не мил без дела ратного! Отправь-ка ты его на год-другой в стольный Киев-град, на заставушку богатырскую, военному делу обучаться, к тем богатырям воеводушкам, что на весь честной мир славятся подвигами своими да делами ратными!
Евлампий Златович, нахмурился и опять расстроился:
– Иди, иди до дому, матушка! А мы тут будем думу думать как из такой заковырки нам всем выползти.
Взял Евлампий за плечи белые Амелфию и бережно выпроводил её из терема. Та пошла, а он ещё долго смотрел ей в спину:
– Эх, неохота единственную силу-силушку в чужие края отпускать. Ой да переманят Добромира богатыри киевские к себе в дружинушку! Жди-пожди, ищи-свищи его опосля. Пропадай святой град без защитушки!
Вздохнул посадник тяжко, за ним следом вздохнули советник и ключник. Лишь немой служка мычал и жестами показывал на голубятню, где гулили почтовые голуби, крылышками махали да в дорогу просились.
Евлампий Златович, наконец, догадался:
– А и то верно, пошлю-ка я грамотку скорописчую на заставушку в стольный Киев град, к богатырям тем киевским. Пущай сюда сами идут да научают нашего Добромира делам воинским!
Зашёл посадник в терем и приказал писарю Яшке писать сию просьбу великую. Яшка сел за работу. А пока писарь писал, Евлампий Златович смотрел в окошко: наблюдал как немой служка бегал по двору, пытаясь отловить самую жирную голубку. Советник с ключником умно кивали головами.
А как грамотка была написана, немой служка привязал её к жирной голубице и со свистом отправил почту в Киев, на заставушку богатырскую. Облегченно перекрестясь, Евлампий Златович и его свита, попёрлись в терем чай пить да ужинать.
И полетела голубица по бескрайним просторам матушки Руси: мимо озера Светлояр, мимо Малого Китежа, мимо старого Нижнего Новгорода, мимо златоглавой Москвы и славного града Чернигова. Вон и Киев-град виднеется, а пред ним застава богатырская. А на заставе богатыри сидят, завтракают пшенной кашей, балагурят. Подлетела голубица к самому толстому богатырю и уселась ему на шелом. Не шелохнулся богатырь Илья Муромец, не почувствовал незваную гостью на голове своей могучей. Зато Алёша Попович заприметил неладное на шеломе у Ильи Муромца и давай реготать, яки конь:
– Чи Илья сидит передо мной, чи голубятня? Не пойму никак! А чего наша дружинушка зрит-видат?
Обернулись дружинники на своего воеводу и давай хохотать что есть мочи! Тут поднялся Микула Селянович на ножки резвые и огромной ручищей аккуратно снял голубку с шелома Ильи Муромца, отвязал он грамотку скорописчию и прочитал как смог:
«Гой еси, добрые витязи, сильные могучие русские богатыри киевские! Привет вам шлёт посадник княжий Евлампий Златович из святого града Велика Китежа. А дело у нас до вас серьезное. Родился в Великом Китеже богатырь Добромир нам на помощь, граду на защиту. Но одна беда приколупалась: не обучен он делу ратному, бой-оборону вести не может. Приходите до нас. Обучайте Добромирушку наукам воинским. Хлеб, соль – наши, сундук злата – ваши. А как добраться до нас: голубка вас и проводит. Челом бьем да низко кланяемся.»
Стали богатыри решать: кого на выручку спровадить? Кинули жребий, тот пал на Добрыню Никитича. Поднялся тут Илья Муромец, похлопал по плечу младого Балдака Борисьевича, от роду семилетнего, да и говорит:
– Ну, дабы Добрыня зазря времени не терял, а зараз обоих воинов обучил, отправляйся-ка и ты, сынок, в дорогу дальнюю!
Что ж, служба не нужда, а куда поманит, туда и нога. Сели Добрыня Никитич и Балдак Борисьевич на своих верных боевых коней, и поскакали, быстры реченьки перепрыгивая, темны леса промеж ног пропуская: мимо славного города Чернигова, мимо златоглавой Москвы, мимо старого Нижнего Новгорода да Малого Китеж-града. Голубка впереди летит, путь указывает.
Вот и озеро Светлояр виднеется, блином на сырой земле лежит, гладкими водами колыхается, голубой рябью на красном солнышке поблескивает. Рядом град стоит Большой Китеж, златыми куполами церквей глаза слепит, а на рясных площадях ярмарочные гуляния идут: люд честной гудит, торгуется, ряженые скоморохи народ забавляют, игрушки Петрушки детишек развлекают.
Приземлились наши путники (с небес на землю) на самой широкой площади, прямо в телеги с товаром плюхнулись. Народ врассыпную.
– Велканы-буяны! – кричат. – Великаны-буяны! Созывайте войско охранное, бегите за городской головою!
Кинулись, бросились горожане, а войска охранного то и нет. Стучатся они к Евлампию Златовичу большущей кучей, тот выходит из терема на крыльцо, в ус дует, квасу пьёт да думу думает. А как подумал, так и догадался в чём дело. Покряхтел и люд честной успокоил:
– Похоже, что это засланцы к нам прибыли, богатыри киевские, научать нашего Добромирушку вести бои оборонные, свят град от врагов защищать!
– У-у-у! Да ладно те! Дык как же нам прокормить такое громадное убожище: всех у троих, в общем? – возмутился народ.
– Ну как-нибудь, – развёл руками посадник. – Чай казна то не пуста!
Народ остыл-отошёл и кумекать поплелся, как богатырей прокормить. А немой служка понесся к дому Добромира и постучался в окошко. Вышел богатырь на крылечко, а служка жестами стал объяснять ему что в граде чудном происходит. На удивленье Добромир сразу понял служку и поспешил к воеводушкам! Вот уж они втроём обнимались, целовались, братьями названными нарекались. И отдохнув, поспав, на пирах почётных погуляв, пошли богатыри биться, драться – ратное дело постигать.
Год богатыри бились, другой махались, а на третий год поединками супротивными забавлялись. Народ кормит, поит великанов, крестьяне с ненавистными харями им харчи подносят. На третий год народ не выдержал, зароптал. Припёрлись мужики к терему Евлампия Златовича, столпились кучкой виноватой: кричат, свистят, зовут посадника переговоры вести, крепкий ответ держать. Вышел на крыльцо посадник княжий, пузо почесал да спрашивает:
– Чего вам надобно, братцы?
– Царь наш батюшка, устали мы сирые, ждать, когда все эти поединки проклятущие закончатся. Ведь вино богатыри хлебают бочками, мёд едят кадками, гусей в рот кладут целиком, глотают их не жуя, а хлебов в один присест сметают по два пуда!
Тут из толпы выходит с горделивой осанкой Мужичок-бедовичок в крестьянкой одежде да в скоморошьем колпаке. Подходит он к Евлампию и приказывает:
Не желают более
крестьяне такой доли.
Отправляй, царь батюшка,
всех троих в обратушку!
Посадник покраснел от злости на наглость такую. Разозлился и бог на небе, нагнал туману, ничего не видать!
Говорит Евлампий Златович грозно:
– Гыть, проклятый отсюда! Ни одной доброй вести не принёс ты мне за всю свою жизнь горемычную. Пошёл вон из града, с глаз моих долой! Иди-ка ты… а в малый Китеж-град, там и шляйся, ищи-свищи себе позорище на буйную, глупую голову!
Схватили Мужичка-бедовичка два дворовых мужика и поволокли его к воротам городским. Народ притих, стал потихоньку расходиться по домам.
Вытолкали Бедовичка из Большого Китежа, и побрел он житья-бытья просить в Малый Китеж-град. А как ворота Малого Китежа за ним захлопнулись, так тут же в Большом Китеже маковки на церквях посерели и померкли. Тёр их тряпкой игумен Афанасий, тёр да всё без толку, маковки так блеклыми и остались. Развели руками монахи, да и разбрелись по своим кельям, чертовщину с опаской проклиная.
Застала тёмная ноченька Евлампия Златовича в раздумьях тяжких. Сел он на кровать в ночной рубашечке да сам с собой беседы ведёт:
– Нет, оно то оно – оно, мужик стонет, но пашет. А и мужика, как ни крути, жалко. Но опять же, казна городская пустеет.
Вдруг ставенки от ветра распахиваются и в окошечко влетела Белая баба, опустилась она на пол, подплыла к посадничку княжьему, села рядышком, заглянула ласково в его очи ясные, взяла его белы рученьки в свои руки белые и слово молвит мудреное:
– Погоди, не спеши, милый князь, не решай сумбурно судьбу народную. Не пущай богатырей в родную сторонушку. Я пришла за ними, как смертушка, как воля-волюшка. Коль оставишь их при себе еще на год-другой, то отойдут они со мной в мир иной на бытие вечное, нечеловеческое. А коль отправишь их взад на заставушку, так и не видать тебе большого Китежа: сбежишь вослед за Мужиком-бедовиком ты в малый град да там и сгинешь навеки! – сказала это Белая баба и исчезла.
Испугался Евлампий Златович, пробормотал:
– Нежить треклятая!
Опустившись на колени, пополз он в красный угол к святой иконе, челом побил, перекрестится ровно дюжину раз и пополз обратно. Залез, кряхтя, на кровать и уснул в муках тяжких на перине мягкой, под одеялом пуховым.
А наутро встал, издал указ:
«С Добрыни и Балдака слазь!
Велено кормить, кормите.
И это… боле не ропщите!»
Выслушали мужики приказ боярский внимательно, да и разошлись по полям, по огородам: сеять, жать, скотину пасти, богатырям еду возить подводами.
Проходит год, проходит другой в крестьянских муках тяжких. А ироды былинные на выдумки спорые, принудили они народец китежский не только себя кормить, но еще и заставы богатырские недалече у стен городских поставить. Сами же забавлялись в боях потешных, перекрестных. Добрыня Никитич ковал в кузнице мечи, раздавал их горожанам, те их в руки брать отказывались.
– Да господь нам и без того завсегда поможет! – отвечали миряне и расходились по своим делам.
Вот и лежали мечи унылой горкой, даже дети к ним подойти боялись. И Добрыня Никитич не выдержал, нахмурил брови, расправил плечи, да и разразился грозной речью:
– На Русь печальную насмотрелся я, да с такой горечью, что не утешился. Сколько ж ворогом народу потоптано, и не счесть уже даже господу! На своём веку нагляделся я на самых на дурных дуралеев, но таких, как вы, по всей сырой земле ни сыскать, ни отыскать, ни умом не понять!
Балдак Борисьевич ему поддакивал:
– Да уж, чудной народец, блаженный: разумом как дитя, а мыслями где-то там, в сторонке. Лишь Евлампий Златович и Добромир понятие имеют. Ну им и положено по чину да по званию.
Вдруг откуда ни возьмись, туча чёрная налетела, полил дождь. Попрятались все от ливня в домах да спать легли. А на заставе богатырской остался нести караул сам Добромирушка, он всё вдаль глядел да под нос бубнил песнь народную:
Мы душою не свербели,
мы зубами не скрипели,
и уста не сжимали,
да глаза не смыкали,
караулили,
не за зайцами смотрели, не за гулями,
мы врага-вражину высматривали,
да коней и кобыл выглядывали:
не идут ли враги, не скачут,
копья, стрелы за спинами прячут,
не чернеет ли поле далече?
Так и стоим, глаза наши – свечи.
Караул, караул, караулит:
не на зайцев глядит, не на гулей,
а чёрных ворогов примечает
и первой кровью (своею) встречает.
Тут с восточной сторонушки, по сырой земле в чистом полюшке, заклубилась туча чёрная не от воронов, а от силы несметной Батыевой! Это в ту пору тяжкую прознал злой хан Батый о златых куполах церквей в граде великом Китеже, и послал он в Малый Китеж своих воинов всё покрепче разузнать. Гонцы возвратившись, докладывали: дескать, богатств в Большом Китеже немерено, но укреплен злат град заставой, в которой три сильных русских могучих богатыря службу несут, в чисто поле зорко глядят. Пообещал тогда Батый трёх богатырей на одну ладошку положить, а другой прихлопнуть, как мух. И повел он на Большой Китеж огромное войско. Едва заприметил Добромир силу ханскую несметную, полез в сумку и достал оттуда заранее заготовленную грамотку:
Тянет рать Батый сюда,
закрывай ворота
держи оборону,
коль не хочешь полону!
Поглядел он на крышу заставушки, а там почтовые голуби отдыхают, ждут своего часа заветного. Нащупал богатырь средь них самую жирную голубку, привязал к ней записочку и пустил птаху в сторону Большого Китежа. Полетела голубка в город, а наш воин приготовился выпустить во вражье войско кучу стрел.
Прилетела голубка прямо в руки задремавшему Добрыне Никитичу. Развернул Добрынюшка записочку, прочёл её, рассвирепел и как закричит зычным голосом, да так громко, что весь град задрожал, а колокола в церквях зазвенели, забили тревожно!
И вскочил на резвы ноженьки Балдак Борисьевич, прибежал к Добрыне скорехонько. Нацепили они на себя шеломы, латы, брали щиты крепкие, мечи булатные, стрелы острые, садились на добрых коней и скакали Добромиру на подмогушку.
А монгольское войско уж близехонько. Кидал Добромир в злобных ворогов стрелу за стрелою. Эх, мечи и щиты лежали рядом горкой гнетущей, одинокой. Завидел Добромир подмогу, закричал зычным голосом:
– Хватайте, братья, мечи да щиты! И вон отсюда скорей несите их, дабы врагу сие не досталося!
Схватили Добрыня и Балдак щиты да мечи русские, поскакали с поклажей обратно.
А войско Батыево всё ближе. Добромир взял меч, щит в руки крепкие, взобрался на кобылку и понесся навстречу врагу.
Ой, как бился Добромир, силу чёрную раскидывал: махнет налево – улица, махнет направо – переулочек, а как прямо взмахнет, так дорожка прямоезжая из тел монгольских выстилается. Но силы меньше не стало: всё прибывала и прибывала треклятая! Взяли вороги в окружную богатыря русского… Весь утыканный стрелами, упал воин замертво, с кобылы наземь.
Лежит мертв наш Добромирушка. Душа его открывает глазки серые и видит, как бегут лошадки белые по небу синему. И явилась ему баба Белая, да такая красивая, что глаз не отвести. Хохочет она и манит, манит за собой дитятку богатырскую:
Павши замертво, не ходи гулять,
тебе мертвому не примять, обнять
зелену траву – ту ковылушку.
Не смотри с небес на кобылушку
ты ни ласково, ни со злобою,
не простит тебя конь убогого.
И встал Добромир, и пошёл Добромир за нею следом, окликнул кобылу свою верную, но та фыркнула, махнула головой, да и осталась тело хозяина оплакивать, монголок в разные стороны раскидывать.
А со стороны городских ворот уже скакали Добрыня Никитич и Балдак Борисьевич. Батыево войско бросило мертвого Добромира и к ним попёрло! Завязался неравный бой. Но войско ханское не остановить! Взяли они в кольцо Большой Китеж-град и выпустили в городскую стену град стрел горящих. То тут, то там заполыхал огонь. Забегал Евлампий Златович по городу, пытаясь раздать людям щиты и мечи. Звонари забили во все колокола! А народ выстроился у городских ворот плотной безоружной стеной, молился и песни пел:
Золотые жернова не мерещатся,
наши крепости в огне плещутся.
А доплещутся, восстанут замертво.
Не впервой уж нам рождаться заново!
Ой святая Русь – то проста земля,
хороша не хороша, а огнём пошла!
Подпевал глупым людям посадник княжеский:
Ой святая Русь – то проста земля,
хороша не хороша, но с мечом нужна!
Вдруг небо тучей застлало, а солнце красное к закату пошло, плохо видеть стали наши богатыри (те что не молились, а в бою ратном бились). Но одолела их сила чёрная, упали, лежат два воина, не шелохнутся, каленые стрелы из груди торчат. А над ними баба Белая летает, усмехается, чарами полонит, с земли-матушки поднимает: уводит вдаль не на посмешище, а в легенды те, что до сих пор поём. Пошли пешком Добрыня с Балдаком на небеса и уже с небес пытались рассмотреть, что же там делают жители славного города Большого Китежа?
И говорит Балдак:
– Эх, народ молится, ему всё по боку! Блаженный тот народ, что с него взять ужо?
Добрыня ж образумить народ пытается:
– Эге-гей, где же ваши дубинушки, мечи булатные да копья вострые? Лежат защитнички, истекши кровушкой, и больше помощи вам ждать уж нечего.
А войско Батыево уже близехонько, и стрелы вострые пускали в крепости. Народ молился и пел всё громче! Но тут воды озера Светлояр всколыхнулись.
Вдруг накрыло покрывалом
то ли белым, то ли алым:
Светлояр с брегов ушёл —
Китеж под воду вошёл,
а трезвон колоколов
лишил магола дара слов.
Город Большой Китеж медленно погрузился под воду. Онемело вражье войско, испугалось и врассыпную: в леса, в болота кинулись, там их и смерть нашла.
А святой Китеж зажил своей прежней жизнью, только уже под водой: купцы торговали, скоморохи плясали, крестьяне сеяли да жали, попы венчали, отпевали, а Евлампий Златович за всеми зорко следил, указы всякие разные подписывал, баловней на кол пытался сажать, но не получалось что-то. Говорили… нет, ничего не говорили, больше молчали – трудности в воде с разговорами. Только матерь безутешная Амелфия Несказанная всё слёзы лила по сыну убиенному богатырю русскому Добромиру китежскому:
Вот и я скоро сгину.
Ну что же вы горе-мужчины,
не плачете по сотоварищам мёртвым?
Они рядком стоят плотным
на небушке синем-синем,
и их доспехи горят красивым
ярким солнечным светом!
Оттуда Добрыня с приветом,
Вавила и Скоморохи.
И тебе, Добромир, неплохо
стоится там в общем строю.
Сынок, я к тебе приду!
И наплакала она целый святой источник Кибелек, который до сих пор из-под земли бьет. Поди-ка, умойся в нем, авось грехи со своей хари и отмоешь.
3. Левый берег озера Светлояр (Бедовичок – святой старец)
А мы вернёмся к нашему чудо-рассказчику Старичку-бедовичку, который спит в окружении девок, плетущих венки. Вот каркнул ворон на ветке, Старичок-бедовичок проснулся и продолжил свой рассказ:
– Бился я, значит, махался с тремя сильными русскими могучими богатырями. А как разбили мы вражье войско в пух и прах, так Большой Китеж и ушёл под воду на житьё долгое, подальше от мира бренного, войнами проклятого. А богатыри со мною побратавшись, ускакали в свой Киев-град. Опосля и я отправился жить в Малый Китеж.
Девки выслушали рассказ Старичка-бедовичка, захлопали в ладоши, подняли его на руках и начали раскачивать – веселиться. Бог на небе слегка нахмурился и напомнил бедовичку о том, как всё было на самом деле.
4. Правый берег святого озера Светлояр (Бедовичок – молодой крестьянин-шут)
История закончилась, конечно же, по другому. Большой Китеж ушел под воду, но торжественный звон колоколов еще долго доносился из воды. Последние монголки помирали в лесах новгородских, а Мужичок-бедовичок бегал по берегу озера, заглядывал то в гладь воды, то разглядывал следы недавнего побоища.
Побежал он в Малый Китеж-град рассказывать о том, что была бой-битва неравная, и случилось чудо чудное – его родное городище ушло под воду жить, да надо бы пойти и похоронить богатырей. Но малокитежцы в ответ лишь хохотали и крутили пальцем у виска. Каждый занимался своим делом и в бредовые идеи местного дурачка не верили.
Пришлось нашему дурачку в одиночку хоронить русских воинов и мёртвых монголок. Поставил он над могилами богатырей большие деревянные кресты и поплелся в Малый Китеж-град.
Заскучал с той поры Мужичок-бедовичок, словно надломилось у него внутри что-то: то ли о жизни своей никчемной жалел, то ли о всеобщих несправедливостях задумался…
Пошёл он как-то раз на рынок: идёт мимо молочного ряда, и очень захотелось ему молочка. Подумал, покумекал и решил не тратиться на кружку молока, ведь работать то Бедовик не очень охоч, а взял да и купил козочку дойную. Ой да красивую какую: белую, мохнатенькую, с чёрной полоской на спине. Поволок её домой, не нарадуется:
– Ну вот, Марусенька, будет у нас теперь дома молочко!
Поплелась за ним козочка, а сама хитро улыбалась, и из глаз её выскакивала дьявольская искра.
Привёл Бедовичок козу к своей хатке, вбил колышек в землю, привязал к нему Марусю, принес ведро и давай её доить. Надоил ведерко, попил молочка, а когда пил, светилось оно синим волшебным сиянием.
И тут у Мужичка-бедовичка в башке перемкнуло что-то. Поскакал он в буйный лес, надрал с берёзок бересты, затем на рынок – купить писарских чернил, да у гуся выдрать большое перо. И домой! Уселся описывать свои лживые подвиги: хихикает, лоб трет, мудрую голову напрягает.
Бог на небе, глядя на то, рассердился. Попытался он остановить Бедовика, но не смог. И придумал другую безделку: остановил в Малом Китеже время, то бишь всех малокитежцев наказал. За что? Да за всё!
С той поры он так и жили: люди рождались, умирали… Но всё что ни происходило, то происходило всё в один и тот же год 6759. Лишь один Мужичок-бедовичок не умирал, просто старел потихоньку. Видимо, Белая баба-смерть нос от него воротила. Может, к богатырям не хотела подпускать, а может, ещё по какой причине. Вот и остался на всю округу один сказитель – наш Старичок-бедовичок. И люди ему верили, верили. А что ещё им, людям, оставалось делать?
Баю-бай, Егорка,
неплохая долька
и тебя поджидает:
вишь, коза моргает.
У одной злющей ведьмы по имени Потвора, которая в лесной избушке живет, да всякой разной ворожбой промышляет, народилось дитятко обычно. И до того это дитятко обыкновенно было, что хоть в рожу ему плюй – мимо пройдёт и не почешется: и ни проклятий из уст его не всполохнётся, ни ругани какой не выкатится. Милый такой мальчонка! Макаркой его кликали. Диво дивное да и только. Играет себе с деревенскими ребятишками в лапту и в салки, да гогочет как жеребец на все уколы да поддевки по свою душу:
– Ну ведьмин я сын, так что с того?
А ничего. Деревенским и ответить на такую простоту нечего. Тем более, что слух про его мамку в миру ходил:
– Поцеловал нечистую бабу ангел светлый, вот от него то она и зачала Макарку.
– А по каким таким причинам дух божий смердов целует?
– Дык нам неведомы пути его.
– И то верно, не нам об том судить, рядить и кумекать.
Посудачив, расходилось старичьё по своим домам спать да молодёжь учить:
– По краю пропасти не ходите, а с мудрым человеком не спорьте.
Макарка тоже домой бежал в свою избушку на краю леса, да у мамки всё выпытывал:
– Расскажи ты мне, матушка, кто мой милый батюшка!
А ведьма Потвора не могла рассказать сыну о том, кто его всамделишный отец. Потому как отец его был обычный мирянин, не дюже холостой, а и очень даже женатый мельник из той мельницы, что на краю другого леса находится. И пришлось Потворе ту же самую легенду Макарке брехать, которая по всем соседним сёлам гуляет:
– Брела я как-то раз по полю чистому, искала траву для зелья горького, да всё никак найти не могла. Ведь поле то чистое оказалось, а мне нечистое надобно. Вот шлялась я, шлялась я по тому полю, да всё пустая корзинка у меня. Уж решила, что порожней до дома и вернусь. Вот, думаю, чёрт завёл! Притомилась я, легла под солнышком вздремнуть. А тут с неба светлый ангел летит, крылами машет, мирские песни поёт, тихие такие песни:
Не ходи гулять во поле чистое,
унесёт тебя речка быстрая,
речка быстрая рукотворная,
река времени она. А баба вздорная,
наглотается и не выплывет,
унесёт её судьба и выкинет,
и ни в рай, ни в ад, а в средний мир,
где дед сидит, а у деда пир,
он ест и пьет да всё косточки,
а подавится, так тросточкой
взмахнет, и войной идут все народы,
друг на дружку ведь идут. Вот уроды.
Не успела я очи свои черные на птицу дивную отворотить, как она уже в брюхе моём сидит, курлычет. А как посидела, так и вылетела наружу, и прочь полетела – только я её и видела! Вот поднялась я с сырой земли и ужо не порожняя домой пошла, а брюхатая. Вскоре и ты родился. А как на ноженьки встал, так отцу своему летучему в пояс и кланялся.
– Не, не помню я такого! – мотал головой Макарка. – А что ангел в твоем брюхе делал?
– Да бог его знает, только с той поры я понесла.
– Что понесла? – переспрашивает отрок.
– Тебя понесла! Дурья твоя башка, – сердилась ведьма и укладывала Макарку спать на лавку.
А сама лезла на тёплую печку и пела оттуда всегда одну и ту же колыбельную песню, самой себе видимо и пела:
Как и в небе, и в земли,
живут хвори-баюны.
Спи детинка, засыпай,
отца, матку поминай
добрым словом, а дурным
мы всех прочих просвербим.
И сколько бы злющая ведьма ни приучала Макарку злыми делами себе на хлеб-соль зарабатывать, никак малец не хотел сию науку постигать. Как ни ругала его Потвора, как ни секла розгами, ни в какую её родная кровь не хотела пакостями заниматься. А как парубок в совершеннолетие вошел, так и прогнала она его со двора:
– Иди, ищи себе кров и стол, а я такого дурня кормить никак не могу!
И на смурном её лице, застряла нежеланная слеза, а застряв, прожгла кожу насквозь. И на том месте выросла еще одна безобразная бородавка. Много таких бородавок было на её лице, вислых грудях и не по возрасту дряблых руках.
Склонил Макар буйную голову – делать нечего, надо уходить из отчего дома. А с другой стороны, да и какой же это дом? Весь провонялся сорной травой, мутными вонючими взварами, сухими лягушачьими лапами да потным русским духом, в неровен час стучащим за очередной мерой проклятий на соседку или присыхом для невесты или жениха.
Плюнул молодой детинушка на гнилую продажную лавку своей матушки да и вышел вон. А куда пешему податься? И там его не ждали и тут не рады. Хлеба-соли не дают, ворота перед носом затворяют, носы ворочают, дразнятся и пальцы в фиги складывают. Это ведь совсем разные вещи: сыто дитятко, родной матушкой обласканное, по головку погладить или рубль подать лбу здоровому на утробушку его ненасытную.
– Ну что ж, коли так, – решил Макар. – То и я дразнится на вас буду. Видимо, судьба моя такова.
И пошел он по белу свету искать гусляров да песенников развеселых. А как нашел, так кланялся им в пояс:
– Здраве бываете, други честные, не прогоните трубадура-песенника, буду верно вам служить, петь, плясать, на дуде играть, народ веселить.
– Ой ли, – прищурились гусляры-песенники, – А покажи-ка нам, на что ты горазд.
Ну Макар и показал бродячим скоморохам свою удаль молодецкую. Достал дудку потешную самодельную, с белочками да зайчиками на ней ножичком искусно вырезанными, приложил её легонечко к губам алым и… Сперва заиграл, а потом и запел звонко да так трельно:
Ты из матери Руси
много денег не тряси,
она даст царю мешок,
она даст купцу смешок
и подаст попу на чай,
а ты мимо ступай,
завяжи рот да сиди
и не трескай калачи
те, что только из печи,
потому как потому
они тебе не ко двору.
Ты ж утрись слезой сырой,
да пляши со мной и пой:
царский терем хорош,
барский дом, ох, пригож,
а моя хата небогата,
зато прибрана, ребята
там рядком сидят,
завидуще глядят…
Дюже понравилась злыдня песенка пересмешникам скоморохам. Взяли они с собой молодого озорника – ходить, бродить по деревням и весям, песни похабные распевать, царский трон расшатывать. А то! Много подобных прибауток из поганого рта Макарки выскакивало, ведь как ни крути, а мамкино тесто в сыновних боках как засядет дрожжевать, так никакой ложкой его с ребер ужо не отколупать.
Ну суть да дело, а народу Макарьевы прибаутки нравились. И там его теперь ждали и тут. И добралась слава о дерзком нахаленке до самого царя. Выслушал царь-батюшка доносчиков, брови хмурит и велит привести к нему бунтарей самогудов.
Долго их искать не пришлось, что ни площадь базарная, так они там над царевым указами и насмехаются – поют да пляшут, руками машут, а люд простой хохочет, ещё непотребщины просит. А скоморохи и рады стараться, ведь солонину с брагой медовой никто пока что не отменял – нет, нет, а и её охота.
Вот посреди такого гульбища и схватили скоморохов государевы дружинники, да и повели их прямо к императорскому двору. А пока царь-государь обедал, Макар с соратниками и там светопреставление устроили. Ещё пуще богатеев высмеивают, на равенство-братство намекают, саму коронованную особу корят:
А у нашего царя
не башка, а три рубля.
Отдавай нам, царь, рубли,
будем мы теперь цари!
Смеются дворовые девки, лыбятся дворовые мужики, хихикают тихохонько в мозолистые кулаки стрельцы-удальцы, трясётся от смеха царская дочь молодая, в окошко глядя, да не просто трясётся, а красавцу Макару подмигивает и узорным платком ему машет, да слезы из глаз брызжущие утирает – радуется. А её батюшка с её матушкой серебряные ложки покидали на стол, яствами уставленный, и тоже из дворца зенки пялят, багровеют потихоньку – серчают дюже.
Приказал царь подвести к нему буянов-провокаторов. Подвели. Вот он их и спрашивает:
– Откуда вы да кто такие?
Поклонились ребята бойкие в ноженьки высоко-престольному и поведали из какой губернии они выходцы, да из чьих простецких племён они будут. А Макар, косая сажень в плечах, молчит. Царь к нему:
– А ты чего рот зашил? Уж больно ты на скоморошью братию не похожий!
Молодец хотел было ответить, что он ведьмин сын, но передумал и ответил так:
– Я царь-батюшка, ягненок божий. Гуляла однажды моя мать по полю чистому. Шлялась, шлялась, да и притомилась, легла под солнышком вздремнуть. А тут с неба светлый ангел летит, крылами машет, мирские песни поёт. Не успела она свои очи на птицу дивную отворотить, как та уже в брюхе её сидит, курлычет. А как посидела, так и вылетела наружу – прочь полетела. А как поднялась мать с сырой земли, так ужо не порожняя домой пошла, а брюхатая. Вскоре и я народился. А как на ножки встал, так отцу своему летячему в пояс и кланялся.
– Ёж ты, кош ты! – усмехнулся царь Берендей. – Где-то я такое уже слыхивал.
А коли слыхивал, так и поверить немудрено. Позвала царская особа к себе советников, пошушукались они, головами покивали, да и послали во двор девку-чернавку – всю другую прислугу выспрашивать: не слыхали ли те о том происшествии двадцатилетней давности. А те хоть и не знали ничего, но чтобы государю угодить отвечали хором:
– Было, было такое, супротив господа не ходим и другим не советуем!
От таких ответов сжалось сердечко у царской дочки Перебраны Берендеевны. Зарделась она вся и еще пуще прежнего, огненные взгляды на Макара кидает, смущается. Тот аж сам зарделся весь с ног до головы – вот-вот вспыхнет, как свеча, и истлеет дотла. А царь на дочку не глядит, он уперся бараньим взглядом на ягнёнка божьего и крестится то слева направо, то справа налево, а то и снизу вверх. Уверовал он в чудо чудное и велел всю скоморошью братию не вешать и на кол не сажать, как обдумывал прежде, а в живых всех пятерых оставить, да на все четыре стороны отпустить. Но впервой черёд через церковь их пропустить – заставить, так сказать, покаяться, раскаяться, а ежели понадобится, то и причаститься. А затем взять с них расписку о том, что не будут скоморохи более петь, орать и скоморошничать – людей смущать, царский трон расшатывать.
Но тут вперёд выступил щеночек ведьмин:
– Отпусти их Берендей свет Иванович, без расписки. Пущай народ веселят, не будут они более на злату корону зубы скалить. Это я их на дурное дело подбил.
Удивился царь:
– А я то думал, что они тебя сбаламутили, дабы душу чистую погубить.
Стыдно стало Макарушке:
– Не, это я их разбередил. Видимо, сам чёрт меня смущает. Накладно ему, черту то, что у ангела на грешной земле потомки имеются.
Махнул царь рукой и отправил скоморошье племя в церковь голодными да без расписки. А Макару велел год-другой в монахах послужить – из души всех чертей выкинуть.
Деваться некуда. Нет, не сами петрушки-потешники в храм божий поплелись, а хмурые стражники их повели. А когда все обряды были приведены в исполнение, поплелись четверо потешников скоморошников на все четыре стороны, а ежели по правде говорить, то в одну – во дальние края потешать народ потешать, но по правильному, самым безобидным образом:
Счастье скомороха:
базарная картоха —
спел, сплясал,
сварил, сожрал.
А коль таланта нету —
готовь себя к обеду,
супругу или тёщу.
Жить то надо проще!
Народ уж ухмыляется, народу видишь, нравится.
Счастье скомороха:
если в жизни плохо,
надо веселиться —
покрепче материться!
Улыбается народ, в хоровод уже идёт.
Пропоем и про царя:
коль ты царь, царем быть зря —
всякий тебя хает,
даже голь не хвалит!
Народец ржёт.
Бежит до нас солдат, орет:
«Караул, а ну сюды,
тут пройдохи и воры!»
Скоморошье счастье – кроха:
дёру дать!
Народ заохал.
Ну, а Макар каждое утро в келье встречал. Помолится и за стол. А на столе у него щи да каша – всё то, что ему втайне припрет принцесса наша. Вот ходила она к Макарушке, ходила, да и доходилась. Подкупила она священника серебром да златом, тот и обвенчал молодых. А в свидетелях у них были два попа и попадьёнок. Дюже осерчал батька царь и мать царица, когда муж с женой за белы рученьки держась к родителям явились. А потому что молодые без родительского благословения брачевались. А во вторых, для слияния двух государств, Берендей хотел дочь на французском самодержце обженить или на литовском принце – не помню, в общем.
– А в третьих, – закричала Перебрана Берендеевна. – Ты пойди и всем царствам-государствам расскажи, мол, дочь твоя замуж вышла за самого ягнёнка божьего. Вот тебе и слава будет великая на весь почетный мир!
И заплакала слезой горючей да в ноги к тятеньке кинулась. А царь слёз дочкиных, ну, никак не выносил. Дюже плохо ему делалось от мокроты девичьей. И после раздумий тяжких повелел он оставить всё как есть.
– А земель нам лишних не надо, – подталкивала ему принцесса. – Нам и своих жопой жрать не пережрать! А благословение родительское можно и опосля выпросить. Верно, тятенька?
– Верно то оно верно… – вздыхал царь.
– Ну и чудненько! – кудахтала Перебрана и перебирала в уме все веские причины, которые помогут заставить отца смилостивиться и оставить всё как есть.
А царица-матушка Рогнеда Плаховна, никого не слушая, истошно орала:
– В острог, паршивца, на каторгу искусителя. Вон!
Но муж от неё отмахивался, так как знал одну пословицу хорошую:
Кто бабу слушал,
то постное кушал.
А кто слушал дочку,
тот смело ставил точку
в указах всяких разных
вовсе не заразных.
Ну вот, пока рядили да судили, наша дивчина поспела: родила в обед, а то ли в полдень еще одну царскую дочку – цареву, то бишь, внучку. А как малышка на ножки встала, так деду своему императору в пояс и кланялась. А потом смеялась дюже заливисто, как будто колокольчики по всей земле звенят:
– Тили-тили бом, тили-тили бом, встречайте царскую внучку, божьего ягнца дочку, тили-тили бум, тили-тили бум!
Ну и назвали маленькую из-за смеха её звонкого Смеяной – Смеяной Макаровной, значит, вот как. И покатились года горохом по полям, по лесам, по деревням, городам и весям, а мы вырастем и взвесим непотребны ваши распри. Здрасьте! Расти Смеяна большая-пребольшая, славь отца с матерью, пред тобой скатертью все пути-дороги, каждую попробуй.
– А нет, царский выкормыш, дорога у тебя одна – как тити спелым соком нальются, так и выдадут тебя замуж в семью заморскую, в семью несогласную. Выплачешь ты все свои глазоньки, исколешь ты пустым рукоделием все свои рученьки, в косящее оконце глядя, у чужой матушки от безделья! – приговаривал поп-батюшка и гладил малую пичужку по детской спинке.
Заревела, зарыдала Смеяна Макаровна от судьбы своей горькой, поклялась не поить свои тити ни берёзовым соком, ни заморским томатным, никогда-никогдашеньки, а пошла и поела в дому своем кашеньку. И забыла разговор этот давешний с попом придурочным.
Но годы не птицы, они осели в наших лицах и когтями теребят – обращают ребят в хищных дерзких соколят. Вот и наша птаха повзрослела. И стала нехорошие перемены в своих грудях ощущать. Не поила она их, не кормила, а они сами по себе начали наливаться соком молочным. И тут вспомнила Смеяна страшное пророчество попа-дурака. И случился у младой девицы удар сердечный, заболела она сразу всеми болезнями какие есть на свете и слегла в горячке на перины мягкие.
Долго ли коротко лежал в забытьи божий птенчик – уж никто и не вспомнит, но перепробовала царская семья все средства, какие есть на свете. Ничего не помогало. Ни знахари, ни повитухи, ни ведьмы дворцовые, ни лекари заморские, ни песнопения церковные. Никто ничего поделать не смог. Гасла тростинка на глазах у папеньки, на глазах у маменьки, чахла на сердце у дедушки, хирела на грудях у бабушки. Ну что ты будешь с ней делать! Какой уж там бюст теперь, глядь уже и тонкие ребрышки сами по себе рассасываться начали.
Царь аж похороны Смеяны обдумывал – настолько она была слаба. Лишь отец с матерью каждую ночку у кроватки детской дежурили: ночь Перебрана, ночь Макар, ночь Перебрана, ночь Макар, ну и так далее. В одну ночь Макару до того тяжко показалось сидеть и молча сжимать ладошку детскую в своей мужицкой руке, что он взял да и запел тихонечко старую свою песню, оду из тех, которая на его буйную головушку царский гнев накликала:
Жили-были на Руси
ни большие караси,
ни усатые сомы,
а дурные мужики,
мужики да бабы.
Хлеба нам не надо,
нам не надо сала,
давай сюда вассала —
на трон российский посади.
И ходи, ходи, ходи
с работы к самогону,
и пущай законы
пишут только дураки!
Да чего же это деется с нами?
Деется, деется, деется,
никуда Русь родная не денется.
Лишь мы иссохнем и в прах рассыплемся.
Чаша терпения выпита
у Руси – у матери нашей.
Уноси отсюда тех, кто не накрашен!
Открыла свои ясны очи дочка милая и заговорила цыплячьим голосом:
– Ой, папенька, не меня ли ты уносить собрался в могилку темную?
Засмеялся Макар – ведьмин сын, подхватил на руки свою Смеяну и закружился с ней по палатам белокаменным да захохотал радостно:
– Заговорила, заговорила, очнулась душа-девица наша! Хочешь каши?
Разбудил он на радостях весь дворец. Пляшет дед молодец, пляшет бабушка царица, скачет мамка молодица. А Смеяна, на руках у батюшки рястряслась до ума-разума и говорит:
– Поклянись мне, милый батюшка, что мои тити больше никогда соком не нальются!
Остолбенел тут её батюшка:
– Да как же можно такое говорить, типун тебе на язык! Всенепременно вырастут, и выдадим тебя замуж…
А что дальше будет в судьбе девичьей, не успел договорить Макарушка, горько-прегорько зарыдала его дочушка. Тут бал и остановился. Все глядь на кроху малую, а у Несмеяны новая напасть: каждая ее слезинка, коли не скатится вниз, а останется на личике, так прожигает кожу насквозь, и на этом месте тут же вырастает безобразная родинка. Ужаснулся Макар – бесовский сын, вспомнил он, что у его родной матушки полным-полно таких безобразных родинок. Понял он откуда ветер дует, склонил головушку и возрыдал. А в терему опять затеяли переполох – спрятали все зеркала от глаза детского. И Берендей Иванович вновь послал за лекарями.
– Из огня да в полымя! – бурчала обезумевшая Рогнеда Плаховна.
Перебрана Берендеевна пыталась накормить девку всем, чем только можно и развеселить свою Несмеяну. А Макар думу думал: «Моя мамка знает отчего слеза прыщом оборачивается, надо за ней послать. Ну, а с другой стороны, вся моя тайна тут же наружу и вылезет. Да и знала б мамаша как от напасти избавиться, давно б сперва себя излечила, не ходила бы страшна страшной!»
И решил грешный сын молчать до поры до времени. А дела у царской семьи тем временем шли худо-бедно на поправку. Деточка поправлялась да кашу ела, ну и ко всем взрослым приставала с расспросами о женских прелестях, да о своей горемычной судьбе. Пришлось пообещать красной девке, что жениха она сама себе выберет, какой ей по сердцу придёт, а попа-самодура распорядились повесить. Повеселела наша дочка, оправилась, да всё зеркала выпрашивала – на себя посмотреть, волосы на головушке поправить. А домашние в пол глаза отводят:
– Разбила сумасшедшая бабка Рогнеда все зеркала до единого, покуда горюшко по тебе справляла. А новых зеркал нынче никто не плавит, забытьем забыли сие ремесло, вот так-то.
Дошло до того, что принцессу Смеяну даже во двор гулять не пускали, чтоб дворовые девки над ней не смеялись и зеркальцами в лицо не тыкали. Ведь нет, нет, да и всплакнет Несмеяна, а каждая ее слезинка – нова пуговка на щёчке. А лекари всех мастей и сословий опять ничего поделать не смогли. Но так долго продолжаться не могло, однажды выпорхнула птичка из клетки и вылетела во двор. А там запуганный смертной казнью люд дворовый только отворачивался от уродки. Ну и полетела она далее – во чисто поле, а за чистым полем покоился чистый пруд, муравой со всех сторон обвешанный. Разгребла Смеяна зелену траву и опустила своё личико низёхонько, прямо к воде прозрачной. Глянула на неё из воды уродка девица в её наряде. И поняла принцесса, что та уродка бородавчатая – это она сама и есть. И зарыдала она горше прежнего. А слезы-бусинки в воду капали и горели огнем пламенным на глади водной. Вот одна слезинка на руку капнула, прожгла кожу на руке насквозь и встала на кисти родинкой бодучей. Потрогала девушка своё лицо, а оно конечно же не просто шершавое после болезни, как уверял её родной дед, а всё истыкано именно в таких вот родинками. Испугалась Несмеяна, перестала плакать. Холодный ужас поселился в ее душе с тех пор. Поняла она, почему Берендей Иванович выслал все зеркала из терема:
– А ещё на бабку грешил, черт поганый!
И пошла она обратно во дворец, но уже холодной некрасивой барышней, а в душе даже радовалась:
– Ну вот, теперь пущай растет моя грудь хоть до неба, хоть до земли, не видать мне теперь злого замужества!
А радовалась она, потому как не верила пустым обещаниям близких: что не выдадут её замуж в заморский стан. Сызмальства знала вещь упрямую – все врут и всё тут. И запела она песенку, веселую такую, отцовскую:
Вот такие пироги!
А не хочешь, не ходи
в эти чудо-города,
в них сомненье да еда.
И куда б ты ни пошла – всё не туда.
Не бывать бы в этих городах никогда,
но зовет упрямая туда
дорогущая купеческая жизнь.
Глянь каков дворец, только держись!
А внутри дворца всё господа,
и ни туда от них и ни сюда.
На потеху, что ли, выходи!
Будем делать с вами, короли,
маленьких, красивых королят.
Те вырастут и в космос полетят,
чтобы, чтобы, чтобы в городах
не вспоминали о пузатых королях!
И то ли кровь бабки Потворы взыграла в молодой шестнадцатилетней башке, то ли протестный характер отца Макара возымел над женским телом свою гордость, но Смеяна смело подошла к отчему дому, надменно взглянула в глаза дворовым девкам красавицам и в глаза дворовым мордастым парням, как бы нехотя оттолкнула копья стражников, стоящих у ворот, и матроной ввалилась в свои покои. А принарядившись, спустилась в столовую – угощаться разносолами, наедать живот, попу, ну и конечно грудь, ежели богу это так всенепременно надобно.
– Ну и ладно, ну и чудно! – повторял дедок царёк. – Родне то ведь оно что надо: дочка живая и ладушки.
– И то верно, – соглашалась с ним Смеяна, однако, с той поры она перестала плакать совсем, вовсе и навсегда.
А зеркала в терем вернули, но дюже холодно проплывала мимо них принцесса. Так холодно, что мороз по коже перекатывался у её родного батюшки Макара, отчества не имеющего. Вот сказался он как-то раз, что на охоту поедет, да непременно один, но не пеший, а конный. Ну что ж, поедет так поедет, оседлали ему кобылу самую лучшую, повесили на плечо лук со стрелами, да и выпроводили вон со двора. Долго ли коротко ехал охотник за добычею, но прискакал он к избушке, что стоит на краю леса. Слез с кобылы и стучится. Отворила ему дверь старуха хилая, а лицом до того обезображенная, что на нём живого места нет. Отшатнулся от неё добрый воин. А старуха руки к нему тощие потянула и зарокотала, забулькала да закрякала:
– Сынок, али не узнал свою матушку? Я ж все слёзы о тебе выплакала! Сам господь простил мне злобу мою, забрал ведьмин дар навсегда. Ещё день-другой и побирушничать б пошла, не застал бы ты меня тут, и не увидел никогда более.
Сжалось сердце у охотника, узнал он свою родную матушку, а вслух сказал:
– Родная матерь сына с дома не выгонит! – и оттолкнул от себя старушку.
Опечалилась, устыдилась бывшая ведьма Потвора, захлопнула перед носом сына дверь еловую и полезла на печь спать. Не стерпел такого обращения чудак Макар, распахнул он дверь еловую и давай мать за грязный подол дергать, вниз её снимать:
– Куда полезла проклятущая! Давай рассказывай что это за прыщи на твоей морде и откуда они взялись?
Закряхтела, как сосна, бабка старая, спрыгнула с печи и рассказала сыну тайну страшную:
– Как занялась я будучи молодухой ворожбой да приворотами всякими, так слёзы мои светлые стали липкими, горючими. Куда слезинка упадет, то место и прожжет, а на коже прыщом гноящим вылезет, но чаще бородавкой.
– Это мы и без тебя уже знаем, ты расскажи что дочке моей делать теперича, и за какой ей ляд напасть такая?
– Эко оно как! – пригорюнилась ведьма. – Тоже ворожит девчушка?
– Да в том то и дело, что не ворожит.
– А чего так?
– Да вот так.
– Ох ты ж да напасть какая!
– Напасть, – соглашается Макар. – А делать то чего теперича будем?
Подумала, подумала хозяйка лесного царства и говорит:
– А может наоборот, пущай ворожить попробует, авось оно и пройдёт.
Встал Макар на ножки резвые, отряхнулся от родимой матушки, как от жабы. Поклонился он ей в ноги, и молвит речи прощальные:
– Спасибо тебе матушка за стол, за хлеб, за слово доброе. Ну поперся я обратно к жене да к тестю.
Проводила его несчастная, расплакалась, обросла по самые уши прыщами мерзкими да полезла на печь. И поехал наш охотник взад до терема царского, голову склонивши, пустой, порожний, опечаленный. Ехал он и напевал такую странную песенку, которая казалось бы уже ни к селу и ни к городу:
Нет, не бабы красивой бойся,
а иди-ка в ведре умойся
да к роже своей приглядися:
не пора ли тебе жениться?
И ведь напел паршивец на свою голову, а заодно и на голову всего королевства. Подъезжает он к своему терему высокому, а там женихов полон двор: и наши, и чужие, и заморские. Прознали они, что на Руси у царя Берендея свет Ивановича внучка на выданье. Сама страшна аки чёрт, но земель за ней приданого – от края Руси до края, шагами не сосчитать, аршином общим не измерить. Грустно стало Макару, как только он такое шушуканье в царском дворе расслышал. Пошёл он прямехонько к дочке, а та сидит, золотым гребнем волосы расчесывает, на женихов с резного балкончика поплёвывает. А женихи ради смеха кланяются невесте да в один голос горланят:
– Несмеяна свет Макаровна, пойдете за меня замуж?
Взбеленился Макар, хотел было вниз бежать, всех женихов прочь гнать, но дочка хвать его за ручку белую:
– Полноте вам батюшка метаться туда-сюда! Скучно мне, девушке, пущай повеселят холопы дивные мою душу ни в чем не повинную. Говорят, все до единого Петрушки перевелись на Руси. Так пущай же у нас заморские клоуны поскоморшничают.
Согласился с ней ласковый батюшка:
– Пущай, – и сел устало рядышком.
А женихи знай себе наяривают:
– Несмеяна свет Макаровна, пойдете за меня замуж?
Смеяна обернулась к тятеньке:
– А мне нравится имя Несмеяна.
Сверкнул на неё глазами страшными родимый батюшка:
– Даже и не думай! А насмешников тут же прогоню со двора, да сам тебе спою, спляшу и на дуде сыграю.
И встал Макар, и пошёл Макар мимо тестя Берендея свет Ивановича, мимо тёщи Рогнеды Плаховны, мимо жены любимой Перебраны Берендеевны: мимо всех тех, кто к новой царской свадьбе втайне от Смеяны готовились – с каждым женихом отдельно переговоры вели в нижних тёмных комнатах.
И погнал простой мужик Макар толстой палицей весь люд честной – наших и иноземщину. А дружина царская ещё и помогла ему немалой своей доблестью, решив, что на то царский был указ. А затем достал Макарушка из штанин широких свою дудку верную и запел, и заиграл, заплясал как смог. А дворовые девки и парубки помогли ему как могли.
Слушай меня, кошка,
а на кошке блошка
не кровищу соси,
а отсюда пляши,
допляши до деда —
сварливого соседа.
Вцепись-ка ему в рожу,
потому что так негоже:
драти за уши ребят —
самых честных пострелят!
Ведь мы не виноваты,
что груши красноваты
у деда злющего висят,
дразнят пацанов, девчат.
Так собирайтесь блошки в кучку
и вцепитесь в дедов чубчик!
Оп ля-ля, оп ля-ля! —
скоморошья игра.
И тут невеста царская почувствовала себя самым настоящим ребенком. Засмеялась она во весь голос, закатилась, заклокотала, заёрзала на стуле и брызнули из её глаз слезы счастья. И каждая слезинка горючей жижей скатывалась по её и без того воспаленным щекам, оставляя кровавый след, а на том следу вырастали родинки, бородавки и прочая гноящаяся дрянь. Увидал отец Макар, что с его кровинушкой творится, а дворовая челядь бояться царских запретов перестала и уже в открытую реготала над девушкой. А та вдруг сжалась вся, скукожилась, сплющилась в пичужку малую и замахала крылами-руками от отчаяния. Заревел Макар как зверь лютый, вытянул руки вверх, растопырил ладони широко и зовет родимую с себе в объятия жаркие:
– Прыгай дочь, покуда молод я, прокормлю тебя и себя на воле вольной, не сидеть тебе в клетках золотых, пока жив твой любимый тятенька!
И сиганула в крепки руки внучка царская, и схватил её в охапку тятя родненький, и прыг они оба на кобылу резвую, да и поскакал куда глаза глядят. А дружина царская хотела было вдогонку броситься, да не было им распоряжения такого дадено. А когда царь батюшка очухался, когда понял что к чему, далеко они были: не только конь вороной, но и ветер их не сыщет.
Ну вот. Много ли мало ли прошло с той поры лет, а ходили слухи по свету белому, мол, бродят по городам и весям два скомороха-непотребника: один мужик мужиком, а другой пацан пацаном. И супротив власти песни бунтарские поют. А писари слова тех песен записывают и царю-батюшке докладывают. Но царь-батюшка дюже милостив, скоморохов тех не трогает и другим трогать не велит. Ну, а ежели по секрету, то мужик мужиком – это наш Макарушка, ведьмин сын. А пацан пацаном – это балахоном скоморошьим обвешана его дочка Смеяна, и не разберешь чи отрок она, чи баба. Да и тьфу на них!
А ты спи, Егорка, сказка не конторка,
она как прочтется, так и скроется.
Засыпай, тебе в писари надо готовиться.
– Ну дед, расскажи всё до конца. Смеяна так уродиной и осталась?
Да нет, ну что ты внучок! Она как вместе с тятей первую же его бунтарскую песенку спела, так её лицо и здороветь начало, а слёзы стали чистыми, светлыми, на водичку похожи, только солёные, как и твои.
На железном столбе,
на высоком тереме
сидит кот, раскрыв рот,
а в его рот народ идёт
по одному, толпой, рядами,
и маленькими стадами.
Зачем идёт – не знает,
но идучи, рыдает.
Ой ты, кот-коток,
род людской занемог
от тебя усатого!
Жизнью полосатою
жили мы, страдали,
смертушки не знали,
сеяли, пахали,
баяли, бывали
на далеких берегах
да на северных морях,
на Сибирь смотрели свысока,
и слагали про Ивана-дурака
сказки, небылицы.
Вот ты глянь на наши лица.
Но кот Баюнок,
поджав маленький хвосток,
на народ не глядел,
а всё ел его и ел,
да песни дивные пел:
что ни песня, то обман.
Вот такой у него план!
И чем злее был тот кот,
тем покорней шёл народ
ему в пасть, ему в рот. Вот.
А коль узнали вы себя в народе том,
не пеняйте на царя, что стал котом!
– Дед, а дед, а ведь царь то Берендей добрый был.
– Ну что ты внучок, где ж ты царей добрых видел? Они лишь к своим родным детям и добрые. А народ от них ревёт да плачет, но для царя и это ничего не значит.
– А Смеяна вышла замуж?
– Да кто ж её знает? Может и вышла когда. Но мы об том брехать не будем. Ведь ежели по совести рассудить, то и Макару еще раз жениться было бы не грех.
– А его жена Перебрана по Макару разве не плакала?
– Плакала, внучок, плакала, но столько плакала, насколько её царская воля позволяла – не более и не менее.
– Как это?
– Подрастёшь, поймёшь. Всё, моя рыбка, конец сказки. КОНЕЦ
Жила-была Аглая
ни добрая, ни злая,
но подвиг совершила велик!
Было дело, бес в её сны проник.
Где-то там: на севере необжитом, в тайге непролазной, подальше от добрых людей, в лесной заимке да в крохотной такой избушке, жила-была матушка Аглая – старушка отшельница: икону Троеручницы-помощницы за пазухой носила, воду богоявленную берегла, книги духовные читала, волка-бирюка с рук кормила, диких медведей молитвами со двора гнала да в городе потихоньку копалась.
Вот как-то раз наскучило старушке книги духовные читать, ну и прикорнула она прямо на столике дубовом. И приснился ей сон, как приходит до неё девка Смерть вся в белом и зовет за собой: «Пора тебе, Аглаюшка, со мной в Навь уйти, ведь ни детей, ни родни у тебя не осталось на земле этой грешной!» А рядом со Смертью будто её родные сёстры, братья стоят, отец с матерью и руками машут – её, Аглаю, на тот свет зовут.
Проснулась отшельница и задумалась: «А может и права девка Смерть, соскучились по мне отец с матушкой да братья с сёстрами. Нет у меня в Яви дел знатных да подвигов великих. Пожила, поела, попила – пора и честь знать! Только… Как мне эту Навь сыскать-отыскать? Где ворота те заветные, на тот свет ведущие?»
Но решено так решено, отступать некуда, надо в путь-дорожку собираться. Набрала Аглая в котомку картошки, хлебца, приоделась потеплее, богоявленную воду с собой взяла, вышла во двор, кликнула волка-бирюка и пошла.
Идут они вдвоем по лесу темному, по болоту топкому, по полю светлому, по горам высоким. Волк носом дорогу чует, ведёт хозяйку туда, откуда возврата нет. Наконец, пришли они к дубовой роще Дать-Дуба, к той что южнее южного полюса стоит да севернее северного – в общем, тебе не сыскать!
Заходят, а там дубы-великаны сами от путников расступаются и к дубовым воротам ведут. А ворота те аж до неба достают! У ворот стоит избушка на курьих ножках. Почуяла избушка русский дух да волчий, заскрипела, закудахтала и к путникам передом повернулась, а к воротам задом. Закряхтела в избушке дверь дубовая, отворилась, выглянула оттуда баба Яга – костяная нога и говорит:
– Кого это нелегкая занесла в царство мертвых? Никак соперники прут толпою, тоже ворота сторожить хотят? Ну рассказывай, баба Яга – живая нога, кто тебя ко мне на замену прислал? Никак Кощею Бессмертному я поперек горла встала!
– Господь с тобой, матушка! – замахала Аглая руками. – Никто меня не подсылал, я сама пришла… Ан, нет. Приснился мне сон, как приходит до меня девка Смерть вся в белом и зовет за собой: «Пора тебе, Аглаюшка, со мной в Навь уйти, ведь ни детей, ни родни у тебя не осталось на земле этой грешной!» А рядом со Смертью будто мои родные сёстры, братья стоят, отец с матерью и руками машут – меня на тот свет зовут.
– Понятно, – вздохнула баба Яга. – Опять Смерть озорует, всё покоя ей нету! Так вот что я тебе, баба смертная, скажу: нет живому входа в царство мертвых. Иди-ка ты обратно до дому свой век доживать. А как помрешь, приходи – завсегда рады будем!
Но матушка была непреклонна:
– Единожды приняв решение, взад ногами не идут! Мне сейчас на тот свет надобно – родня, то бишь, ждёт.
Осерчала баба Яга:
– Меня поставили вход в Навь охранять, а посему я тут насмерть стоять и буду! – схватила метлу и встала в глухую оборону перед воротами.
Аглая тоже не промах: вытащила из-за пазухи икону Троеручницы и пошла в наступление. Поплохело бабе Яге сразу, слегла она на траву-мураву и застонала:
– Ой, умираю, умираю, спасите, помогите!
Испугалась Аглая, что до смертоубийства бабу Ягу довела, достаёт она скоренько богоявленную воду и давай ей ведьму опрыскивать. Ой, что тут началось! Баба Яга стала волдырями да коростой покрываться, в страшных муках корчиться. Догадалась матушка, что не доброго человека живой водой опрыскивала, а нежить лесную – силу смурную да нечистую. Но несмотря на это, запричитала Аглая, жалко ей стало ведьму злую:
– Да что ж это я, да что ж это я делаю-то? Какая никакая, а всё ж человек!
Из последних сил затащила Аглая бабу Ягу в ее избушку, благо изба присела до земли – помогла матушке. Положила баба русская бабу лесную на лавку, пошарила по сусекам, нашла травы сушёные, заварила взвар, раны заживляющий, и напоила им Ягу.
– Напоить напоила, а дальше то что? Пока нежить на поправку идёт, пойду к воротам дубовым, авось и откроются! – решила Аглая и пошла.
Но ворота встретили её грозным шипением. Волк как услышал это шипение, вцепился в ворота клыками и давай их терзать. Но куда там, где ему, волчку, сладить с силой сильною! Старушка тоже побилась, потолкалась в ворота и беспомощно плюхнулась на землю. Посидела, поплакала и вспомнила, что видела в воротах замочную скважину. Встала, подошла к тому месту, посмотрела в дыру, но ничего не увидела, окромя спины могучей, богатырской, закрывающей тот свет от взгляда отшельницы.
– Однако, видать вороги и там бузуют, ишь, богатырей понаставили! – удивилась баба русская.
«Хм, есть скважина, есть и ключ!» – подумала Аглая и побежала в избушку на курьих ножках.
Обшарила она все углы в избе, но ключа заветного не нашла. И перекрестясь, полезла шарить по карманам хворой бабы Яги. И нашла таки ключик малый.
– Есть ключ, есть и скважина! – пробурчала Аглая да полезла искать невелик замок.
И нашла в углу сундук, на ключ запертый. Вставила она в замочную скважину ключ и он подошёл. Отперла сундук, а на дне сундука лежал огромный ключ. Еле-еле вытащила его старушка из сундука и волоком потащила из избы до дубовых ворот. Вставила она ключ в замочную скважину и повернула три раза.
Заскрипели ворота, завизжали и приоткрылись ненамного: так, чтобы лишь человек прошёл. Рванул волк-бирюк в щель и исчез в том свете навсегда. Перекрестилась Аглая и сама шаг вперёд сделала. Сделала и остановилась. Беспокойно стало матушке, стоит, не знает что делать: то ли самой смело в загробный мир идти, то ли бежать волчишку из беды выручать и обратно! А пока она стояла в раздумьях, вылетел её волчок со страшным свистом из ворот обратно в Явь, как будто его вытолкнул кто-то. Приземлился бирюк на землю, жалобно заскулил, на лапы поднялся и вцепился в подол хозяйки-кормилицы – оттягивает её от злых ворот подальше. Но тут в щель просунулась голова сильного могучего богатыря Горыни – старшего охранника царства Навьего. И говорит Горыня, как гром гремит:
– Кого это баба Яга так смело в Навь пустила?
Испугалась отшельница, задрожала вся, как осиновый лист, отвечает Горыне:
– Дык не баба Яга, а я сама осмелилась. А Ягу я случайно до смертоубийства довела, лежит бедняжка в избе, помирает!
Захохотал Горыня, будто горная река забурлила:
– Отлежится и встанет! Бессмертная она, из тёмных богов. А что тебе, бабка, в Нави понадобилось?
– Приснился мне сон, как приходит до меня девка Смерть вся в белом и зовет за собой: «Пора тебе, Аглаюшка, со мной в Навь уйти, ведь ни детей, ни родни у тебя не осталось на земле этой грешной!» А рядом со Смертью будто мои родные сёстры, братья стоят, отец с матерью и руками машут – меня на тот свет зовут.
– Понятно, – вздохнул Горыня. – Опять Смерть озорует, всё покоя ей нету! Так вот что я тебе, баба смертная, скажу: нет живому входа в царство мертвых. Иди-ка ты обратно до дому свой век доживать. А как помрешь, приходи – завсегда рады будем!
Но Аглая была непреклонна:
– Единожды приняв решение, взад ногами не идут! Мне прям сейчас на тот свет надобно – родня, то бишь, ждёт.
– Родня, говоришь? – усмехнулся Горыня. – Ну иди, посмотри на свою родню одним глазочком.
Тут дубовые ворота с шумом захлопнулись и перед лицом Аглаи оказалась та самая замочная скважина. Решила старая посмотреть в замочную скважину, но не увидела спины могучей, богатырской: отодвинулся Горыня в сторонку. А увидела она души земные, бьющиеся в смертельной схватке с тёмной силою: и конца и края нету этому бою неравному – черным черна вся Навь от бесов и демонов!
– Бесконечный этот бой, бесконечный! – услышала она голос Горыни. – Иди-ка ты домой, а когда срок придёт, Смерть тебя сама приберет.
– А где ж моя родня? – взмолилась Аглая.
– А твоя родня первой в бою неравном полегла! – захохотал Горыня.
– Как же так?
– Вот так, вот так, бери жизнь просто так и мотай на кулак! – зареготал богатырь и закрыл своей спиной замочную скважину.
– Тут что-то не так, – пробормотала матушка. – Пойду-ка я домой, подумаю обо всём.
Развернулась она и побрела. Но надумала впервой черёд бабу Ягу проведать, зелье целебное ей ещё разочек дать. Заходит в избушку на курьих ножках, видит, ведьме уже полегчало: короста с лица сошла и язвы на теле заживают. Истопила Аглая печь, вскипятила отвар и напоила им Ягу. Очнулась баба Яга, увидела подле себя бабу русскую, рассвирепела:
– Ах, ты смердище бабище, сейчас тебя в печь сажать буду, уж больно я голодна!
Ни жива ни мертва выкатилась из избушки Аглаюшка. А верный волк ей уже спину подставляет. Вцепилась старушка в волчью шерсть, и понёс её волчара в края сибирские, до родной заимки.
Баба Яга чуток очухавшись, прыг в ступу и полетела вдогонку за волком и Аглаей! Оглянулся бирюк, увидал погоню, оторвался от земли и тоже полетел. Прилетел в родную заимку и опустился во двор. А во дворе медведи злые лежат-полеживают, ждут хозяйку, слюни голодные глотают – съесть её хотят. Помахала Аглая иконкой Троеручницы и медведи злые расступились. Вошла она в дом (волк за ней следом) и двери на палку закрыла.
Подлетела баба Яга к заимке, глядь вниз, а избушку отшельницы медведи злые охраняют, слюни голодные глотают – съесть бабу Ягу хотят. Покружилась ведьма, покружилась и полетела обратно – вход в Навь охранять.
А Аглаюшка затопила печурку свою ненаглядную, отварила картошки, испекла хлеб, накормила волка-бирюка и злых медведей в благодарность за спасение.
И стали они все вместе жить-поживать да добра не наживать на севере диком, в тайге непролазной, в лесной заимке, подальше от добрых людей. Волк-бирюк всё чаще по лесу шастал, волчицу себе искал, да всё впустую – стал стар больно. Злые медведи подобрели, за хаткой отшельницы приглядывали: нежить лесную отгоняли да лис попрошаек. А матушка Аглая икону Троеручницы-помощницы за пазухой носила, воду богоявленную берегла, книги духовные читала да в огороде потихоньку копалась. А про Навь и поминать боялась, о Смерти не думала, лишь бурчала иногда:
– Придёт ещё наш срок! – да волка своего ручного гладила, с рук кормила и приговаривала. – Ешь, сынок, ешь!
Ты поспи, Егорка,
придет и твоя долька:
непременно, не иначе
все помрем в зловещей драке!
