«…Ради речи родной, словесности…» О поэтике Иосифа Бродского бесплатное чтение
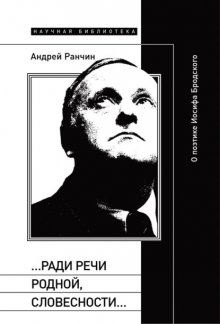
© А. Ранчин, 2025
© А. Хайрушева, дизайн обложки, 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
Памяти родителей
Вместо предисловия
Все работы, вошедшие в книгу, которая сейчас перед вами, объединены одной общей темой: это поэтика стихотворных произведений Иосифа Бродского. Рассматривается она в двух аспектах. Более общий – философские основы поэзии автора «Части речи» и «Урании», а именно платонизм и экзистенциализм, а также образ лирического «я», ахматовский след, особенности поэтического идиолекта, образы Петербурга и Венеции в стихотворениях Бродского. Исследования, посвященные этим предметам, составили первый раздел книги. Второй раздел образуют исследования, посвященные анализу и истолкованию отдельных произведений поэта, в большинстве своем относящихся к числу наиболее неясных и загадочных. В третьем помещены рецензии на монографии и сборники последних лет, в которых рассматривается творчество Бродского.
Работы, составившие эту книгу, в большинстве своем были написаны во второй половине 2010-х – начале 2020-х годов. В абсолютном большинстве случаев они не вошли в мои предыдущие книги, напечатанные в издательстве «Новое литературное обозрение» и полностью1 или частично2 посвященные поэтике Бродского. Исключение сделано лишь для таких текстов, как «„Развивая Платона“: философская традиция Иосифа Бродского» и «„Человек есть испытатель боли“: религиозно-философские мотивы поэзии Бродского и экзистенциализм», которые прежде вошли в первую книгу, и статьи «„Полярный исследователь“ Иосифа Бродского: текст и подтекст», содержащейся во второй книге. Эти отступления от общего принципа объясняются тем, что первые две статьи носят обобщающий, концептуальный характер и способствуют пониманию основ творчества поэта как целого, а третья работа удачно вписывается в контекст второго раздела книги, представляющего собой единый цикл исследований, посвященных истолкованию отдельных стихотворений. Что касается статьи «„Развивая Платона“: философская традиция Иосифа Бродского», она печатается в новой редакции, существенно отличающейся от версии 2001 года. Впрочем, дополнения, порой весьма значительные, внесены и в некоторые другие работы, которые прежде были напечатаны в различных журналах и сборниках.
Произведения Иосифа Бродского, кроме особо оговоренных случаев, цитируются по изданию: Сочинения Иосифа Бродского [: В 7 т.] / Общ. ред.: Я. А. Гордина; сост.: Г. Ф. Комаров. СПб.: Пушкинский фонд, 2001. Номера томов указываются в скобках римскими цифрами, номера страниц – арабскими.
В изучении творчества Бродского мне оказала неоценимую помощь и поддержку скончавшаяся в марте 2022 г. Валентина Полухина. Малая посильная дань ее памяти – некролог в последнем разделе книги.
Для меня приятный долг – выразить благодарность главному редактору издательства «Новое литературное обозрение» Ирине Прохоровой. «…Ради речи родной словесности…» – уже четвертая моя книга, ею изданная. Моя благодарность, однако, вызвана не только этой причиной. «Новое литературное обозрение» – издательство, созданное и существующее благодаря ее усердию и неустанному труду, – радовало, радует и, уверен, будет радовать нас публикациями замечательных книг и новыми номерами прекрасных журналов.
…Бывают сближения, которые человек суеверный или мистически чуткий назвал бы символическими. Статья «От мистерии к балагану: „Шествие“ и „Представление“ Иосифа Бродского» писалась в то время, начало и конец которого были обозначены уходом из жизни моих родителей. Тема смерти матери и отца – трагическая нота финальной части второй из этих поэм. Памяти отца и матери я и посвящаю эту книгу.
I
«Развивая Платона»: философская традиция Иосифа Бродского3
Этот текст – один из опытов приближения к творчеству Бродского, точнее – к его «внутреннему видению», точке зрения на мир, к центру, в котором соединяются поэтика и философия.
Чтобы увидеть изображение, нужно знать правила перспективы, которым следует автор. Особенно если перспектива не привычная для нас реалистическая, естественная, а, к примеру, обратная. Как на иконе, где пространство сужается не у линии горизонта, а на переднем плане. Как будто ангелы или святые, кони или храмы увидены кем-то из глубины, изнутри изображения, и мы созерцаем этот взгляд другого. Такой пример не столь случаен, как может показаться. Если сравнивать поэзию с искусством писать красками и кистью, то лирика Бродского, скорее «видящего», а не «слышащего» свои тексты4 («…черный вертикальный сгусток слов на белом листе бумаги напоминает человеку о собственном положении в мире, о пропорции пространства к его телу» – «Нобелевская лекция» [I; 15]), действительно заставляет вспомнить о работе иконописца, а не художника, создающего иллюзию реальности.
Есть высказывания Бродского о сущности поэзии – в интервью, в Нобелевской лекции, в эссе. Их смысл неизменен: поэзия – искусство, имеющее своим предметом и целью язык. Если не своим автором.
- Так родится эклога. Взамен светила
- загорается лампа: кириллица, грешным делом
- разбредясь по прописи вкривь ли, вкось ли,
- знает больше, чем та сивилла,
- о грядущем. О том, как чернеть на белом,
- покуда белое есть, и после.
Кто последний адресат поэта? Стихи, перо («скрипи, скрипи, перо! // переводи бумагу» – «Пятая годовщина (4 июня 1977)», 1977 [III; 150]). Слова и буквы. Причем в своей теряющей последние материальные признаки абстрактности. Любые слова и буквы. Их графический контур. Черное на белом. Два цвета.
Кажется, текст не выходит за свои рамки, за поля бумажного листа, по которым разбредутся новые буквы. Разбредутся буквы. По собственной воле, сами заполняют пространство, а перо скрипит.
И даже зимний пейзаж, увиденный из космической дали, – тот же лист бумаги. Белый снег, знаки – заячьи следы:
- Если что-то чернеет, то только буквы.
- Как следы уцелевшего чудом зайца.
Названные примеры, конечно, не весь Бродский, но это логический итог его поэзии5.
Поэт, столь свободно подчиняющий свои строки непредсказуемому ходу ассоциаций, разноликий в разных стихотворениях, видит свой лирический мир совсем не «словесно», а «графически» и очень отвлеченно. В этом парадоксе скрыт глубокий философский смысл.
Вчитываясь в суждения Бродского о языке, нетрудно заметить, что их предмет – не язык в строго лингвистическом понимании. К примеру, в размышлениях о Достоевском:
<…> силой, сделавшей Достоевского великим писателем, не была ни притягательная завлекательность его повествования, ни даже исключительная глубина его ума и сострадания; это был инструмент или, скорее, текстура употребленного им материала – т.е. русский язык
(эссе «The power of elements» – «Сила элементов»6).
Или еще один пример: утверждение, что история русской прозы – крушение утопии «тысячелетнего царства Божия на земле», – это именно катастрофа языка (эссе «The catastrophe in the air» – «Катастрофа в воздухе»).
«Полусакральная», творящая и одухотворяющая сила слова заключена в причастности к завершающему Смыслу, более глубокому, чем нам известный и нами выражаемый. Неоконченный, но уже оформившийся в замысле текст – прообраз, обнимающий все написанное поэтом, должен в свернутом виде заключать целую Вселенную, космос. Должен хранить мир идей, вещей и механизм создания предметов из слов, раскрытия логоса. Порождающий первоэлемент такой поэтики – философия идей Платона и ее неоплатонические филиации в античности и христианском богословии.
- Разрастаясь как мысль облаков о себе в синеве,
- время жизни, стремясь отделиться от времени смерти,
- обращается к звуку, к его серебру в соловье,
- центробежной иглой разгоняя масштаб круговерти.
- Так творятся миры, ибо радиус, подвиги чьи
- в захолустных садах созерцаемы выцветшей осью,
- руку бросившим пальцем на слух подбирает ключи
- к бытию вне себя, в просторечьи – к его безголосью.
- Так лучи подбирают пространство; так пальцы слепца
- неспособны отдернуть себя, слыша крик «Осторожней!»
- <…>
- Чем пластинка черней, тем ее доиграть невозможней.
Центр, точка, радиус, из которых распространяется свет, вычленяет из мрака предметы (звук и свет «в вещах <…> превращены в слова» – «Полдень в комнате», 1978 (?) [III; 176]),– это очень похоже на художественную модель платоновского космоса: вечный ум, неизменные идеи, подобно челноку ткача, создающие вещи из неоформленной материи; каждой тленной вещи соответствует ее неуничтожимая идея – первообраз; божественная энергия изливается по ступеням мироздания8.
Совпадения с образами у неоплатонических философов несомненны9.
Представьте себе светящуюся небольшую точку в качестве центра, который более ниоткуда не заимствует своего сияния. Этот шар можно конструировать следующим образом: представьте, что в нашем мире каждое существо, сохраняя свою индивидуальную сущность, сливается с другими во единое целое, так что получается прозрачный шар, в котором можно видеть солнце, звезды, землю, море, живых существ <…>
Ум – это круг, окружающий центр, и потому как бы центровидный, ибо радиусы круга, идя от центра, образуют в своих окончаниях подобие того центра, к которому они стремятся и из которого выросли: в конце радиусов получается круг, как подобие круглой центральной точки. Таким образом, центр господствует над концами радиусов и над самими радиусами и раскрывается в них, не переносясь, однако, сам в них, и круг (ум) есть как бы излияние и развертывание центра (единого), —
так рисует П. П. Блонский универсум Плотина10.
Первообразы платонизма и неоплатонизма сверхчувственны и умопостигаемы; но, в отличие от соотносимых с ними слов-понятий, – они обладают собственным бытием. И поэтому их можно созерцать духовным зрением. В идеях-первообразах нельзя выделить материю и смысл, привходящее и существенное. Восприятие Бродским слов подобно философскому созерцанию идей-эйдосов. Слово и звук ощущаются поэтом как лишенные прерывистости, не дискретные, подобно свету.
В философской традиции, восходящей к неоплатонизму, мироздание представлено как взаимопереход двух реальностей: сужающегося книзу опрокинутого конуса божественного света и обращенного вверх конуса тьмы.
<…> [Б]ог, будучи единством, представляет собой как бы основание [пирамиды] света; основание же [пирамиды] тьмы есть как бы ничто. Все сотворенное, как мы предполагаем, лежит между [Б]огом и ничто, —
так описывает эту фигуру («парадигму») Николай Кузанский («О предположениях» – 1; 9; 42, пер. З. А. Тажуризиной)11. Световой конус пребывает в вечности, конус тьмы – во времени.
В поэзии Бродского сохранена фигура-«парадигма» Николая Кузанского; но она символизирует скорее не разомкнутость земного бытия в высшую реальность, а стесненность и безысходность человеческого существования. Пространство косно, неподвижно.
- Время больше пространства.
- Пространство – вещь.
- Время же, в сущности, мысль о вещи.
В эссе «Бегство из Византии» – «Flight from Byzantium»12 поэтический афоризм Бродского развернут в философское положение:
Пространство для меня и меньше, и менее дорого, чем время, не потому, что оно для меня меньше, но потому, что оно – вещь, тогда как время – идея вещи. В выборе между вещью и идеей последняя всегда предпочтительнее,– говорю я (р. 435)13.
О своем отношении к времени Бродский наиболее полно сказал в интервью Дж. Глэду:
Дело в том, что меня более всего интересует и всегда интересовало на свете (хотя раньше я полностью не отдавал себе в этом отчета) – это время и тот эффект, какой оно оказывает на человека, как оно его меняет, как обтачивает, то есть это такое вот практическое время в его длительности. Это, если угодно, то, что время делает с человеком, как оно его трансформирует. С другой стороны, это всего лишь метафора того, что вообще время делает с пространством и с миром. Но это несколько обширная идея, которой лучше не касаться, потому что на самом деле литература не о жизни, да и сама жизнь – не о жизни, а о двух категориях, более или менее о двух: о пространстве и о времени.
<…> Во всяком случае, время для меня куда более интересная, я бы даже сказал, захватывающая категория, нежели пространство, вот, собственно, и все…14
Время – условие изменения вещей, человека, власти. Жизнь есть, пока «Время / не поглупеет, как Пространство» («Пьяцца Маттеи», 1981 [III; 211]), не остановится, не оцепенеет. Но время несет и Смерть. Торжествует «вычитание» («Письма римскому другу», 1972 [III; 12]).
Символы смерти, парадоксальное соединение одушевленного и безжизненного,– статуя, мрамор. Пышный декорум тоталитаризма, объявляющий бюстами-памятниками о своей вечной мертвенности. Скульптура оживает, только становясь причастной к времени, когда сквозь ветшающую оболочку ее материи вырывается свет. (Так, в стихах, написанных поэтом в стенах «Третьего Рима», от статуи, памятника, мраморного торса веет могильным холодом. И лишь в «Римских элегиях», созданных после посещения настоящего Вечного города, скульптуры оживают…)15
«Двусмысленность», двойственность – свойство времени, освобождающего от духовной смерти и направляющего человека к физическому небытию. Над домом, в котором провел свое детство и юность поэт с родителями, разрывается бомба времени, оставляя уцелевшему сыну только воспоминания: «…бомба времени, которая разбивает вдребезги даже память» – эссе «In a room and a half» («В полутора комнатах», р. 496)16.
Особенная ценность времени для Бродского заключена в том, что одно из его проявлений – ритм, просодия, музыка стиха:
<…> просодия знает о времени куда больше, чем может учитывать человек.
<…>
То, что называется музыкой стихотворения, есть, в сущности, процесс реорганизации Времени в лингвистически неизбежную запоминающуюся конструкцию, как бы наводящую Время на резкость.
Звук, иными словами, является в стихотворении воплощением Времени – тем задником, на фоне которого содержание приобретает стереоскопический характер.
<…>
[Просодия], по сути, есть хранилище времени в языке.
(Эссе «The Keening Muse» – «Муза плача», авториз. пер. М. Темкиной [V; 37, 38, 42])
В осмыслении истории Бродским время оценивается неоднозначно. С одной стороны, оно наделено позитивными оттенками смысла, как атрибут динамики, событийности, оно противопоставлено статике тоталитарного государства (ср. оппозицию ацтеки – испанцы в стихотворении «К Евгению» [1975] из цикла «Мексиканский дивертисмент» и оппозицию временной ритм, свойственный западной цивилизации – пространственный ритм орнамента в эссе «Путешествие в Стамбул» / «Flight from Byzantium»). С другой – линеарная концепция времени интерпретируется как «беременная», чреватая тоталитаризмом из-за якобы неизбежной телеологичности (все устремлено к одной цели) в противоположность «уютной», «домашней» циклической концепции времени, присущей классической Античности (то же эссе). С третьей – по мысли поэта, движение современной цивилизации во времени – это процесс необратимой деградации, «оледенения», одичания17.
Время у Бродского может внезапно предстать в «пространственном», вещественном облике. Это Босфор и Балтика, чьи волны разделяют два мира – изменяющийся Запад и неподвижный Восток. Время может физически перестать существовать, выпасть в осадок – это пыль на улицах Стамбула (образы из эссе «Flight from Byzantium»). В пьесе «Мрамор» – антиутопии о поствремени «нового Рима» (с опознавательными знаками «родной державы») нарисован мир, который остановился. Граждан сажают в тюрьму не на основании «вины», даже ложной, а по «твердому проценту» от числа всех подданных Империи. Закон равновесия торжествует абсолютно: вес доставляемой узникам пищи эквивалентен весу их экскрементов. Есть только одно, и ничего другого. Тюрьма – это абсолютная свобода, без всякого выбора. Империя – это весь Универсум. И «правильный» заключенный Туллий устремлен лишь к одному – созерцать время в его чистом, беспримесном виде. Вне вещей, вне изменений18. Но это и есть Смерть.
- Вас убивает на внеземной орбите
- отнюдь не отсутствие кислорода,
- но избыток Времени в чистом, то есть
- без примеси вашей жизни, виде.
Сходно описан эмпирей с точки зрения птицы (ястреба):
- <…> Но как стенка – мяч,
- как паденье грешника – снова в веру,
- его выталкивает назад.
- Его, который еще горяч!
- В черт-те что. Все выше. В ионосферу,
- В астрономически объективный ад
- птиц, где отсутствует кислород,
- где вместо проса – крупа далеких
- звезд. Что для двуногих высь,
- то для пернатых наоборот.
Античные философские коннотации этого «американского» стихотворения обнажены в обыгрывании «общего места» греческой мысли – определения: «человек есть бесперое двуногое».
Время, подобное океану, в своей протяженности, вездесущести и субстанциональности противопоставлено человеку с его ограниченностью, обособленностью: «человек есть конец самого себя / и вдается во Время» («Колыбельная Трескового мыса», 1975 [III; 90])20.
Выход в эмпирей, согласно поэту, лишь усугубляет (а не разрешает) и осложняет трагичность существования. И неслучайно устремленные к небу конусоидные фигуры (они многолики – кремлевская башня или Останкинская вертикаль, минарет или ракета) символизируют не приобщение к надмирной истине, а попытку умертвить время как длительность, как поток событий. И одновременно ограничить, замкнуть пространство.
Мир сходящихся линий. Тупик:
- И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут,
- но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут —
- тут конец перспективы.
- <…> сходя на конус,
- вещь обретает не ноль, но Хронос.
Таков образ родной Империи. Но и при выходе за пределы этого «конуса тьмы» не достигаешь освобождения:
- Перемена империи связана с гулом слов,
- с выделеньем слюны в результате речи,
- с лобачевской суммой чужих углов,
- с возрастанием исподволь шансов встречи
- параллельных линий (обычной на
- полюсе). И она,
- перемена, связана с колкой дров,
- с превращеньем мятой сырой изнанки
- жизни в сухой платяной покров
- <…> с фактом, что ваш пробор,
- как при взгляде в упор
- в зеркало, влево сместился… С больной десной
- и с изжогой, вызванной новой пищей.
- С сильной матовой белизной
- в мыслях – суть отраженьем писчей
- гладкой бумаги. И здесь перо
- рвется поведать про
- сходство. Ибо у вас в руках
- то же перо, что и прежде. В рощах
- те же растения. В облаках
- тот же гудящий бомбардировщик,
- летящий неведомо что бомбить.
- И сильно хочется пить.
Изоморфность в некоторых глубинных своих чертах СССР и США, конечно, прежде всего не социальная, а «онтологическая». «Бытие и ино-бытие», или «два мира» (на недавнем официозном языке), – сходящиеся зеркальные конусы, взаимно отражающие друг друга. «Это – конец вещей, это – в конце пути / зеркало, чтоб войти» («Торс», 1972 [IV; 26]).
Два мира (горний и дольний, свое-странный и ино-странный – каковы их правильные имена?) похожи. Меняется чет и нечет, правое и левое. Встречая взгляд умершей на родине за океаном матери, образ которой смутно проступает в памяти («Где там матери и ее кастрюлям уцелеть в перспективе, удлиняемой жизнью сына!» – «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…», 1987 [IV; 26]), поэт (или лирический герой поэта) закрывает руками не глаза, а затылок. И если решиться объяснять это движение, то оно, наверное, связано и с тем, что из мира теней и сквозь обратную сторону вещей видны их лица и человек прозрачен для взгляда умершей матери:
- Остается, затылок от взгляда прикрыв руками,
- бормотать на ходу «умерла, умерла», покуда
- города рвут сырую сетчатку из грубой ткани,
- дребезжа, как сдаваемая посуда.
«Геометрическое» мировидение Бродского, несомненно связанное с античной традицией (в том числе прежде всего с космологией платоновского «Тимея»), родственно и религиозно-философскому осмыслению математических фигур П. А. Флоренским.
<…> [С] точки зрения современной физики мировое пространство эмпирическое и признается конечным, равно как и время – конечное, замкнутое в себе, —
писал Флоренский21. И далее:
<…> на границе Земли и Неба длина всякого тела делается равной нулю, масса бесконечна, а время его, со стороны наблюдаемое, – бесконечным. Иначе говоря, тело утрачивает свою протяженность, переходит в вечность и приобретает абсолютную устойчивость. Разве это не аристотелевские чистые формы? Или, наконец, разве это не воинство небесное, – созерцаемое с Земли как звезды, но земным свойствам чуждое?
Так – на пределе, при β=022. Но за пределом, при v > c время протекает в обратном смысле, так что следствие предшествует причине. Иначе говоря, здесь действующая причинность сменяется,– как и требует аристотеле-дантовская онтология,– причинностью конечною, телеологией,– и за границею предельных скоростей простирается царство целей. При этом длина и масса делаются мнимыми.
<…>
Выражаясь образно, а при конкретном понимании пространства – и не образно, можно сказать, что пространство ломается при скоростях, больших скорости света <…>23
Бытие и инобытие зримо представлены в геометрических мнимостях:
<…> провал геометрической фигуры означает вовсе не уничтожение ее, а именно ее переход на другую сторону поверхности и, следовательно, доступность существам, находящимся по ту сторону поверхности24.
Внимание к геометрическим, математическим «схемам», которым причастны вещи, к связям геометрии и философии времени роднит Бродского с Флоренским, но переживание и интерпретация этих связей – резко отличают. Телеологизм, принимаемый философом-священником, мучителен для поэта; для него это как бы детерминизм в квадрате25. А геометрическая схема вещи не приобщает предмет к вечности, а лишает своеобразия:
- Вечер. Развалины геометрии.
- Точка, оставшаяся от угла.
- Вообще: чем дольше, тем беспредметнее.
- Там раздеваются догола.
- <…>
- Это – комплекс статуи, слиться с теменью
- согласной, внутренности скрепя.
- Человек отличается только степенью
- отчаянья от себя.
Звезда, светящаяся точка на границе двух миров, олицетворяет не только близость другому, но и одиночество.
- Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.
- Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
- на лежащего в яслях ребенка издалека,
- из глубины Вселенной, с другого ее конца,
- звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.
«Небесное око» с Земли видится звездою, но, может быть, это взгляд не другого, а самого земного «созерцателя», «я» – поэта, одинокого и единственного в пустом космосе:
- Но, как звезда через тыщу лет,
- Не нужная никому,
- что не так источает свет,
- как поглощает тьму,
- следуя дальше, чем тело, взгляд,
- глаз, уходя вперед,
- станет назад посылать подряд
- все, что в себя вберет.
Звезда у Бродского (кстати, постоянный образ его рождественских стихов) направляет нас не только к евангельской звезде Вифлеема, но и к платоновской седьмой сфере, и к звездному небу Канта. Но у Бродского звезда чаще всего единственна, посылаемая ею световая эманация (вещные архетипы или образы памяти) может остаться неувиденной. Она онтологически случайна. Это существование, оторвавшееся от сущности.
В поэзии Бродского нет посредника между Первоначалом и созерцателем. Ни мировой души, ни Демиурга Платона, ни иерархии неоплатоников, ни небесных сил Псевдо-Дионисия Ареопагита. Если в пространстве Бродского возникает ангел (напоминающий авиатора), он – лишь изъян на чистой плоскости неба. Между вечностью и временем нет эона, «временной вечности», связующего их звена. Остаются: Единое (Бог?), единичные вещи и одинокий человек. Это одиночество свободы, – но и интеллектуальной драмы.
Вещи не радуют глаз, потому что их существование проблематично и они пугают своей мертвенной жизненностью:
- Вещь, помещенной будучи, как в Аш —
- два-О, в пространство, презирая риск,
- пространство жаждет вытеснить; но ваш
- глаз на полу не замечает брызг
- пространства. Стул, что твой наполеон,
- красуется сегодня, где вчерась.
- <…>
- Лишь воздух. Вас охватывает жуть.
- Вам остается, в сущности, одно:
- вскочив, его рывком перевернуть,
- Но максимум, что обнажится – дно.
- Фанера. Гвозди. Пыльные штыри.
- Товар из вашей собственной ноздри.
- <…>
- Он превзойдет употребленьем гимн,
- язык, вид мироздания, матрас.
- Расшатан, он заменится другим,
- и разницы не обнаружит глаз.
- Затем что – голос вещ, а не зловещ —
- материя конечна. Но не вещь.
Неизменяемость, вечность вещи – в ее сделанности, искусственности: вещи сконструированы по стандарту и потому полностью взаимозаменяемы, лишены лица (лишь в причастности мысли к человеку вещь может в какой-то мере одушевляться; таков, возможно, смысл фразы «Освещенная вещь обрастает чертами лица» – «Bagatelle», опубл. 1987 [IV; 38]). Вещи как бы продолжают человека в пространстве, но и отчуждены от него, пугая своим подобием живому телу: «Тело, застыв, продлевает стул. / Выглядит, как кентавр» («Полдень в комнате» [II; 447])26.
Именно сделанные вещи ощущаются современным сознанием, сознанием поэта XX века, знаками бессмертных и неподвижных идей-эйдосов: замысел и его реализация не замутнены колеблющейся и текучей материей, как в природе.
Для Бродского, обостренно чувствующего ценность каждой индивидуальности27, тиражируемая, схематизированная вещь – страшна. Поэта отталкивает в ней не только застывшая, окостеневшая схема, но и упругая, непрозрачная, чужеродная материя, сведенная к своим элементарным свойствам – плотности, твердости, объему; к атомам, заполняющим пустоту. И человек не может оставить след, заявить о своем присутствии в вещественном мире:
- У вещей есть пределы. Особенно – их длина,
- неспособность сдвинуться с места. И наше право на
- «здесь» простиралось не дальше, чем в ясный день
- клином падавшая в сугробы тень
- XIV
- дровяного сарая. Глядя в другой пейзаж,
- будем считать, что клин этот острый – наш
- общий локоть, выдвинутый вовне,
- которого ни тебе, ни мне
- не укусить, ни, подавно, поцеловать.
Вещи легко встраиваются в словесный ряд в отличие от человека, и этот ряд развивается по своим автономным законам:
- Взятая в цифрах, вещь может дать
- тамерланову тьму,
- род астрономии. Что под стать
- воздуху самому.
- <…>
- В будущем цифры рассеют мрак.
- Цифры не умира.
- Только меняют порядок, как
- телефонные номера.
Самодовлеющая система видится поэту правлением сверхабстрактного, но и «сверхабсолютного» тоталитаризма. Антиутопии XX века («Мы» Замятина и другие произведения) нарисовали математизированное государство, а отечественная власть реализовала многие страшные предположения. Среди них – замену человека номером.
Поэтическое воссоздание Бродским (или «реставрация») античных «геометрем»-философем, кроме многого прочего, связано с вниманием автора к проблемам и вопросам, лежащим на границах современной математики, физики и философии, касающимся структуры мироздания. Платоновское учение об идеях по-своему не столь далеко отстоит от представлений физики о строении вещества, заметил В. Гейзенберг29. А. Грюнбаум для иллюстрации «замкнутого», нелинеарного времени воспользовался традиционным образом – символом вечности в античной философии – окружностью или орбитой, но по этой орбите движется одна-единственная частица, и в этом мире не может быть никакого наблюдателя30.
Современное научное сознание в некоторых отношениях согласно с античной мыслью, но в повседневном бытии и душевном опыте между Античностью и нашим временем – пропасть.
Наше существование разрознено, атомизировано и обессмысленно,– констатирует Бродский31. Античная философия, исходящая из построений Платона, не только отличается высокой системностью, но и приписывает таковую жизни, миру. Это черта платонизма, привлекающая и отталкивающая поэта одновременно.
<…> [О]н не столько мыслитель, сколько «размыслитель», он не только по темпераменту, но и по выбору не позволяет себе свести свои взгляды в некую систему, потому что система имеет свойство навязывать себя, окостеневать. То, что у него есть, – это система взглядов, но не философская система. Суть ее сводится к осознанию чрезвычайного разнообразия человеческих ситуаций и к идее равенства всех этих ситуаций, и равенства, если угодно, всех взглядов на мир, то есть, грубо говоря: ты прав, и я прав, и мы все правы, и нам нечего больше делить <…> Это демократический взгляд, доведенный до абсолюта, —
говорит Иосиф Бродский об Исайе Берлине32, английском мыслителе, уроженце России, выделяя очень симпатичное поэту свойство ума.
Об отношении к закрытым, самодостаточным системам свидетельствует и эссе «Flight from Byzantium»:
Изъян любой системы, даже совершенной, – в том, что это – система, – т. е. что она по определению исключает некоторые вещи, рассматривает их как чужеродные и, насколько это возможно, низводит в небытие
(р. 42; ср.: [V; 299]).
С другой стороны, константа поэтического мира Бродского – образ самопорождающегося и всеохватывающего текста. Такой текст, безусловно, закрытая система – ведь он описывает мир во всех его состояниях. Вероятно, этот текст недоступен человеку (как апокалиптическая Книга судеб) или может толковаться им неверно. Его язык нам неизвестен.
Впрочем, если и оставаться в рамках чисто литературоведческой интерпретации, нельзя не заметить, что Бродский вписывает свои стихотворения в контекст достаточно жесткой системы, о чем свидетельствуют ограниченный лексикон слов-констант33, автоцитация, часто – ориентация на традицию с устойчивым каноном (античную и классическую поэзию прежде всего). «Сакрализованный» статус языка, направленность авторской интенции не на сообщение, а на поэтический код (точнее, и на сообщение, и на код одновременно) также невозможны вне «системоцентричной» эстетики34.
Нет, космос Бродского не слепок (пусть даже в чем-то и «перевернутый») с универсума вечных идей Платона или неоплатонической философии. Может быть, философская традиция, значимая для поэта, была им названа в цитированном выше интервью М. Б. Мейлаху: перечисляя имена духовно близких «замечательных людей», Бродский упомянул среди них имя Карла-Раймунда Поппера. Одну из своих книг, «The open society and its enemies» («Открытое общество и его враги»), написанную в конце 1930-х – начале 1940-х годов перед лицом тоталитарной угрозы и со стороны фашистской, и со стороны коммунистической идеологии, Поппер посвятил обоснованию самоценности свободы. Первый том книги «The spell of Plato» (чье название многозначно: это и «чары», и «время Платона»)– критический анализ платоновской философии35. Учение о совершенных вечных идеях и их ущербных подобиях, материальных вещах, согласно Попперу, неизбежно приводит к тоталитарным общественным идеалам, выраженным философом в знаменитом диалоге «Государство». Предпочтение абстрактных неподвижных идей индивидуальному и подвижному миру явлений несовместимо со свободой и демократией36. В известной мере, по Попперу, философия Платона – исходная точка многих теорий, недооценивающих свободу, – марксизма в их числе.
Идеальное Государство Бродскому не нравится – с отблеском его божественной идеи в материальном мире поэт был знаком лучше, чем Поппер,– назову лишь стихотворение «Развивая Платона»37. Бродскому близка и попперовская идея относительности истин. И резкое, непримиримое отрицание всех теорий, исходящих из представления о нерушимом историческом законе.
Человек свободен в истории и отвечает за свой выбор. У истории есть закономерности, но не законы. Ни одна из наших интерпретаций истории «не является последней, каждое поколение имеет право на создание собственных» («Открытое общество и его враги», глава «Имеет ли история смысл?»38). «Памяти бесчисленных неисчислимых мужчин и женщин всех вер или рас, которые пали жертвами фашистской и коммунистической веры в безжалостные законы исторической судьбы» посвятил Поппер книгу «The Poverty of Historicism» («Нищета историцизма»)39.
И Поппер, и Бродский не принимают тоталитаризма, их мысли чисты от его искушений. Философ близок поэту не только этим. «Платоновская» метафизика Бродского родственна не в такой мере идеям греческого мыслителя, как попперовской «теории трех миров».
Мы можем различать следующие три мира, или универсума: во-первых, мир физических объектов или физических состояний; во-вторых, мир состояний сознания <…> в-третьих, мир объективного содержания мышления, прежде всего содержания научных идей, поэтических мыслей и произведений искусства
(из работы «Эпистемология познающего субъекта»40).
К «третьему миру» (в книге «Unended Quest» – «Неоконченный поиск» – философ предпочел назвать его иначе: «Мир 3») относятся и содержание журналов, книг и библиотек, и теоретические системы41. Этот универсум в известной мере существует независимо от человека, хотя и создан им. «Третий мир» хранит «много теорий самих по себе <…> которые никогда не были созданы или поняты и, возможно, не будут созданы или поняты». Теория Поппера – своеобразное подобие платоновской философии идей:
Третий мир Платона божествен, он был неизменяемым и, конечно, истинным <…> мой третий мир создан человеком и изменяется. Он содержит не только истинные, но также и ошибочные теории, и особенно открытые проблемы, предположения и опровержения42.
Элементы «третьего мира» – не идеи или понятия, а предположения, высказывания, теории, по-разному эти понятия истолковывающие.
Космос Бродского – это как бы платоновский универсум, становящийся попперовским «третьим миром». Он подвижен, и время – одно из его необходимых измерений.
Мысль в космосе Бродского – на грани логики и абсурда. «Неверность» суждения для поэта не недостаток; это мост над бездной между абстракциями, вещами и человеком.
«Одиночество есть человек в квадрате» («К Урании», опубл. 1982, [III; 248]). С точки зрения логики это суждение, не имеющее смысла. Но для поэзии это точное философское определение. Квадрат – и клетка, и камера-одиночка. И математический знак. Но человека нельзя умножить на себя самого, он не число. Он не единица, он не один из многих, а просто один. Предмет, вещь, имя определимы изнутри, через самих себя: «И зима простыню на веревке считала своим бельем» («Келломяки», 1982 [III; 243]).
Мир Бродского относителен. Частый прием поэта, острие его текстов – самоотрицание.
Иногда самоотрицание абсолютно трагично: когда на нем строится все стихотворение. Такова «Песня невинности, она же – опыта» (1972) (в заглавии объединены названия двух сборников У. Блейка)43. Первая часть – наивно-детское приятие мира («…жизнь будет лучше, чем хотели» [III; 31]); вторая – признание безнадежности и ожидание конца («Мы уходим во тьму, где светить нам нечем / <…> Разве должно было быть иначе? / Мы платили за всех, и не нужно сдачи» [III; 33]).
Энергия самоотрицания такова, что подчиняет себе даже те стихотворения Бродского, в которых наиболее обнажен философский подтекст его творчества, экзистенциальная основа. Так, цитированное мною стихотворение, воссоздающее образ вселенной поэта, имеет непритязательное название – «Bagatelle» – «безделица» (ит. и фр.).
Для Бродского – не только поэта, но и автора эссе – вообще свойственны самоотрицание и противоречивость, вне всякого сомнения, осознанные. Так, постоянно подчеркивая мысль, что поэт одинок и пишет для себя или – самое большее – для немногих («<…> аудитория у поэта всегда в лучшем случае – один процент по отношению ко всему населению. Не более того»44), он вместе с тем соглашается с изречением «Красота спасет мир», подразумевая под красотой литературу («Нобелевская лекция»). Или пишет так:
Мне думается, что следует попытаться навязать (характерно само выбранное слово, как бы подчеркивающее незаконность, насильственность и заведомую безуспешность предлагаемого.– А. Р.) истории взгляды на жизнь и общественную организацию, присущие литературе.
В частности, я имею в виду свойственную литературе мысль об уникальности всякой человеческой жизни <…>45
С другой стороны, именно культура цементирует тоталитарный мир в пьесе «Мрамор», и выход из тюрьмы оказывается возможным лишь для героя, знаки этой культуры (бюсты римских поэтов) отбросившего46.
А в эссе «Flight from Byzantium» Бродский одновременно и называет христианство, в отличие от «демократического» язычества, непосредственным источником тоталитарных идей, и признает, что именно христианские ценности питают западную демократию.
Сосуществование у Бродского противоречащих друг другу суждений порождено – полубессознательным, может быть,– представлением о некоем идеальном тексте, описывающем все возможные утверждения и мысли, в том числе взаимоисключающие, вбирающем их в себя и тем самым как бы разрешающем: стихи и эссе самого Бродского – это как бы неполная реализация такого текста. Показательны протеизм Бродского, способность к усвоению самых разных поэтических стилей и традиций, его универсализм, восприятие поэта не как субъекта, а как объекта языка следует именно из этого представления о всеобъемлющем тексте культуры, подобном Священному Писанию47.
В связи с этим вызывает сомнение утверждение С. Волкова:
<…> мышление Иосифа Бродского принципиально диалогично (по Бахтину). Это заметно и в стихах Бродского, и в его прозе, и в драматургии48.
Противоположные суждения у Бродского не диалогичны, а антиномичны и принадлежат одному (и единственному в его мире) сознанию – автора или лирического героя.
Космос Бродского как бы содержит в себе все бытие: стихотворения, непохожие друг на друга; землю, увиденную с неба, и небо, увиденное с земли; самого поэта…
Стремление к максимальной полноте текста пронизывает рифмы, неожиданные, нанизывающие новые и новые ряды ассоциаций, как бы уводящие в сторону. Рифмы выстраивают строки и строфы в «анфилады». Так рождается ощущение глубины текста.
Непохожесть поэтических текстов Бродского, сочетание в его творчестве «напевных» и «декламационных», простых и сложных, коротких и пространных стихотворений, его протеизм – явление этой же природы49. Как – отчасти – и его переносы (enjambements), расширяющие и переосмысливающие семантику слова и строки.
Необычно стилевое разнообразие лексики Бродского. Церковнославянизмы, термины химии или геометрии, слова-сокращения и даже табуированные выражения (без эвфемизмов – мат). Сочетание несочетаемого не коробит; это не эпатаж, а один из способов противостояния автоматизации, окостенению приемов или превращению живого слова в надпись на камне, а поэта – в мраморную статую. Но главное – это попытка раздвинуть смысловую перспективу текста.
Предел смысловой полноты поэтического космоса Бродского – отрицание собственного существования; все = ничему.
- Навсегда расстаемся с тобой, дружок.
- Нарисуй на бумаге простой кружок.
- Это буду я: ничего внутри.
- Посмотри на него – и потом сотри.
Г. С. Померанц в статье «Неслыханная простота…», посвященной творчеству Бориса Пастернака, писал о поэзии Бродского:
Это не простота бытия, а простота небытия, не цельности, а разорванности. Это поэзия последнего глотка жизни, существования на грани ничто51.
Действительно, когда Бродский обращается к другому (любимой, Богу), видит он обычно лишь тень, а слышит только свой одинокий голос. Но контакт с другим ищется…
Отношение к Богу в поэзии Бродского раздвоено: «герой» (поставить кавычки заставляет нематериальность, хрупкость лирического «я»), «двойник» поэта, или смотрит на мир из космоса, или в небо – с земли. В первом случае он видит мир так, как мог бы его видеть Бог, как бы занимает место Творца52. «Ты Бога облетел и вспять помчался» – сказанное поэтом о Джоне Донне («Большая элегия Джону Донну», 1963 [I; 250]) относится и к самому Бродскому.
Иначе – когда «двойник поэта» стоит на земле:
- Бог смотрит вниз. А люди смотрят вверх.
- Однако интерес у всех различен.
- Бог органичен. Да. А человек?
- А человек, должно быть, ограничен.
Раздвоенность в отношении к Богу – одно из проявлений трагичности существования «я» у Бродского («…вся вера есть не более, чем почта / в один конец» – «Разговор с небожителем», 1970 [II; 362]). Препятствие – метафизическое одиночество и невозможность оправдать страдания. Но это и не безверие – не случайна сама возможность увидеть мир «с точки зрения» Бога. Правда, это скорее платоновский надындивидуальный ум, или логос: античный внеличностный логос, а не Логос-Христос.
Или – точнее: Бродский постхристианский поэт, не ожидающий встречи с личностным Богом, но переживающий богооставленность и склоняющийся к неверию.
Неоднозначное отношение Бродского к христианству выражено в эссе «Путешествие в Стамбул» / «Flight from Byzantium». Христианский монотеизм, по его мысли, ближе к тоталитарным идеям, чем «домашнее», природное языческое многобожие. Православие, как кажется Бродскому, еще в Византии приобрело «полувосточный» характер53. (Может быть, ему ближе католичество – большей индивидуалистичностью и рационализмом; ближе и протестантизм54.) Эссеистика Бродского проливает свет на его философию истории. И – конкретнее – на представление об историческом пути России. Бродский продолжает «чаадаевскую» линию: принятие христианства из Византии было передачей России традиции деспотического правления; история России – это история несвободы. Бродский даже берет на себя смелость написать, что не монголо-татарское иго отторгло Русь от Запада и едва ли можно считать, что она спасла Европу от войск Батыя. Собственно, он отвечает в «Бегстве из Византии» на известное письмо Пушкина Чаадаеву – отвечает так, как сделал бы это, по мнению Бродского, автор «Философических писем». Мысли поэта о России и Западе, вероятно, навеяны статьями Г. П. Федотова. Правда, эссе Бродского никогда не становятся философскими статьями, оставляя мысль недосказанной.
По вечной сущности моего рождения я был от века, есмь и в вечности пребуду! <…> В моем рождении рождены были все вещи, я был сам своей первопричиной и первопричиной всех вещей. <…> Не было бы меня, не было бы и Бога55.
Нет, Бродский не разделил бы мистического восторга этих слов средневекового немецкого проповедника Мейстера Экхарда; но граница между поэзией и проповедью не абсолютна. Слова мистика – но с иными акцентами и совсем другой интонацией – мог бы прочитать и поэт. Тогда они оказались бы строками из неизвестного нам стихотворения.
Ничто Бродского, физическим знаком которого становится бабочка (в одноименном стихотворении), не небытие, пустота, а неопределенность. Не случайно бабочка – не самый редкий символ божественного мира. (С ней сравнивает высшую реальность «Ты», открывающуюся нам, Мартин Бубер, один из религиозных философов XX века, автор книги «Я и Ты» – об утверждении человеком себя в диалоге с другим56. О книге Бубера упоминает и Г. С. Померанц, называя первоэлементы религиозного опыта57.) У Бродского противоположная символика, но ведь и всякое отрицание есть по-своему утверждение. И у Платона, и в теологии христианства одно из определений самого Бога есть ничто, ибо он выше всего, вбирает его в себя.
Фраза Бродского о слове как «почти» сакральном начале заставляет нас вспомнить простой аргумент в пользу реальности Бога; произнести – вслух или про себя – слово «Бог», называть умонепостигаемую, нематериальную сущность – уже значит – вольно или невольно – подумать о ней и признать ее58.
Слово – достояние и любовь Бродского-поэта. В нем связь прошлого и настоящего, смысл мира. Истинная литература, если не программирует свой конец, всегда (сознательно или неосознанно) внутренне религиозна, хотя бы просто как форма существования в вакууме.
- И по комнате, точно шаман, кружа,
- я наматываю, как клубок,
- на себя пустоту ее, чтоб душа
- знала что-то, что знает Бог.
Я не касаюсь в этой главе проблемы «Бродский и экзистенциализм». В отдельных стихотворениях Бродского эта связь несомненна. К примеру, в «Разговоре с небожителем»59.
Связь поэзии Бродского с ее философским окружением двойственна: платоновская «объективно-категориальная» традиция просвечивает в структуре стихотворений, является одной из составляющих образного строя. Но при этом символы и философемы этой традиции у Бродского лишены своих исконных денотатов. Это – план выражения. План содержания – чувство экзистенциального одиночества и стоическое противостояние обстоятельствам. В разрыве между двумя полюсами и возникает поэтический разряд. (Впрочем, схема эта более чем условна.)
«Разорванность» текста проявляется и на уровне конкретных образов и мотивов. Вобрав в себя полноту смысла, стихотворение стремится удержать, сохранить детали, «частности», дорогие поэту. Так, образ реки, застегивающей или расстегивающей пуговицы-фонари на рубашке, вызван воспоминанием о морском мундире отца с золотыми пуговицами (об этом мы узнаем из эссе «In a room and a half» – «В полутора комнатах»). В этом эссе сохранены и кастрюли матери, они – глубоко личный и поэтому «случайный» образ стихотворения «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…». Так философическая сентенциозность и отстраненность, с одной стороны, и личностная вовлеченность, привязанность к дорогим именам и вещам – с другой – отторгают и дополняют друг друга.
Иногда философская рефлексия и острое переживание у Бродского сливаются, как образ Невы и мысль о бесконечности:
И у сумрачной, погруженной в себя реки, медленно текущей к Балтике, со случайным буксиром посередине, борющимся с течением, я больше узнал о бесконечности и стоицизме, чем у математики и Зенона
(эссе «Less than One» – «Меньше единицы», или «Меньше самого себя», р. 7)60.
Инструмент (весьма несовершенный) самоотождествления, преодоления линеарности времени, борьбы с небытием для Бродского – память.
В череде неудач попытка восстановить в памяти прошедшее подобна старанию уловить смысл существования. Оба вызывают в тебе чувство, подобное тому, что испытывает младенец, который хватает баскетбольный мяч, а тот выскальзывает из ладоней (p. 5)61.
В этом глубоко личностном слове Бродского приоткрывается надындивидуальный смысл памяти, текста, культуры, слова.
Больше, чем что-либо, память подобна разоренной библиотеке (a library in alphabetical disorder) без чьих бы то ни было сочинений
(«In a room and a half» – «В полутора комнатах», р. 489)62.
«Человек есть испытатель боли»
Религиозно-философские мотивы поэзии Бродского и экзистенциализм63
Отличительная черта поэзии Иосифа Бродского – философичность, философское видение мира и «я». Автор не фиксирует неповторимые ситуации, не стремится к лирическому самовыражению. Индивидуальная судьба поэта предстает одним из вариантов удела всякого человека. В единичных вещах Бродский открывает природу «вещи вообще». Эмоции лирического героя у Бродского – не спонтанные, прямые реакции на частные конкретные события, а переживание собственного места в мире, в бытии. Это своеобразное философское чувство – глубоко личное и всеобщее одновременно.
Бродский эмоционально сдержан, аскетичен. Чувство у него часто соединено с отстраненным, холодно-отрешенным анализом. Предмет поэзии у автора «Части речи» и «Урании» – не только (и, может быть, не столько) реальность, окружающая человека, но и категории философского и религиозного сознания: «я», душа, тело, Бог, время, пространство, вещь, смерть. Философское и религиозное измерения определяют отношения «я» к миру у Бродского. Соучастное чтение стихотворений, сопереживание, постижение мира Бродского невозможны без понимания философского языка, кода поэта.
Отчужденность от мира и неприятие миропорядка, ощущение потерянности, абсолютного одиночества «я», собственной инородности всему окружающему: вещам, обществу, государству, – восприятие страданий как предназначения человека, как проявления невыразимого сверхрационального опыта, соединяющего с Богом, жажда встречи с Богом и ясное осознание ее невозможности – таковы повторяющиеся мотивы поэзии Иосифа Бродского. Отношение «я» к бытию у Бродского напоминает мировидение экзистенциализма – философии, возвестившей о себе более ста пятидесяти лет назад в сочинениях датского пастора Сёрена Кьеркегора, но во многом определившей мысли и чувства человека середины прошлого столетия.
Мысль о близости идеям экзистенциализма мотивов поэзии Бродского, трактовки им веры и отношений «я» и Бога неоднократно высказывалась исследователями. При этом предметом пристального анализа было лишь одно стихотворение – «Разговор с небожителем» (1970). Вот как характеризует родственность религиозной темы стихотворения идеям С. Кьеркегора и Льва Шестова Дж. Нокс:
Следуя Кьеркегору, Шестов противопоставляет личное откровение знанию: человек не может получить исчерпывающие ответы на загадки бытия, следовательно, он должен принять свою судьбу на веру, в духе Авраама и Иова. Такова фундаментальная семантика образа голубя, который не возвращается в ковчег, и почты в один конец в «Разговоре с небожителем». Оба образа иллюстрируют взаимоотношения поэта с Главным собеседником. В диалоге со Всевышним ему ничего не остается, кроме как обращаться к Нему без надежды на ответ.
В главной теме «Разговора с небожителем» звучат экзистенциальные голоса Шестова и Кьеркегора. Как бы ни протестовал человек против боли и страдания, он в конце концов оставлен один на один с молчанием и неизбежностью того факта, что «боль – не нарушенье правил», как сказано в стихотворении. Страдание и отчаяние в естественном порядке вещей, вопреки оптимистическим обещаниям счастья и материального благополучия, раздаваемым политиками64.
Интерпретация религиозно-философских мотивов в поэзии Бродского и в его статьях как экзистенциалистских и сопоставление их с идеями Кьеркегора и Льва Шестова предложены также в диссертации Джейн Нокс «Сходные черты у Иосифа Бродского и у Осипа Мандельштама: культурные связи с прошлым»65. Мысль Бродского о страдании человека не как о наказании, не как о следствии его вины, но как об основе его существования, как о метафизическом законе и скептическое отношение поэта к возможностям разума Дж. Нокс истолковывает как свидетельство родства поэта с экзистенциалистами. Однако она не принимает во внимание, что у Бродского можно найти не меньшее количество противоположных высказываний. Не случайно, за исключением стихотворения «Два часа в резервуаре», исследовательница не приводит ни одного примера отрицательной оценки поэтом рационального знания. Антитеза «философия – вера», «Афины – Иерусалим», присущая сочинениям Шестова, вовсе не определяет, вопреки мнению Дж. Нокс, всего существа философских мотивов Бродского.
Мнение об экзистенциалистской основе поэзии Бродского разделяет Юрий Кублановский:
В основном <…> Бродский вопрошает Всевышнего и ведет свою тяжбу с Промыслом, минуя посредников: предание, Писание, Церковь. Это Иов, взыскующий смысла (только подчеркнуто неаффектированно) на весьма прекрасных обломках мира. А те, кто пытается на него за то сетовать, невольно попадают в положение друзей Иова, чьи советы и увещевания – мимо цели (влияние на Бродского Кьеркегора и Льва Шестова можно проследить на протяжении всего творческого пути стихотворца)66.
Об «экзистенциальном сознании» Бродского, последовательно подчеркивающего неадекватность «логических» рамок жизни, пишет также и Алексей Лосев, анализируя четвертую часть стихотворения «Посвящается Ялте»67.
Близость смысла стихотворений Бродского идеям Кьеркегора и Льва Шестова, однако, не исключает существенных различий. Как показала В. П. Полухина, в отличие от обоих философов Бродский не утверждает веру в Бога как сверхрациональное осмысление ситуации абсурда бытия.
В случае Бродского его склонность идти до крайних пределов в сомнениях, вопросах и оценках не оставляет убежища (leaves no room) никаким исключениям. В его поэзии разум терроризирует душу, чувства и язык, заставляет последний превзойти самого себя68.
Все вопросы, равно как и ответы на них, скрыты в языке, который и оказывается высшей ценностью для поэта. В отличие от Кьеркегора и особенно Льва Шестова, резко противопоставлявших разум вере, Бродский, замечает В. П. Полухина, не сомневается в правах рационального знания, считая его не в меньшей мере, чем веру, способом постижения мира69. Эти наблюдения нуждаются в уточнениях. Строки из «Разговора с небожителем»
- В Ковчег птенец
- не возвратившись доказует то, что
- вся вера есть не более, чем почта
- в один конец.
свидетельствуют о значительном различии в понимании веры поэтом и религиозными философами. Если и для Кьеркегора, и для Льва Шестова акт веры заключал в себе ответ Бога (вознаграждение праведного Иова, чью историю оба философа рассматривали как символическую экзистенциальную ситуацию), то для Бродского ответ невозможен, исключен. Вера описывается отстраненно, а не участно, с позиций рассудка («доказует»). Она не оказывается подлинным выходом из одиночества и отчужденности. Ключевые для стихотворения Бродского категории «страдание» и «боль», безусловно, соотносятся со «страхом» и «страданием», например, у Кьеркегора (в трактате-эссе «Страх и трепет» и т.д.). Однако переживание страдания, которое осознано поэтом как объективный закон бытия («<…> боль – не нарушенье правил: / страданье есть / способность тел, / и человек есть испытатель боли» [II; 362])70, не представлено в стихотворении условием сверхрациональной веры. Мотив благодарности за переживаемые беды и невзгоды, встречающийся и в «Разговоре с небожителем», и, например, в значительно более позднем «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» (1980), имеет истоки прежде всего в христианской религии, но не в экзистенциальной философии. У Льва Шестова ключевым словом, определяющим отношение «я» к бытию, является не смирение, но коренящееся в покорности и перерастающее ее дерзновение:
Дерзновение не случайный грех человека, а его великая правда. И люди, возвещавшие смирение, были по своим внутренним запросам наиболее дерзновенными людьми. Смирение было для них только способом, приемом борьбы за свое право. <…> Последний страшный суд не «здесь». Здесь одолели «идеи», «сознание вообще» и те люди, которые прославляли «общее» и провозглашали его богом. Но «там» – там дерзавшие и разбитые будут услышаны
(«На весах Иова»)71.
«Благодарность» за страдания у Бродского, однако, не имеет адресата (лирический герой Бродского не обращает ее непосредственно к Богу), что придает ей оттенок внутренней иронии, заставляя видеть в благодарении за выпавшие бедствия не только выражение непосредственного чувства «я», но и формализованное этикетное высказывание, литературное «общее место».
Бродского, на первый взгляд, сближает с экзистенциальной философией мотив внерационального оправдания страданий, в «Разговоре с небожителем» облеченный в амбивалентную утвердительно-отрицающую форму, но в ряде других текстов выраженный вполне однозначно. Может быть, самый впечатляющий пример – речь Бродского «The Condition We Call Exile» («Условие, которое мы зовем изгнанием») в декабре 1987 года на конференции, посвященной литературе изгнания. «Если есть что-либо хорошее в изгнании, это – что оно учит смирению (humility)», – замечает Бродский. И добавляет:
Другая истина – в том, что изгнание – метафизическое состояние. В конце концов оно имеет очень устойчивое, очень ясное метафизическое измерение, и игнорировать его или увиливать от него – значит обманывать себя в смысле того, что с тобой произошло, навечно обрекать себя на неизбежный конец, на роль оцепеневшей бессознательной жертвы72.
Понимание страдания как блага, несущего человеку мистический опыт богообщения, конечно, характерно для христианства. В религиозной экзистенциальной философии страдание может мыслиться и как нечто внешнее по отношению к человеку, как вызов ничто, небытия. (У Кьеркегора, впрочем, присутствует именно христианская идея приятия выпадающих на долю человека мучений и горестей.) «Смирение» (humility) – ценностная категория именно христианского сознания (слово «humilitas» в классической латыни имело прежде всего негативный смысл, означая ‘униженность’, ‘раболепие’). Однако отношение к страданию у Бродского в равной мере соотносится с постулатом стоической философии, учащей быть невозмутимым и стойким перед лицом бедствий. Не случайно эссе Бродского «Homage to Marcus Aurelius» («Признательность Марку Аврелию», или «Клятва верности Марку Аврелию», 1994) завершается цитатами из «Размышлений» императора-стоика, среди которых приведена и такая:
О страдании: если оно невыносимо, то смерть не преминет скоро положить ему конец, если же оно длительно, то его можно стерпеть. Душа сохраняет свой мир силою убеждения, и руководящее начало не становится хуже. Члены же, пораженные страданием, пусть заявляют об этом, если могут73.
Хотя стоическое представление о разуме как основе всех вещей Бродскому чуждо, этический постулат стоицизма о спокойном приятии страданий как достоинстве мыслящего человека ему, безусловно, близок. В эссе «Homage to Marcus Aurelius» «Размышления» Аврелия с их надличностной этической установкой противопоставлены «учебнику экзистенциализма»74. Выражение «учебник экзистенциализма» – своеобразный оксюморон, ибо экзистенциальная философия по определению не может быть систематизирована и изложена в форме «учебника». Бродский подчеркивает, что индивидуальное, неповторимое тиражируется в «массовом» сознании XX века, делающем экзистенциализм предметом моды и ищущем экзистенциальные идеи в сочинении античного мыслителя.
Сходны у Бродского, с одной стороны, и у Кьеркегора и Льва Шестова – с другой, именно ключевые контрасты. Вера и разум у Бродского действительно не противопоставлены, но контрастную пару образуют их своеобразные синонимы: феноменальный, материальный мир и сверхреальное бытие Бога и высшей природы.
- Здесь, на земле,
- от нежности до умоисступленья
- все формы жизни есть приспособленье.
- И в том числе
- взгляд в потолок
- и жажда слиться с Богом, как с пейзажем,
- в котором нас разыскивает, скажем,
- один стрелок.
- Как на сопле,
- все виснет на крюках своих вопросов,
- как вор трамвайный, вор или философ —
- здесь, на земле,
- из всех углов
- несет, как рыбой, с одесной и с левой
- слиянием с природой или с девой
- и башней слов!
- Дух-исцелитель!
- Я из бездонных мозеровских блюд
- так нахлебался варева минут
- и римских литер,
- что в жадный слух,
- который прежде не был привередлив,
- не входят щебет или шум деревьев —
- я нынче глух.
Земная жизнь подчинена рациональным законам, ограничивающим и стесняющим свободу и лишенным экзистенциального оправдания. (Этот мотив находит выражение на уровне грамматики текста, в котором отсутствует обязательное дополнение: «приспособленье к чему-либо»; наделение дополнительным смыслом синтаксических связей – вообще один из отличающих Бродского приемов.) Бог осознается земным умом как нечто обезличенное и едва ли не сотворенное человеком – наподобие пейзажа, имитирующего природу. Бог воспринимается этим сознанием как начало, которое враждебно «я»: «один стрелок» в свете перекличек с более ранним стихотворением Бродского «Речь о пролитом молоке» (1967) предстает метафорическим именем Бога75:
- Я себя ощущаю мишенью в тире,
- вздрагиваю при малейшем стуке.
- Я закрыл парадное на засов, но
- ночь в меня целит рогами Овна,
- словно Амур из лука, словно
- Сталин в XVII съезд из «тулки».
Зодиакальный Овен в стихотворении Бродского – поэтический синоним Агнца (ягненка) – символа Христа; не случайно в строфе, непосредственно предшествующей цитированным строкам, описывается звездное небо-«иконостас» со «светилами-иконами». В «Речи о пролитом молоке» неоднократно встречаются рождественские реалии, соотносящие это стихотворение с другими произведениями Бродского, в которых воплощены религиозные мотивы.
Христологическая символика в «Разговоре с небожителем» приобретает негативное дополнительное значение. Таков образ рыбы, традиционно обозначающей Христа. Запах рыбы, возможно, ассоциируется с обманом, с иллюзией, и тогда это, скорее всего, иллюзия веры. В стихотворении Пастернака «Кругом семенящейся ватой…», которое, как можно предположить, цитирует Бродский, запах рыбы имеет значение «обман»: «И вымыслов пить головизну / Тошнит, как от рыбы гнилой»76. Неоднозначен эпитет Бога – «дух-исцелитель», как бы замещающий два других слова, ожидаемые в сочетании со словом «дух»: «искуситель» (определение Сатаны) и «утешитель» (обозначение Святого Духа).
Отчуждают, отгораживают «я» от высшей реальности и время («варево минут»), и язык. Язык, безусловно, для Бродского основная ценность. Неизменно повторяемая поэтом мысль о языке как высшей творящей силе, автономной от субъекта речи, от человека, и о стихотворении как порождении не личности, записывающей текст, но самого языка является не только своеобразным отзвуком античных философских теорий логоса и идей-эйдосов (первообразов, прообразов вещей), а также и христианского учения о Логосе, ставшем плотью. Представление Бродского о языке соотносится с идеями мыслителей и лингвистов XX века об автономии языка, обладающего собственными законами развития и порождения. Напомню мысль М. Хайдеггера о языке как активном начале, осмысляющем бытие и наделяющем вещи предикатом, признаком существования,– как пример можно упомянуть доклады Хайдеггера «Путь к языку» и «Слово» (другое название – «Поэзия и мысль»)77.
Отношение «я» к слову в поэзии Бродского двойственно: слово одновременно и единственная возможность реализации лирического героя в мире, и надличностная сила, неподвластная «я», ставящая преграды между ним и реальностью. Не случайно появление в «Разговоре с небожителем» образов клонящейся Пизанской башни, которой уподоблен лирический герой-поэт, и вавилонской башни слов. Язык и слово у Бродского подобны разуму в философии Кьеркегора и особенно Льва Шестова. Слово, отчужденное от субъекта речи, обезличенное и способное лгать, изменять смысл, противопоставлено в «Разговоре с небожителем» непосредственной, вне- и дословесной информации, содержащейся в «языке» природы – в птичьем щебете или шуме деревьев. В противопоставлении природе все искусственное, сделанное (а язык как система знаков также искусствен) наделяется негативной характеристикой:
- И за окном
- толпа деревьев в деревянной раме,
- как легкие на школьной диаграмме,
- объята сном…
Попадая в «пространство культуры», увиденные в окне-«картине» деревья развоплощаются, дематериализуются, лишаются признаков жизни. Сравнение деревьев с легкими внешне подчеркивает их жизненность, одушевленность (способность дышать), но, по существу, приравнивает живое к условному знаку, схеме – к изображению органов дыхания на диаграмме. Деревья в окне в «Разговоре с небожителем» контрастно соотносятся с деревьями в пастернаковском стихотворении «На Страстной», предстоящими Богу в молитвенном преклонении и удивлении («Разговор с небожителем» также приурочен к Страстной неделе, но мотива воскресения у Бродского нет).
В относительно раннем творчестве Бродского, в 1960-е – самом начале 1970-х годов, существа и предметы природного мира противопоставлены, с одной стороны, мертвым, безгласным вещам, сделанным человеком, копируемым, тиражируемым, и с другой – слову, которое у Бродского всегда предметно, материально: вспомним мотив материализации слова в цикле «Часть речи» (1975–1976) и в ряде более поздних стихотворений, составивших книгу «Урания» (1987). Предмет природного мира совмещает в себе физическую бытийность, реальность вещи и смысл слова. Наиболее очевидный и значимый случай – описание куста в поэме «Исаак и Авраам» (1963). Куст – и растение, и символ души и человеческого тела, и хранитель влаги жизни, и свеча-жертва, приносимая Богу, ветхозаветная купина неопалимая – прообраз крестной жертвы Христа. Как уже указывали исследователи творчества Бродского, куст у Бродского восходит к диптиху (циклу из двух стихотворений) Марины Цветаевой «Куст». Родство куста и креста заложено уже у Цветаевой: «полная чаша куста» в первом из стихотворений диптиха отсылает к символу литургической чаши; во втором стихотворении куст предстает воплощением глубинного бытийного смысла, подобно кусту в поэме Бродского «Исаак и Авраам»78.
Бродский в эссе «Поэт и проза» (1979) сближал мотивы поэзии Цветаевой с философией Льва Шестова, который посвятил многие страницы своих сочинений истории жертвоприношения Исаака.
Смысл поэмы Бродского неоднократно был предметом пристального анализа: в книге Михаила Крепса «О поэзии Иосифа Бродского», в статьях Зеева Бар-Селлы «Страх и трепет (из книги Иосиф Бродский. Опыты чтения)» и Виктора Куллэ «Парадоксы восприятия (Бродский в критике Зеева Бар-Селлы)»79. Недостатком всех трех интерпретаций является установка на однозначное (аллегорическое) прочтение символики «Исаака и Авраама», игнорирование внутренней смысловой противоречивости образов Бродского, которые могут совмещать в себе контрастирующие значения. Однозначность толкований в наибольшей мере свойственна Зееву Бар-Селле, который склонен видеть в поэме прежде всего завуалированное повествование о судьбе еврейского народа; впрочем, и Михаил Крепс видит в русификации Бродским имен Авраама и Исаака (Абрам и Исак) отсылку к судьбе еврейства в Советском Союзе, а в образе сгоревшего куста – символ страданий евреев в ХХ столетии (такой смысл в образе куста у Бродского присутствует, но, бесспорно, не является основным). Доску Михаил Крепс однозначно истолковывает как иносказательное обозначение жертвы – Исаака, а ладонь – как знак отца, Авраама. Виктор Куллэ интерпретирует воду как символ времени и свободы, а вино – как символ Христа и церкви. Между тем вода в поэме в равной мере означает и божественную энергию, нисходящую с неба в мир и таящуюся в земле в отчуждении от первоистока, и вечность, противостоящую человеческому «я» (антитеза «море – свеча» в финале поэмы). Вода и вино, которые несут с собою Исаак и Авраам, контрастно соотносятся с евангельской историей о претворении Христом воды в вино на бракосочетании в Кане Галилейской: мир героев поэмы как бы ждет чуда, которое не наступает, но угадывается в грядущем. Виктор Куллэ совершенно справедливо видит в событиях поэмы прообразы – предвестия рождества и крестной жертвы Христа. Однако смысл поэмы заключается не в трактовке жертвоприношения Исаака как прообраза жертвы Христа, но в представлении его постоянным событием: жизнь в экзистенциальном горизонте осознается как вечная жертва (после явления Ангела шествие Авраама и Исаака продолжается, и вновь Авраам торопит его, а Исаак медлит; и именно после повеления Ангела Аврааму остановить занесенный над сыном нож описывается борьба ножа и доски, совмещающей в себе природное и рукотворное начала). Не случаен мотив бесконечности (бесконечного странствия и бесконечного повторения?) в финале поэмы. Русификация имен Авраама и Исаака и призвана подчеркнуть вечность, внеисторичность и неизменность экзистенциальной жертвы человека.
Куст, как и другие образы поэмы, символичен. Это своеобычный связующий образ в произведении. В нем соединены предметное и смысловое, вещественное и духовное, словесное. Бродский наделяет значением каждую букву слова «куст» и одновременно подчеркивает сходство их начертаний и облика растения:
- Но вот он понял: «Т» – алтарь, алтарь,
- а «С» на нем лежит, как в путах агнец.
- Так вот что КУСТ: К, У и С, и Т.
- Порывы ветра резко ветви кренят
- во все концы, но встреча им в кресте,
- где буква «Т» все пять одна заменит.
Дерево у раннего Бродского является своеобразным индивидуальным религиозным символом устремленности к небу и связи небесного и земного миров:
- Друзья мои, вот улица и дверь
- в мой красный дом, вот шорох листьев мелких
- на площади, где дерево и церковь
- для тех, кто верит Господу теперь.
В поэзии же Бродского восьмидесятых и девяностых годов предметы природы сведены к абстрактным формам и к первоэлементам материи:
- Цветы! Наконец вы дома. В вашем лишенном фальши
- будущем, в пресном окне пузатых
- ваз, где в пору краснеть, потому что дальше
- только распад молекул <…>
Природный мир неодушевлен, он некое собрание неподвижных вещей, в круг которых замкнут человек80. Мир как бы «недосотворен», создан, но не одухотворен дыханием, присутствием Бога; остался первозданной глиной:
- Голубой саксонский лес.
- Снега битого фарфор.
- Мир бесцветен, мир белес,
- точно извести раствор.
Восприятие материи как неодушевленного, мертвого, косного начала связано с представлением об отсутствии Творца в творении, о чужеродности Бога природе. Этот мотив поэзии Бродского роднит его с Иннокентием Анненским, в лирике которого природное обычно приравнивается к рукотворному, вещественному: снег обозначается как «налипшая вата» («В вагоне»), небесный свод назван «картонно-синим» («Спутнице»)81. Обезличенные вещи противопоставлены в поэзии Анненского, как и у Бродского, существованию «я»:
- Уничтожиться, канув
- В этот омут безликий,
- Прямо в одурь диванов,
- В полосатые тики.
Отчуждение от вещественной действительности в поэзии Бродского находит соответствие в экзистенциализме. Вот как характеризует отношения «я» и внешней реальности близкий экзистенциализму польский поэт Чеслав Милош, творчество которого оказало несомненное влияние на автора «Разговора с небожителем»:
Что желает для самого себя существо, именуемое «Я»? Оно желает быть. Что за требование! И все? Уже с детства, однако, оно начинает открывать, что это требование, пожалуй, чрезмерно. Вещи ведут себя со свойственным им безразличием и проявляют мало интереса к этому столь важному «Я». Стена тверда; если о нее стукнешься, испытываешь боль; огонь обжигает пальцы; если выронить стакан, он разбивается вдребезги. С этого начинается долгое обучение уважению к силе, находящейся «вовне» и контрастирующей с хрупкостью «Я». Более того, то, что «внутри», постоянно теряет присущие ему свойства. Его импульсы, его желания, его страсти не отличаются от таковых же, присущих другим особям рода человеческого. Можно без преувеличения сказать, что «Я» теряет свое тело в зеркале: оно видит существо рождающееся, растущее, подверженное разрушительному воздействию времени и долженствующее умереть. Когда врач вам говорит, что вы умрете от такой-то болезни, вы всего лишь «случай», т.е. присутствуете в статистике и вам просто не повезло: вы оказались одним из определенного числа ежегодно регистрируемых случаев83.
Слова Милоша о «безразличии вещей» находят почти точное соответствие в стихотворении Бродского «Натюрморт» (1971):
- Вещи приятней. В них
- нет ни зла, ни добра
- внешне. А если вник
- в них – и внутри нутра.
Если в «Натюрморте» вещь противопоставлена «миру слов» как лишенная голоса и смысла, то в диалоге из более раннего сочинения Бродского, поэмы «Горбунов и Горчаков» (1968), содержится мотив поглощения вещей словами:
- «Вещь, имя получившая, тотчас
- становится немедля частью речи».
- <…>
- «О, это все становится Содомом
- слов алчущих! Откуда их права?»
- <…>
- «Как быстро распухает голова
- словами, пожирающими вещи!»
- <…> «И нет непроницаемей покрова,
- столь полно поглотившего предмет
- и более щемящего, как слово».
- «Но ежели взглянуть со стороны,
- то можно, в общем, сделать замечанье:
- и слово – вещь. Тогда мы спасены!»
- «Тогда и начинается молчанье».
Представление о поглощении предметов словами, по-видимому, восходит к философским теориям (прежде всего к учению Платона), согласно которым материальные объекты – несовершенные подобия, отражения вечных идей-понятий84. Слово отгораживает человека от внешней реальности и от Бога, обрекает на молчание. Такая трактовка слова как основы отчуждения характерна для Льва Шестова.
Мысль Бродского о слове как источнике бытия вещей находит соответствие и в современной философии: «Где не хватает слова, там нет вещи. Лишь имеющееся в распоряжении слово наделяет вещь бытием» (М. Хайдеггер. Слово / Пер. В. В. Бибихина)85. (Напомню, что основой для размышлений о слове, вещи и бытии в этой статье Хайдеггеру послужил поэтический текст – стихотворение Штефана Георге «Слово», а завершается статья Хайдеггера высказываниями о родстве мысли и поэзии, несомненно, перекликающимися с установкой Бродского на поэтическое истолкование философских категорий.) Противопоставленность человеческого и вещественного у Бродского соотносится также с антитезой «человек – предмет» у Хайдеггера в докладе «Вещь»: «предмет» осознается человеком (в отличие от «вещи») как нечто сделанное, реализующее абстрактную схему и разложимое на составляющие элементы (пафос Хайдеггера направлен на преодоление этой антитезы). Отличительный для Бродского мотив непреодолимой отчужденности «я» от вещей соответствует восприятию Г. Гадамером отношения человека и вещи в современном мире:
Мы живем в новом индустриальном мире. Этот мир не только вытеснил зримые формы ритуала и культа на край нашего бытия, он, кроме того, разрушил и самую вещь в ее существе <…> вещей устойчивого обихода вокруг нас уже не существует. Каждая стала деталью <…> В нашем обращении с ними никакого опыта вещи мы не получаем. Ничто в них уже не становится нам близким, не допускающим замены, в них ни капельки жизни, никакой исторической ценности (пер. В. В. Бибихина)86.
Противопоставление «слово – вещь» в «Натюрморте» и его снятие в «Горбунове и Горчакове» не свидетельствуют об эволюции «поэтической философии» Бродского: сосуществование взаимоисключающих мотивов, высказываний – особенность его поэтики, свидетельствующая о неприятии любого однозначного воззрения и тем более – жесткой системы взглядов или теории. Антиномичность, соединение взаимоисключающих суждений как кардинальный принцип поэтики Бродского особенно ярко проявились в английском стихотворении «Slave, come to my service!» («Раб, приди и служи мне», 1987 [IV; 336–339]) – переложении шумерского текста, в котором высказываются противоположные суждения о смерти, женщине, власти и смысле бытия, причем весь текст может быть истолкован и как философское сочинение, и как шутка одновременно.
Недостаток всякой, даже совершенной, системы состоит в том, что она – система. То есть в том, что ей, по определению, ради своего существования приходится нечто исключать, рассматривать нечто как чуждое и постольку, поскольку это возможно, приравнивать это чуждое к несуществующему, —
замечает Бродский в эссе «Путешествие в Стамбул» (1985 [V; 299])87.
Отрицание Бродским интеллектуальных систем находит многочисленные аналоги в философии XX столетия (упомяну, к примеру, книгу высоко ценимого поэтом Карла-Раймунда Поппера «The open society and its enemies» – «Открытое общество и его враги»). Но едва ли не самыми непримиримыми врагами системности были экзистенциалисты, в XIX веке – еще Кьеркегор, замечавший в предисловии к своему сочинению «Страх и трепет»: «Нет, это не система, это не имеет ни малейшего сходства с системой»88.
Неприятие системности в идеях, однозначности во мнениях, конечно, сближает Бродского с экзистенциалистами и, по-видимому, во многом навеяно их чтением. Так, в «Заметке о Соловьеве» (1971) – критическом комментарии к статье Владимира Соловьева «Судьба Пушкина» – Бродский противопоставляет рационально-одностороннему подходу философа, основанному на идеях гармонии и блага, своеобразное оправдание страдания, называя символическое для Кьеркегора и Льва Шестова имя ветхозаветного праведника-страдальца Иова. Негативно, даже, может быть, неприязненно поэт называет автора «Судьбы Пушкина» «энциклопедистом», подчеркивая стремление Соловьева к жесткой систематизации философского знания (у Кьеркегора своеобразным знаком-меткой отвергаемого рационализма стало имя Гегеля, у Льва Шестова – понятие «разум»). Полемизируя с утверждением Соловьева о невозможности создания «светлых» произведений Пушкиным, если бы он убил на поединке Дантеса, Бродский пишет:
А что если жизненная катастрофа дала бы толчок к созданию «темных»? Тех темных, которые возникли в нашем богатом жизненными катастрофами столетии? В том-то и дело, что христианский мыслитель был сыном своего века, последнего века, рассчитанного на «светлые» произведения, века, отвергнувшего или – скорее всего – пропустившего при чтении слова Иова «ибо человек рождается на страдание, чтобы, как искры, взлетать вверх». Как знать, не стал бы наш первый поэт новым Иовом или поэтом отчаяния, поэтом абсурда – следующей ступени отчаяния? Не пришел ли бы и он к шекспировской мысли, что «готовность» – это все, т. е. готовность встретить, принять все, что преподносит тебе судьба? <…>
Эти домыслы возникли только в результате приговора нашего христианского мыслителя, гласящего, что «…никакими сокровищами он больше не мог обогатить нашу словесность». В общем, жизнь, отдаваемая на суд энциклопедиста, должна быть короткой. Или не должна быть жизнью поэта89.
В качестве комментария к этим строкам замечу, что упоминание рядом имен Иова и Шекспира, возможно, свидетельствует о знакомстве Бродского с книгой Льва Шестова «Шекспир и его критик Брандес» (1898), в которой сочинения английского драматурга подверглись интерпретации с точки зрения экзистенциальной философии90.
Поэт истолковывается Бродским в эссе о статье Соловьева как особенный человек, изначально чуждый окружению: «Коротко говоря, человек, создавший мир в себе и носящий его, рано или поздно становится инородным телом в той среде, где он обитает. И на него начинают действовать все физические законы: сжатия, вытеснения, уничтожения»91.
Отчужденность «я» от мира и других у Бродского генетически восходит к романтическому противопоставлению личности и мира, хотя, как справедливо отметил М. Крепс, у автора «Части речи» и «Новых стансов к Августе» романтический контраст осложнен «экзистенциалистским» отчуждением «я» от самого себя92.
Едва ли стоит сомневаться в значимости романтической антитезы для Бродского, хотя сам поэт, описывая ситуацию взаимонепонимания между творцом и читателями в интервью Дж. Глэду, делает оговорку:
У Александра Сергеевича есть такая фраза: «Ты царь, живи один, дорогою свободной иди, куда ведет тебя свободный ум». В общем, при всей ее романтической дикции в этой фразе колоссальное здоровое зерно93.
В этой же связи можно напомнить и о характеристике Бродского как романтика Александром Кушнером94, и о цитатах из Лермонтова у раннего Бродского, установленных Я. А. Гординым95. В ориентации на классические поэтические формы, в подчеркнутой «всеотзывности» мировой культуре Бродский, несомненно, следует Пушкину, причем это обращение к пушкинским поэтическим установкам осознанно – в стихотворениях 1960–1970-х годов очень значительно число цитат из сочинений автора «Я вас любил…» и «Медного всадника». Но пушкинский поэтический язык подчинен у современного поэта именно заданию выразить отчаяние и абсурд бытия – чувства и экзистенциальные состояния, отличительные, по мнению автора «Заметки о Соловьеве», для XX века. (Замечу, что романтический вариант отчуждения «я» от мира, гонений, им претерпеваемых, реализуется в стихотворениях Бродского 1950–1970-х годов; «1972 год» и «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» (1974), по-видимому, как бы закрывают тему, своеобразными воспоминаниями о которой являются более поздние «юбилейные» «Пятая годовщина (4 июня 1977)» и «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» (1980).)
Отличие Бродского – автора «Разговора с небожителем» – от Кьеркегора и Льва Шестова проявляется в том, что поэт описывает Бога скорее не как личность, но как надличностное начало, свободное от страданий. Сходное изображение Бога содержится и в поэме «Горбунов и Горчаков»; в «Большой элегии Джону Донну» (1963) Бог представлен неким физическим телом, ограниченным в пространстве: «Ты Бога облетел и вспять помчался», «Господь оттуда – только свет в окне / туманной ночью в самом дальнем доме» (I; 234). Конечно, в поэзии Бродского встречаются и довольно многочисленные примеры иного рода – описание личностного Бога, прежде всего Бога-Сына, Христа (в «Натюрморте» и других стихотворениях), и описание экзистенциального одиночества и отчужденности от мира Бога:
- Представь, что Господь в Человеческом Сыне
- впервые Себя узнает на огромном
- впотьмах расстояньи: бездомный в бездомном.
Бог бездомен в мире, родившийся в пещере Сын – всего лишь точка для надмирного взгляда; но и для Сына Небесный Отец, существующий в иной реальности, в ином пространстве, – всего лишь звездная точка («Рождественская звезда», 1987). В отличие от Пастернака, прозрачная аллюзия на творчество которого содержится в «Рождественской звезде» («мело, как только в пустыне может зимой мести…» – реминисценция из пастернаковской «Зимней ночи»), Бродский изображает Рождество как событие не для земного мира, не для людей, но для Бога-Сына и Бога-Отца.
Интерпретация поэзии Бродского как христианской в своей основе, наиболее последовательно проведенная в статье Я. А. Гордина «Странник», не вполне соответствует смыслу текстов поэта. Показателен «разброс мнений» авторов статей в книге «Иосиф Бродский: размером подлинника» (Таллин, 1990) при характеристике религиозных истоков поэзии Бродского – от признания его христианского начала (И. Ефимов. Крысолов из Петербурга. Христианская культура в поэзии Бродского) до определения ее как «внехристианской, языческой» (Андрей Арьев. Из Рима в Рим). Может быть, наиболее точен Анатолий Найман, когда замечает, что предпочтительнее говорить не о Творце, а о небе у Бродского и что в словосочетании «христианская культура» поэт делает акцент не на первом, а на втором слове (Анатолий Найман. Интервью. 13 июля 1989г. Ноттингем. Интервьюер – В. Полухина)96.
Неопределенность и проблематичность внецерковной веры поэта наиболее отчетливо выражены в интервью Петру Вайлю97.
У раннего Бродского встречаются и «богоборческие» или, точнее, «богоотрицающие» строки, как в «Пилигримах» (1958): «И, значит, не будет толка / от веры в себя да в Бога. / <…> И, значит, остались только / иллюзия и дорога <…>» (I; 21)98, – и мотив обоготворения, обожения человека («Стихи под эпиграфом», 1958). В более поздних стихотворениях место Бога часто занимает женщина, любимая, но и встреча с ней, и возвращение часто представлены как невозможные («Прощайте, мадемуазель Вероника», 1967; «24 декабря 1971 года», 1972)99. Как в отношениях «я» – Бог Бродским подчеркивается отсутствие контакта, диалога, так и в развертывании любовной темы у поэта преобладают мотивы разлуки и утраты. Недолговечны счастливая любовь и союз любящих, иллюзорна, не наполнена бытием красота, воплощенная Бродским в образе бабочки. Предметом стихотворения «Бабочка» (1972) становится столь ненавистное Льву Шестову Ничто, характеризующее, по мнению русского философа, безрелигиозное рациональное сознание.
В тексте, написанном в форме свободного стиха, «At a lecture. Poem» («На лекции. Стихотворение»), Бродский изображает мир как пустоту, в которой нет других людей, но лишь частицы материи, «пыль». Такое мировидение объясняется поэтом не склонностью к идее солипсизма («мир – это лишь мое представление»), но взглядом на действительность с точки зрения времени, все стирающего. Бытие осознается как изначальная полнота, превращающаяся в пустоту100. Едва ли стоит разъяснять, что такая картина бытия соотносится с различными античными моделями мироздания, но не с экзистенциалистским видением реальности.
Бог у Бродского не абсолютное начало мироздания, но Некто (или Нечто), зависящий от внешней силы. Иногда Бог предстает в стихотворениях автора «Части речи» и «Урании» иллюзорным порождением сознания «я». Эти мотивы содержатся и в «Разговоре с небожителем»:
- <…> И, кажется, уже
- не помню толком,
- о чем с тобой
- витийствовал – верней, с одной из кукол,
- пересекающих полночный купол.
Встречающаяся у Бродского мысль о Боге как внеличностной объективированной силе, заставляющей верить в себя, естественно, совершенно чужда религиозному экзистенциализму. Отношение «я» к миру в «Разговоре с небожителем» действительно напоминает экзистенциалистское мировидение, но в качестве аналога могут быть названы не только сочинения религиозных мыслителей Кьеркегора и Льва Шестова, но и произведения, например, Альбера Камю, чья экзистенциальная философия имела атеистическую природу. Лев Лосев назвал «Разговор с небожителем» «молитвой»101. Но с не меньшим основанием он может быть назван «антимолитвой», наподобие «Благодарю!» из лермонтовского стихотворения «Благодарность»: не случайно двусмысленно-ироническая благодарность Создателю содержится в двух строфах – шестнадцатой и восемнадцатой – стихотворения Бродского. Богоборческие обертоны религиозной темы, несомненно, соотносят это стихотворение с лирикой Владимира Маяковского. Аллюзию на произведения Маяковского содержит заглавие (ср. «Разговор с фининспектором о поэзии»); форма текста Бродского – речь, обращенная к хранящему молчание собеседнику, – та же, что и во многих произведениях Маяковского.
Экзистенциалистская мысль о разуме как о силе, ограничивающей возможности человека в постижении высшей реальности, встречается у Бродского, но не в «Разговоре с небожителем», а в стихотворении «Два часа в резервуаре» (1965):
- Бог органичен. Да. А человек?
- А человек, должно быть, ограничен.
- У человека есть свой потолок,
- держащийся вообще не слишком твердо.
«Общие места» философской мысли представлены в этом стихотворении и как воплощенная пошлость, филистерство (не случаен макаронический язык «Двух часов в резервуаре», являющий собой смесь русского и немецкого), и как выражение бесовского начала. Восприятие рационализированного взгляда на мир как следствия грехопадения человека, соблазненного дьяволом, отличает воззрения Льва Шестова; трактовка взглядов самого известного немецкого философа – Гегеля – как квинтэссенции безрелигиозного сознания свойственна Сёрену Кьеркегору.
Не сходно у Бродского и экзистенциалистов понимание времени. Для Бродского время обладает позитивными характеристиками, в противоположность «статическому» пространству, освобождает из-под власти неподвижности; однако время и отчуждает «я» от самого себя. Семантика времени у Бродского заставляет вспомнить об определении времени Хайдеггером в докладе «Время и бытие»: «Время никак не вещь, соответственно оно не нечто сущее, но остается в своем протекании постоянным, само не будучи ничем временным наподобие существующего во времени». Время Хайдеггер называет вещью, «о которой идет дело, наверное, все дело мысли» (пер. В. В. Бибихина)102.
Мотив времени – в своей чистой сущности неподвижного (вечности – «Осенний крик ястреба», 1975), стоящего над вещественным миром («мысли о вещи» – «Колыбельная Трескового мыса», 1975 [III; 87]), – перекликается с хайдеггеровской трактовкой времени.
Этот мотив, может быть, наиболее отчетливо выражен в строках эссе поэта «Homage to Marcus Aurelius» («Клятва верности Марку Аврелию»):
Впервые я увидел этого бронзового всадника (статую Марка Аврелия. – А. Р.) <…> лет двадцать назад – можно сказать, в предыдущем воплощении103.
Утраты, которые несет время, – один из лейтмотивов поэтической философии Бродского, он афористически запечатлен в этом же эссе:
Общего у прошлого и будущего – наше воображение, посредством которого мы их созидаем. А воображение коренится в нашем эсхатологическом страхе: страхе перед тем, что мы существуем без предшествующего и последующего104.
Однако «повторение» события, возможность преодоления потока времени Бродский в отличие от Кьеркегора исключает для индивидуума; «повторяться» могут исторические события, но такие повторения – свидетельство обезличивающего начала Истории, которая вообще враждебна «я»: «<…> основным инструментом» истории «является – а не уточнить ли нам Маркса? – именно клише» (Нобелевская лекция, 1987 [I; 8–9]).
