Матери бесплатное чтение
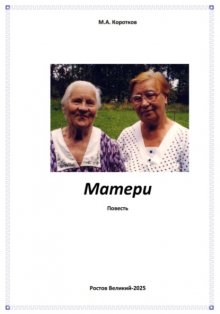
От автора
16 июня 2010 года хоронили маму. Отпевали ее в церкви Пресвятой Богородицы в селе Вощажниково в 12 часов дня. Во время заупокойной молитвы батюшка сказал, что главным поступком в ее жизни было то, что она вырастила и воспитала двух детей. Мне показалось, что сказано было очень мало, что можно было бесконечно долго говорить о ее достоинствах, каким она была замечательным человеком. В то же время, ее служение (вырастить и воспитать двух детей) дорогого стоило, и, в конечном итоге, стоило ей жизни. И сегодня, перебирая ее письма и фотографии, я мысленно возвращаюсь к жизненному пути мамы. На связи со мной дочь маминой старшей сестры (Елены) Эмилия, которая ныне проживает в Великом Новгороде, и моя родная сестра Наталья – их воспоминания очень помогают мне воспроизвести жизненный путь нашей мамы, и ее старшей сестры Елены, который они прошли вместе, от начала и до самого конца.
Часть I. Дань памяти
Глава I. Юрьево
Мама выросла в многодетной семье (8 детей). Родилась она 16 февраля 1927 года в деревне Юрьево, Некрасовского района Ярославской области и с рождения за свой несгибаемый характер получила имя Варвара. Родителями ее были Нестеровы Михаил и Екатерина.
Эмилия: «Екатерина и Михаил – это Юрьевские дедушка и бабушка, у них было 8 детей: Мария, Федор (Ярославль), Елена (Вощажниково), Александр, Константин (Киев), Варвара (Вощажниково), Александра, Василий. Старшая Мария жила в соседней деревне, дядя Федор – в Ярославле, Василий до смерти жил с родителями, в последние годы жизни в с. Диево-Городище, тётя Шура (Узбекистан – Ярославль), д. Саша (Западная Украина – Ярославль), д. Костя- Киев, брат Володя жил и умер в Рыбинске, его жена Людмила жива.
Родители были крестьянами, сначала работали на своем хозяйстве (вместе с детьми), а в период коллективизации были вынуждены все свое хозяйство передать колхозу, и там работать, иначе могли попасть под высылку. После коллективизации из живности в доме остались только несколько куриц, и все. Все дети разъехались».
Наталья (моя младшая сестра) вспоминает, что ей рассказывала мама :
«Была у маминого дедушки Михаила скотобойня, которую отобрали. А когда их семью раскулачивали, то отняли и корову, и последнюю лошадь. Оставили ни с чем. Дед из-за лошади пошёл в колхоз – не мог смотреть, как ее никто не кормит и не чистит».
Эмилия: «Хочу сказать про деревню до революции: у них там были товарищества, поэтому скотобойню держали, возможно, на 2-3 деревни, так выгодней, и разные сельхоз. машины тоже покупали товариществами, может дедушка на этой скотобойне был главным, но в собственности её не было. Весна, лето, осень – работали в поле, а зимой дедушка шил обувь и держал ученика, всё ходили в обуви, сшитой дедом.
Что касается дальнейшей судьбы братьев и сестер Нестеровых: мама моя уехала учиться, Мария вышла замуж, Федор уехал в Ярославль (выучился на пожарного), Александр – стал военнослужащим, Константин – работником МВД в Киеве (сражался с бандеровцами), Василий остался с родителями, Александра поступила в педагогическое училище – стала учителем начальных классов, и после войны работала в своей деревне (муж был в плену, потом в проверочном лагере), а Варя ходила в школу.
После коллективизации семья голодала, и уехавшие дети помогали, как могли. Мама (Елена) подрабатывала и на выходные дни везла продукты домой, Саша служил на Дальнем Востоке и в отпуск привез родителям корову».
И только двух сестер, Елену и Варю, судьба не разлучила, а связала накрепко, и вместе вела по жизни до самого конца. Елена была старшей сестрой и являлась примером и опекой для младшей, Вареньки. Варенька же старательно шла по следам Елены, делая шаги по жизни под ее протекцией и защитой. Так уж сложилось, и так было правильно.
Старшая сестра Елена родилась в 1914 году.
Эмилия (ее дочь): «Мама закончила в своей деревне 4 класса, родители сказали «хватит», а ей очень хотелось учиться. Пошла работать в Диево – Городище нянечкой (по-моему) в ясли, там ей посоветовали идти на подготовительные курсы. Так она с 4-мя классами и поступила в мед. училище в Ярославле. Было, конечно, тяжело, но помогали однокурсницы в общежитии. Когда начались спец. предметы, стало намного легче».
В тетрадке-дневнике Елены я нашел записи, относящиеся к тому периоду:
12.08.1930
«Все валилось из рук, но надо было накормить детей – они шалили, роняли ложки, проливали суп, и я едва справлялась. Автоматически делала все, что привыкла за несколько последних лет, пока работаю нянечкой. Тяжелые мысли не отпускали и тянуло домой – что-то должно было случиться. Оставшаяся пара часов работы проходили невыносимо долго. Я привыкла, что дорогой начинался и заканчивался каждый мой день, но сегодня она была особенно длинной – на дальнем ее конце, у родительского дома, ждала неизвестность. Отца я увидела издалека, он сидел на пороге, подперев голову руками и что-то шептал в пустоту. На мой вопрос он буквально взорвался и закричал: «Забрали, все забрали! Ты что, не видишь? – У нас больше ничего нет!». На дворе бегали испуганные курицы, в стойлах – пусто. Мать зарылась в горнице и прятала заплаканное лицо – ей нельзя волноваться, она на 7-месяце. Не пожалели и беременную! Из невнятных рассказов, которые то и дело прерывались внезапными рыданиями матери, я поняла, что утром приходили из сельсовета и сказали, чтобы мы всю скотину, которая имеется, отвели в колхоз, иначе раскулачат. «И он отвеееел!!!»-завыла мать. Она винила во всем отца, что он не вступился, и теперь семья осталась ни с чем. Я подумала, что отцу не следовало пререкаться с властью, это было чревато еще более страшными бедами.
На улице Варюшка, вся чумазая, таскала по траве свою тряпичную куклу. Она опять одна, Костя, вместо того, чтобы присматривать за сестренкой, с мальчишками играет в лапту. Под вечер собрался дождь. Вот такой был сегодня день».
21.11.1930
«Пошел третий месяц, как забрали скотину. Отец переживает и часто ходит на колхозный двор, смотрит. Лошадь вроде ничего, а у коровы ввалились бока – кормят из рук вон плохо. Да и самим-то есть нечего. Родители давеча сказали, чтобы ехали в город и устраивались работать. Я уже работаю, только толку от моей зарплаты немного. Судя по всему, уезжать в город все же придется, чтобы на один рот стало меньше. Александр поступил в военное училище и уехал. Федор тоже перебирается в Ярославль, будет жить в общаге, учиться (на пожарного) и работать. Варя ходит в садик, но там почти не кормят – вся худая. Родителей дома не бывает – зарабатывают трудодни».
15.04.1933
«Решила написать. Сегодня, уже в который раз был разговор с заведующей. Она начала издалека, мол я молодая девушка и мне еще жить, а без образования сейчас никуда. Как-то она часто стала заводить этот разговор. И какое ей вообще дело до меня? Девчонки смеются, что она выпроваживает меня подальше от своего муженька. Больно он мне сдался – совсем не в моем вкусе, тем более, что иногда наведывается в ясли навеселе, якобы к жене, и пугает детей. Я на него даже и не смотрю. Я решила, что мне, с моими четырьмя классами, надо пойти в вечернюю школу, а потом уж как бог даст».
18.08.1934
«Шура поступила в Ярославское педагогическое училище, говорит, что, когда закончит – будет учителем и зарплата у нее будет большая. Для меня это проблема – в семье денег нет, и мои копейки, что я приношу с работы, ни на что не влияют. Мама на меня тратит все, что у нее есть, иначе, говорит, меня такую «замухрышку в обносках» никто замуж не возьмет. Я завидую Шуре, у нее хоть образование есть, чтобы поступать, а мне куда деваться? Да, Шура говорит, что поступить сейчас легко – второй год во всех училищах недобор из-за «демографической ямы». Это когда в гражданскую войну поубивали чьих-то отцов и матерей – и не родились их дети, и через 17-20 лет поступать учиться стало некому. Вот каких знаний я набралась, а поступать, все равно, боюсь»
05.05.1935
«Сегодня выходной, приехала домой, спеленала Ваську и взяла погулять, чтобы отдохнула мама. Он беспокойный – крутится и пинается, еле управилась. В деревне показывают пальцем, говорят: «Вон Ленка Нестерова нагуляла в городе и привезла домой ещё один рот». С Шурой на этой неделе не виделась, она пишет диплом, ей некогда».
05.07.1935
«Всю неделю на пароходе ездили с Шурой в Ярославль продавать клубнику, что набрали в огороде. На вырученные деньги накупили домой продуктов. Родителей дома не было всю неделю – они работали в лугах со скотом (стояли лагерем, домой не ездили). Когда вернулись – был им сюрприз».
В 1936 году Елена, закончив медицинское училище, по распределению поехала работать в село Вощажниково Ростовского района, а Вареньке исполнилось 9 лет, и она перешла в 3-й класс. Эмилия: «Варя закончила 7 классов: четыре класса в начальной школе в д. Юрьево, а с пятого по седьмой класс – ходила пешком до средней школы, которая находилась в Диево-Городищах (в 3-х километрах от Юрьева)».
Окончание средней школы совпало для мамы с началом войны. К военному периоду следует отнести и ее поступление в Ярославское медицинское училище, которое она закончила уже после войны.
Что мама рассказывала об этом периоде, вспоминает ее дочь Наталья: «Когда немцы начали бомбить Ярославль, мама решила бросить мёд. училище и приехала в Вощажниково, к Елене. Поработав там немного в колхозе, и прочувствовав нелегкий колхозный труд, мама эмоционально заявила: «Пусть хоть камни с неба падают, но я здесь не останусь» и уехала в Ярославль продолжать обучение». Колхозный труд, выходит, был страшнее, чем немецкие бомбы, вот как бывает!
Мама не любила рассказывать про войну, о том, как немцы бомбили Ярославль. Иногда эти рассказы прорывались в компании взрослых, и отдельные моменты доходили до детских ушей, но мы тогда еще не выросли, чтобы спросить по-взрослому, что и как, а теперь спросить уже не у кого.
Глава II. «Враги народа»
Пока мама училась в школе, ее старшая сестра Елена обустроилась в Вощажниково, и работала в местной больнице (фельдшером). В работе у молодого мед. работника все получалось: поначалу, ассистировала на приемах у врача, а затем, набравшись опыта, стала принимать больных самостоятельно.
Читаю письмо Елены от 01.09.1936:
«Здравствуй мамочка! Спешу сообщить тебе, что добралась я хорошо, правда от Ярославля были еще две пересадки, в Ростове и Борисоглебе. Расписания между автобусами не согласованы, и при каждой пересадке пришлось долго ждать. Поэтому добралась я только в 17 часов. Хорошо, что для меня уже подготовили жилье и дежурная медсестра показала мне мою комнату. Место, где я живу, совсем рядом с работой и находится в небольшой хвойной роще. Очень живописное место и воздух здесь чистый, сплю с открытой форточкой. В больнице меня поставили на врачебный прием: врач принимает, а я выписываю рецепты и заполняю карточки пациента. Работа не сложная. Больница очень старая, построена еще при царе, но в хорошем состоянии и коллектив тоже хороший. Рядом с больницей продается большой особняк, я подумала – вот бы и вам всем сюда перебраться. Могу узнать о цене. Вместе со мной живут еще две девушки – ровесницы, с ними мы ходим в кино – здесь оно бывает по субботам и воскресеньям. Иногда после кино остаемся на танцы под баян или гармонь. Это на площадке, что за клубом, совсем недалеко от дома. Так что со мной все в порядке, не переживайте. Привет Костику и Варюшке. Как там дела у Феди и Александра?
На это письмо заканчиваю, и всех целую. Ваша Лена».
Все складывалось как нельзя лучше и в личной жизни: Елена познакомилась, и вскоре вышла замуж за Николая Антоновича (Оттовича) Мезиса, сына лесника, и этот брак соединил их в любви и верности на всю их долгую жизнь.
Эмилия: «В 1937 году, папа с мамой расписались, свадьба была, но небольшая, в основном родственники, родители мамы конечно приезжали. Подробностей я не знаю».
Только счастье не падает в руки, как спелое яблоко, и чтобы получить его требуется, порой, пройти сквозь огонь, воду и медные трубы. И эти испытания пришли.
Записи в дневнике Елены:
22.09.1937:
«Я не знаю, как это описать. Сегодня забрали Отто Адамовича. Приехали поздно вечером, мы уже ложились спать – постучали в дверь. Мама открыла – сразу вошли 5 человек и предъявили ордер. Вели себя по-хамски, не разговаривали, только командовали. Спросили, где хранятся письма – и всю переписку забрали. Шарили по шкафам и комодам – все повыкидывали, а что искали не нашли, и очень ругались. Мама Эмма не успела ничего собрать – дала только белье и совсем немного еды. Я не знаю, как завтра идти на работу, и что говорить, если спросят».
23.09.1937:
«Соседи куда-то пропали. Раньше здоровались по пять раз на день, а сегодня никого нет. На работе, похоже, все уже в курсе – старательно меня обходят, как прокаженную. Даже на прием не поставили – весь день просидела в ординаторской. Что теперь будет, не знаю. Мама Эмма собрала себе узелок с одеждой, на случай, если заберут. Второй день ревет. Какие обвинения предъявили свёкру, до сих пор неизвестно».
Отец мужа, Отто Адамович Мезис, в 1937 году был арестован, как немецкий шпион.
Рассказывает Эмилия: «После революции дедушка работал в лесу, смотрел за порядком, выделял участки под вырубки, подсаживал новые деревья – в лесу был порядок. У него было много друзей, и вот кто-то из них донес на него (может не по своей воле), что он немецкий шпион. В 1937 году деда арестовали, тогда это было повсеместно, в селе многих арестовывали. Дед в застенках продержался 9 месяцев и умер, реабилитировали его уже после смерти Сталина.
В 1938 году у мамы родилась дочка Нина, а в 1939 году – сын Володя. Нина всегда была смуглой и темненькой (в бабушку Эмму), а Володя рыженький, беленький (в отца).
После ареста свекра, мама осталась с двумя детьми и свекровью, бабушкой Эммой, которая ей помогала по дому и с детьми. Мама работала в больнице, туда приезжало много врачей с фронта, передохнуть и поработать в тылу (потом опять на фронт). Так вот, мамина подруга всем представляла мать, как сноху врага народа, чтобы были в курсе. Вообще, мама была «под колпаком НКВД», много рассказывала об этом, у неё даже был готов узелок на случай ареста. Ее оставили в покое только после войны».
Письмо Елены сестре Варваре 14.07.1941:
«Здравствуй дорогая Варя! Мы все живы и здоровы, несмотря на беды, которые приключились с нами. Колю забрали в армию, и мы остались с бабушкой Эммой и двумя детьми. Работаю днем в больнице, а вечером в колхозе. Если бы не бабушка – то с детьми не справиться совсем. С продуктами плохо: спасает только корова да яйца, если есть мука – печем сами хлеб, надеемся, что что-то вырастет на огороде. Как ты учишься в Ярославле, ведь там бомбят? Летают над нами, сволочи. Если надумаешь приехать, то место тебе найдем. У нас, как ушел Коля, есть где тебя пристроить. На работе много командированных с фронта, рассказывают, как там тяжело – немец прет, но, говорят, все равно победим. Подруга Тося, совсем дура, рассказывает им, что я сноха немецкого шпиона. Правда, уже все понимают, что это полный бред – смеются. Только мы с бабушкой держим узелки (на всякий случай). Хотя с двумя детьми и муж на фронте, думаю, не заберут. Так, что, если надумаешь – приезжай. Костику желаю, чтобы все быстрее закончилось, и ему бы не попасть на фронт. Ведь пацан еще. Как там Федя? Ты бываешь у него на Ляпинке? В Ярославле после налетов, наверное, много пожаров. Есть ли письма от Саши? Страшно за него. Вот и все, что хотела написать. Всех люблю, целую!
Ваша Лена,
и со мной бабушка Эмма и детки: Нина и Володя».
Эмилия: «Что касается работы – то весь мед. персонал в войну очень много работал: день в больнице, а вечером – помогали в колхозе. Мама даже вступила в партию, чтобы почувствовать поддержку людей, не быть одной».
Читаю дневник Елены:
20.12.1941
«Уже месяц, как приехала Варя. Живет у нас. Очень повзрослела, стала настоящей красавицей. Отдала ей свое синее платье в горошек, мне мало. На работе договорилась, и взяли ее санитаркой, и мне помогает в процедурной. Вечерами со мной в колхозе. Мне тут председатель колхоза предложил вступить в ВКП (б), он председатель местной парт. ячейки. Говорит, ты хорошо работаешь, и колхозники тебя поддержат. Даже и не знаю. Конечно, чтобы отцепилось НКВД, хорошо бы вступить. Надо подумать».
Эмилия: «Отец на фронте получил несколько ранений, контузию и имел награды. Вернулся с фронта в 1943 году на костылях (комиссовали). После ранения у него развился остеомиелит. Дома при хорошем питании он быстро поправился, и смог устроиться на работу пожарным».
Мне очень нравился дядя Коля, он был таким надежным, правильным. Я ни разу не видел его вывившим, или пьяным. Из детских воспоминаний осталось, как он катал меня на пожарной лошади, а лошадь, проявив несознательность, навалила кучу прямо на ходу.
Мы всей семьей любили играть в карты в их доме, там было тепло и уютно. А когда тетя Лена доставала из русской печи пирог – это было что-то! Я забывал многое в жизни, но ее пироги не забуду никогда (как будто это было только вчера)! Фактически, для меня и моей младшей сестренки Наташи, тетя Лена стала второй матерью. Например, если я, приезжая в село (в школьные годы), жил у бабушки Ани, то сестра Наташа, напротив – всегда останавливалась у тети Лены. Вот такая карусель.
Но вернемся снова к войне. В очень непростой ситуации Елене приходилось просто выживать. Когда война закончится, сюда, окончив мед. училище, приедет ее младшая сестра Варя. А судьба уже крутила своими жерновами, вовлекая в свой круг все новые персонажи: недалеко от больницы, на посаде, что за дорогой, жил сапожник Михаил. Был он раскулаченный, за что и посидел (тоже из компании «врагов»). Два его сына подросли: старший Аркадий – поступил в мореходку, а младший, Саша, безуспешно пытался вступить в комсомол (мешала биография отца). Вот и ходил по селу, развлекал девок баяном да частушками. Это мой папа. Он еще не знал, что однажды встретит маму (Варю), и у них появлюсь я.
Но ты хоть играй на баяне, хоть пляши, хоть пой – но от судьбы не уйдешь!
Глава III. Вощажниково
Вспоминает Эмилия: «Варя уже после войны закончила мед. училище и приехала работать к маме. Одно время вся большая семья из деревни Юрьево хотела переехать в Вощажниково, но потом что-то передумали, а мечтали купить дом, где потом поселился глав. врач местной больницы Валуев».
Жилье маме предоставили рядом с больницей, в 20-ти шагах. Это большой деревянный дом со входами на три стороны, который находится в небольшой рощице, как раз напротив огромного дома Валуевых. В настоящее время в тех комнатах, где когда-то жила мама, проживает наша знакомая и подруга жены Елена Клюкина. В доме живут так же две другие семьи. Вокруг дома – огород с грядами и плодовыми деревьями. Я особенно неравнодушен к грядам. Когда-то в далекой юности я ползком пробирался между этих гряд с десятком яблок за пазухой, которые тайком сумел нарвать в чужом саду. Наша компания (я, Женя Большаков, Игорь Степанов и Володя Колчунов) была грозой местных садов. В настоящее время из этой веселой компании в живых остались только двое: я и Володя Колчунов. Но вернемся снова к маме.
В больнице она работала фельдшером, вела прием детей, ходила на вызовы, делала прививки. Старшая сестра Елена, несмотря на то, что у нее уже были свои взрослые дети, продолжала опекать младшую сестренку Вареньку.
Между тем, у Елены в 1948 году появился третий ребенок – дочка Эмилия.
Вот что она рассказывает про себя:
«Я послевоенная, родилась в 1948 году, в садик не ходила, сидела с бабушкой Эммой. Когда закончила 8 классов, в сельской школе больше учиться не захотела, т.к. в ней готовили по профессиям продавца и тракториста, и надо было проходить практику. Поскольку за прилавком я стоять не собиралась, сказала, что буду поступать в училище. Родня (мама, Варя, Нина, приехал дядя Саша) стали судачить, куда мне поступать. Я их выслушала и попросила Нину отвезти меня в Рыбинск, и подала заявление в медицинское училище. Училась 4 года, закончила на пятёрки и по распределению поехала домой».
Между тем, дочка Елены, Нина, выросла в красивую девушку с длинными косами. Окончила 10 классов Вощажниковской школы и поступила в Рыбинское мед. училище. Там получила профессию «фельдшер – акушер» и вернулась домой, в свою больницу.
Эмилия: «Я помню, мама очень Нину любила, и когда та выросла и стала взрослой, старалась красиво её одеть. А денег было мало, так они с отцом выращивали бычка, чтобы продать на мясо и одеть Нину, а потом ездили в Москву – купить вещи или ткани. У Нины был парень, но он уехал в Москву, и что-то не срослось – они расстались. Она вышла замуж за Тихонова Володю, и они жили в том же деревянном доме рядом с больницей, что и Варя».
Это относится где-то к 1958-1959 году. Мамы в этом доме уже не было – в 1953 году она вышла замуж за папу, в 1954-м появился я, а в 1955 году мы переехали в Ростов, но обо всем этом я расскажу позднее, а пока вернемся к событиям конца сороковых – начала пятидесятых.
Эмилия: «В 1963 году у Нины родился сынок Алеша, а через 2 года она заболела (лимфогранулематоз), ещё через 2 года её не стало. Володя Тихонов один оставался не долго, и через полгода женился на мед. сестре из той же больницы. Когда у них родился свой ребенок, жена Володи превратилась в злую мачеху, и Алеше стало в новой семье очень нелегко. Моя мама просила отдать его, но отец не соглашался. Мама даже жаловалась в сельский совет, но безуспешно. Тем не менее в выходные, и в любую свободную минуту Алеша старался бывать у бабушки».
Я помню, у бабушкиного дома он часто возился с мотоциклом, который ему подарил отец. Таким он мне запомнился, внук Елены – Алеша.
Эмилия: «После армии Алеша женился на девушке из Переславля. Свадьбу ему отец сделал хорошую, правда, за это Алеша должен был отказаться от причитающейся ему доли в доме. После женитьбы Алеша жил в Переславле, работал на заводе. Их сын Сережа пошел не в папу – попал в тюрьму. Алеша очень переживал, и все это сказалось на здоровье: 5 лет назад он заработал инфаркт (по счету третий) и его не стало».
Незадолго до этого трагического события судьба свела меня с ним. Мой тесть решил купить у моего отца автомобиль «Нива», и мы с отцом приехали в Петровск, где находилось МРЭО ГИБДД, для того, чтобы снять автомобиль с учета. Здесь мы и встретили Алешу, точнее, он сам нас узнал и подошел. Мы разговорились, вспомнили старое. Вот такая случилась короткая и последняя встреча с ним. Земля ему пухом.
Теперь об Эмилии. Закончив мед. училище, она вернулась в село. Надо было поддержать маму (после смерти Нины ей было очень плохо).
Вспоминает Эмилия: «Приехала, пришла Варя – говорит: «Ну и кем ты теперь будешь (а у меня специальность – фельдшер), ни сестра, ни врач?». «Ладно, – говорю, – выучусь на врача только 3 года отработаю» (т.к. раньше этого срока документы в институт не принимали). И вот все три года я готовилась, чтобы ничего не забыть, и еще 10 классов закончила в вечерней школе (в Вощажниково). И в 1970 году поступила в Ярославский мед. институт. Мама была не очень довольна, так как требовались значительные финансовые вложения, а денег не было. Я сказала, что обойдусь небольшими деньгами – будет стипендия, и если дадут 30 рублей, то будет очень хорошо».
Рядом с больницей есть небольшой (пожарный) пруд. В детстве мы любили ходить туда купаться, хотя в селе было три пруда, пригодных для купания. Преимущество этого пруда заключалось в следующем:
-во-первых, он был рядом (прямо за огородом семьи Большаковых, с сыном которых я дружил);
-во-вторых, он был чистый (без зелени) и не цвел летом;
-в-третьих, его глубина соответствовала нашим потребностям по комфорту.
Так вот, это пруд выкопали сотрудники больницы в период 1949-1950 годов – это мне рассказала мама.
Вообще-то эта больница занимает в моей жизни особое место. В ней я родился. В ней, когда лежал с больными почками, впервые взял в руки хорошую книгу («Троянская война и ее герои») и полюбил чтение.
И вот, много лет спустя, придя однажды сюда по какой-то надобности, я увидел на стенде фотографию послевоенного персонала, и на ней свою маму.
Эмилия: «Больничка была очень уютная, я её любила. Сотрудники были очень дружные, часто выходили на субботники для её благоустройства. Построена она в 1908 году, как земская, для жителей села. На её строительство собирали сами жители, купцы, богатые крестьяне. По их ходатайству царь также выделил 1000 рублей, в связи с чем больница поначалу называлась в его честь – Александровская 1 . Парк вокруг нее – рукотворный, посаженный специально. Деревянный дом рядом (где жила Варя) построен для сотрудников больницы – там жили врачи и медсестры. У больницы имелось большое подсобное хозяйство по тем временам: я помню лошадь, свиней, 2-х коров, большой огород и картофельное поле (всё для больных)».
Как жила мама в новой обстановке, наверное, с высокой долей вероятности следует предположить. Это был приблизительно 1950 год. Молодежь в то время развлекалась вокруг сельского клуба: играл баян – под него пели, танцевали. Иногда в клуб привозили кино, и об этом знало все село, так как заводился бензоэлектрический агрегат, который подавал электричество. Данный агрегат (он стоял на цокольном этаже клуба) включался на небольшое время и в вечерние часы – тогда в близлежащих домах появлялся свет. Будучи ребенком, я застал это время: как только наступали сумерки – сначала в районе клуба раздавалось характерное тарахтение, затем в доме загоралась лампочка.
Своего будущего мужа мама встретила не сразу. Папа был баянистом, в силу этого «купался в женском внимании», к тому же у него была девушка (Капитонова Лида), которая через некоторое время (после окончания учебного заведения) по распределению уехала в Омск. Папино сердце с этого момента «освободилось» и он обратил внимание на маму. То, что это произошло при наличии большого женского внимания, говорит о том, что мама действительно была очень привлекательной девушкой. Так завязалась их дружба. Папа в это время учился в Ярославском музыкальном училище имени Собинова.
В 1951 году мама проводила папу в армию и дождалась его.
Папа служил хорошо, и привез из армии похвальные грамоты, которыми очень гордился:
Похвальный лист: Младший сержант Коротков Александр Михайлович.
За успехи в боевой и политической учёбе и безупречную службу в рядах Советской Армии награждаю Вас настоящим похвальным листом, выражаю уверенность, что Вы и впредь будете служить примером добросовестного исполнения своего патриотического долга перед нашей великой Родиной – Союзом Советских Социалистических Республик.
Командир части 31666 подполковник /подпись/ Ивашутин
Грамота: Младшему сержанту Короткову А.М.
За достигнутые творческие успехи и высококачественное исполнение репертуара художественный самодеятельности награждаю Вас настоящей грамотой.
Командующий войсками военного округа
гвардии генерал-полковник /подпись/ Шумилов
29 апреля 1952 года
В 1953 году, вернувшись из армии, он завершил обучение в муз. училище, и они с мамой поженились, а через год (15 октября 1954 года) на свет появился я, в вышеуказанной больнице.
Еще из армии папа привез очень красивый телеграфный ключ, на лакированной деревянной подставке, и, когда я немного подрос, подарил его мне. Этот ключ и рассказы отца о его службе радиотелеграфистом сыграли в моей судьбе значительную роль. В итоге, я тоже стал радиотелеграфистом, офицером, и большая часть моей жизни оказалась связанной с армией.
Мои младенческие воспоминания об этом периоде жизни не велики. Их сохранилось всего два.
Первое: я сижу на земле у завалинки деревянного дома и отколупываю кусочки глины, которой была обмазана пакля между бревен, и все это отправляю в рот.
Второе: в деревне Николе Березниках мои родители «гуляют» на чьей-то свадьбе, а мне, чтобы я их не беспокоил, дали миску с медом. Я съел весь мед. Не знаю, было ли мне после этого хорошо или плохо, но лет до 60-ти я мед на дух не переносил.
Теперь о перспективах, которые имела на тот момент молодая семья.
Получив, по окончании музыкального пед. училища, образование дирижера и баяниста, папа должен был его как-то реализовать, чтобы прокормить семью. Очевидно, что в селе такой возможности не просматривалось, поэтому молодые стали думать о переезде в город, на что и решились после моего рождения, где-то в 1955-1956 году.
Глава IV. Ростов
К моим воспоминаниям о Ростове относится, во-первых, то, что мы ютились по съемным квартирам. Видимо, мы сменили их немало, прежде, чем получили комнату в коммуналке. Мне запомнилась только одна из них, вернее, ее хозяин, высокий и худой горбун с морщинистым лицом. Папе он очень не нравился, и тот говорил про него много плохих слов, которые я не смогу сейчас воспроизвести. Моему же детскому воображению после таких слов (в совокупности с внешностью), хозяин квартиры представлялся буквально чертом в гриме. Насколько я мог тогда понять, все их размолвки с хозяином происходили из-за несвоевременной оплаты за квартиру. Видимо, в семье с деньгами было туго.
И вот, наконец, первая коммуналка. Это была комната на втором этаже студенческого общежития (от ростовского музыкального пед. училища) на Советской площади, дом 7. Папа работал на двух работах: в музыкальной школе и в пед. училище и, видимо, по этой причине нам выделили это жилье. Комнатка была очень маленькая, с одним окном и видом на площадь. Казалось бы, здорово, в праздники удобно смотреть парад и демонстрации, но нет – за неделю до каждого события перед нашим окном вывешивали плакат с портретом Ильича (на стене для этого имелись соответствующие крепления) и у нас наступала «полярная» ночь, которая длилась еще пару недель, пока плакат, наконец, не снимали. Поэтому, парады приходилось смотреть, как и все обыкновенные люди, на площади, сидя на плечах у отца. Судя по ощущениям, плакаты вешали и снимали раза четыре – значит, мы прожили в этой комнате приблизительно два года.
Затем, семье дали другую коммуналку, уже более комфортную, если так можно выразиться. Это была комната на два окна. У одного окна стояла моя кровать, а у другого – кроватка сестры, обтянутая сеткой, чтобы она оттуда не вылезала. Видимо это был год 1960-й, потому что сестра уже ходила по кроватке (ей был где-то годик) и показывала мне разные гримасы. Меня водили в садик, который располагался в двухэтажном здании на перекрестке улиц Окружная и Пролетарская, напротив пожарной части. В более поздние годы в этом здании располагалась вечерняя школа, а сейчас оно уже лет 5-7 стоит под ремонтом с непонятными перспективами. В садик меня водила бабушка Аня, папина мама. Где она размещалась у нас, в этой маленькой комнатке, я не представляю – разве что на раскладушке, которую ставили возле входной двери.
В этой комнате в нашу семью впервые пришла беда: я помню, как рыдала в голос мама, когда пришла телеграмма о смерти ее отца, что жил в деревне Юрьево. Он умер тихо во сне, уснул и не проснулся. Она ездила на похороны и вернулась оттуда вконец убитая – так нелегко ей давались такие переживания.
Была на похоронах и ее сестра Елена, но судьба уже готовила для нее новые страшные утраты: чуть позже, в этом же году, умрет ее свекровь, бабушка Эмма, и смерть уже присматривала себе новую жертву – старшую дочерь Елены – Нину.
Вспоминает Эмилия: «Второй мамин ребенок, сын Володя, в 1960-м году окончил 10 классов Вощажниковской школы и вместе с другом поехал в Мурманск, поступать в мореходку. В итоге, оба провалились (а может просто испугались), вернулись и поступили в проф. училище при полиграф. заводе в Рыбинске. После учебы Володя проработал на этом заводе всю свою жизнь, с перерывом на службу в армии. В период армейской службы, в отпуске, женился. Свадьба была в Рыбинске, только с родственниками. Со стороны жениха была только я, так как в это время была тоже в Рыбинске. Больше он никого не звал, и мама за это очень обижалась. После армии у них родилась дочка Света. К нам они приезжали очень редко, только на какие-то события. Володя умер в 2004 году от инфаркта, через год умерла его дочь от лейкемии. Жена ещё жива, скоро ей будет 86 лет, очень больная с молодости, она пережила всю свою родню».
Но вернемся снова в шестидесятые. «Хрущёвская оттепель» сменившая сталинизм, дала надежду узнать что-то о судьбе репрессированного Отто Адамовича Мезиса.
Вспоминает Эмилия: «Когда мой отец со своей сестрой поехали на процесс по реабилитации, то спросили про могилу. Там удивились: о какой могиле идет речь? Там расстрельные процессы шли каждый день, и в общую могилу закапывали всех, потом трактором заравнивали».
К периоду шестидесятых годов следует отнести не только утраты, но и хорошие вести. У маминой сестры Шуры нашелся муж Анатолий. В войну он попал в плен и был узником Бухенвальда. Какой-то немецкий барон взял его в работники, этим и спас. После освобождения его долго держали в проверочном лагере, и там предложили поработать на урановых рудниках в Узбекистане. Домой он не писал и объявился только в 1956 году, в праздник Смоленской божьей матери. Сестра мамы Шура после этого уехала с ним. Там в Ленинабаде она работала учительницей, а муж ее, Анатолий, в шахте электриком. Вернулись на родину они уже пенсионерами и купили домик в Ярославле, за Волгой.
Вспоминает Эмилия: «Дядя Толя был очень живучий, все, с кем он поехал на шахту в Узбекистан, умерли, а он ещё долго жил, пережил и жену свою, Шуру.
У Шуры перед войной, с небольшим интервалом, родились две девочки: Ирина и Люся. Они остались с бабушкой и дедушкой в деревне. Ирина вышла замуж и жила в деревне Пески Некрасовского района, Люся – в какой-то другой деревне. В Песках я у неё гостила, там почти под окнами течёт Волга. Красота! Пожалуй, у всех детей Нестеровых была тяжёлая жизнь, кроме, разве что, Марии (но у нее муж был пьяницей) да Федора – он спокойно прожил в Ярославле всю свою жизнь (от войны у него была бронь). Младшему брату Василию не повезло с детьми: девочка Леночка родилась недоразвитая, училась в спец. школе, затем её устроили на фабрику. Мальчик родился нормальным, но его, недолго думая, тоже отправили в ту же школу».
Где-то в 1960 году начались проблемы и у моей мамы. Она только что (в 1959 году) родила мою сестренку Наташу, и, казалось бы, все было хорошо, но тут пришла беда от папы. Он как баянист, да еще работающий на двух музыкальных работах, постоянно был в центре различных тусовок. Концерты и особенно свадьбы, часто сопровождались и заканчивались выпивкой, особенно для баяниста. Какая же свадьба без баяна? А баянисту, по неписаному правилу, полагалось налить – так он постепенно пристрастился к алкоголю. Вначале это было не так заметно. Дело в том, что в нашей коммуналке, кроме нас, проживала тогда вся музыкальная элита города: директор музыкальной школы, в которой работал отец (Дмитрий Румянцев), известный впоследствии дирижер Сергеев (именем которого ныне назван городской симфонический оркестр) и другие музыкальные работники. И папа в кругу их внимания держался, не позволяя себе выпить лишнего. Но уже тогда начались его первые ссоры с мамой, они еще не носили какого-то непримиримого характера. Помню, поссорившись с матерью, отец забрал меня у нее, и отвел к брату Аркадию, который жил в то время в Ростове на улице Ленинской, в помещении церкви Покрова Святой Богородицы, под самым куполом. Это место я запомнил, уж больно оно было диковинное. Ссора была не долгой, и вскоре я вернулся домой.
В двухтысячные годы РПЦ получила в собственность эту церковь. Сам Аркадий в тот период был уже стар, и доживал свой век в родительском доме, в селе Вощажниково. Но в паспорте у него сохранилась прописка, и я пытался решать вопрос с компенсацией ему за утрату жилья. Действительно, после нашего запроса, в качестве компенсации ему была предложена квартира в деревянном доме без удобств, что не соответствовало существующим на тот момент нормам. Требовалось судиться, а я в качестве истца (по доверенности от него) выступать не мог, поскольку ответчиком в суде был мой работодатель (я работал в администрации муниципального округа). Требовалось заниматься этим процессом серьезно, и папа пытался получить от брата доверенность на действия по этому иску. Но Аркадий находился уже в таком состоянии души, когда ему ничего было не надо – и он доверенности не дал. Так и закончилась эта история ничем, а могла бы закончиться благоустроенной квартирой.
Что еще мне запомнилось из жизни в «музыкальной» коммуналке. Помню, как мне доводилось отводить сестру в ясли. Когда бабушка у нас не жила (а такое случалось довольно часто), отводить Наташу в ясли доверяли мне, тем более, что ясли находились напротив (через дорогу) – в Новодевичьем Рождественском монастыре. Стены этого монастыря нависали над нашими окнами, потому что разделяющая нас дорога была маленькой и больше походила на тропинку (грунтовая и мощеная булыжником). Поэтому такая задача не доставляла мне каких-то неудобств. Делал я это до того, как сам отправлялся в садик. Папе и маме надо было на работу, а бабушка Аня не могла жить с нами постоянно.
О том, как папа и мама работали, имеется много материалов: это грамоты, благодарственные письма, поздравительные адреса. Если сравнивать папу и маму по объему достижений, то количественно их больше у мамы. Приведу некоторые из них:
Грамота: Ростовский горком общества Красного Креста награждает Короткову Варвару Михайловну, фельдшера средней школы № 2 настоящей грамотой за активное участие в подготовке и проведении Дня здоровья.
Председатель комитета общества Красного Креста, подпись
14 июня 1972 года
Почётная грамота: Награждается Короткова Варвара Михайловна за долголетний безупречный труд в органах здравоохранения и в связи с 55-летием.
Главный врач ЦРБ Валов
Председатель мед. комиссии Кротков
Секретарь парт. организации Зайцев
04.03.82 года
Почётная грамота: Исполком Ростовского городского совета депутатов трудящихся награждает почётной грамотой Короткову Варвару Михайловну за хорошую работу, и в связи с Днём медицинского работника.
Исполком городского совета депутатов трудящихся
18 июня 1973 года
Почётная грамота: Почётной грамотой награждается Короткова Варвара Михайловна за хорошую подготовку звена санитарных дружинниц, занявших второе место на областном финале военно-спортивной игры Орлёнок-82.
Председатель обкома Красного Креста /подпись/ Заярная
Почётная грамота: Отдел народного образования Ростовского горисполкома награждает Короткову Варвару Михайловну за многолетний плодотворный труд по воспитанию подрастающего поколения.
12 марта 1982 года, город Ростов
Грамота: Награждается врач средней школы № 2 Короткова Варвара Михайловна за большую работу по медицинской пропаганде и подготовке Дня здоровья в школе.
17 июня 1971 года, город Ростов
Почётная грамота: Коротковой Варваре Михайловне за хорошую работу среди учащихся средней школы № 2 в 1985-1986 учебном году.
Главный врач Валов
Председатель ГОРОНО Сметанина
28.06.1986 г.
Грамота: Ярославский обком Красного Креста награждает Короткову Варвару Михайловну настоящий грамотой за активное участие в работе общества Красного Креста
Председатель комитета общества /подпись/
Почётная грамота: Коротковой Варваре Михайловне за долголетний безупречный труд в органах здравоохранения и в честь пятидесятилетия.
Главный врач ЦРБ Колчин
Председатель медкомиссии Шамарин
16 февраля, 1977 года
Почётная грамота: Коротковой Варваре Михайловне за активное участие в проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в городе.
Город Ростов Ярославский, июль 1966 года
Исполком городского совета
Работа мамы была видна не только на районном, но и на областном уровне. Помимо поощрений, приведенных выше, в семейном архиве имеется фотография областного мероприятия медицинских работников, которое состоялось в Ярославле 01.12.1990 года.
Мама действительно очень много и с душой работала с детьми, являясь школьным фельдшером. И память о ней (настоящую, а не показную) хранят обычные люди, ее ученики и ученицы, которым она привила любовь к профессии медика. Например, когда приходится обращаться в поликлинику по болезни, часто встречаю там женщину-врача, которая до сих пор помнит мою маму. В школьные годы этой девочки, мама работала в ее школе (СШ № 2) фельдшером, и все девочки ее очень любили. Мама была доброй и отзывчивой, такой же, какой она была в семье. Может быть, ее пример и помог этой девочке стать врачом. Косвенными свидетельствами высокого авторитета нашей мамы являются еще два факта, которые случились нечаянно, и мы в свое время не придали им должного значения, но я приведу их здесь:
1.Когда маме (в последние годы ее жизни) потребовалось сделать протез зубов, я обратился за помощью к главе района (Пойкалайнену В.И.). Он когда- то был директором школы и работал с мамой. Все было сделано быстро и бесплатно.
2.Когда мама умерла, мы провожали ее своей семьей, и похоронили на сельском кладбище в селе Вощажниково, где она провела самые светлые годы своей жизни. Мама долгие годы была на пенсии и не работала, и мы полагали, что едва ли стоит привлекать к похоронам широкую общественность. Каково же было наше удивление, когда впоследствии звонили ее коллеги по работе и выражали горечь и негодование по поводу того, что не были оповещены.
Вот так, порой, о человеке узнаешь больше не при жизни, а после смерти. Прости нас мама за это. Не ведаем, что творим!
Но вернемся снова к жизни. К жизни в Ростове.
Письмо мамы сестре Елене 18.02.1961:
«Здравствуй Леночка!
Спасибо за поздравление! Было очень приятно получить от вас с Николаем весточку в этот день. Наконец-то мы дождались 2-х комнатной квартиры и переехали из коммуналки, и надо бы радоваться, но радости нет – Саша опять запил. Уже вторую неделю он каждый день пьяный. Не представляю, как он ходит на работу после такого. Я, конечно, держусь, стараюсь его не провоцировать, но он сам начинает приставать и доводит, все равно, до скандала. Жалко детей, они страдают, глядя на это. Приходят разные мысли. Вот трезвый он хороший человек: и заботливый и внимательный и за домом смотрит. А как выпьет – делается дураком: тупым и упрямым. Говорила с ним, чтобы как-то полечиться. Но он ни в какую – говорит: «Все под контролем». Под каким-таким контролем, если человек спивается на глазах? Вот, все тебе рассказываю о грустном. А поверь, радоваться тут нечему.
Мишу решила в школу в этом году не отдавать, пусть еще годик посидит дома, пойдет на следующий год – все будет постарше. Понемногу откладываю деньги на пианино. Саша как-то, по трезвости, предложил, чтобы после второго класса отдать Мишу в музыкальную школу. Только надо еще до этого второго класса дожить, а с таким папой – это проблема.
С Наташей все в порядке, простуда прошла, и со вчерашнего дня ходит в садик.
На это писать заканчиваю. Вам с Колей, Ниночке и Милечке – огромный привет и пожелания добра! А Володе – легкой службы!
Ваша Варя.
П.С. От Саши большой привет. На Пасху он собирается к матери, зайдет и к вам».
Запись в дневнике Елены 25.02.1961:
«Подменить Нину на дежурстве 27-го (Борисоглеб);
Как приедет, поговорить с Сашей (сказать, что думаю про него);
Отнести творога Анне Александровне;
Собрать посылку Володе;
Родительское собрание в пятницу (Миля), погладить ей фартук».
Настоящие трудности в отношениях с папой у мамы начались тогда, когда мы, наконец, получили свою квартиру на улице Спартаковской (1961). Папа лишился «тормозов», которые его сдерживали в «музыкальной» коммуналке, и стал почти ежедневно появляться дома пьяным, или сильно выпивши. Мириться с этим было бы возможно, если бы при этом не раскрывались его дурные привычки, которые, будучи трезвым, он прятал глубоко в себе. Одна из них наносила прямой ущерб семье и детям – он съедал все, что было на кухне. После него в семье становилось нечего есть. Мама терпела все, но, когда он добирался до продуктов на кухне, она взрывалась. Описывать сцены домашних скандалов у меня нет никакого желания, скажу лишь, что мы с сестрой плакали и прятались под столом. Когда отец уходил или засыпал, мы спрашивали маму, почему она не разведется с ним, она же ничего не отвечала, лишь плакала. В редкие периоды трезвости, отец просил прощения и даже несколько раз пытался избавиться от алкоголизма. Помню, они с мамой летали на самолете в Омск, к какому-то экстрасенсу, но это не помогло. Пробовал он и кодироваться – тоже безуспешно. Справедливости ради, я должен сказать, что в те годы многие отцы (если не сказать все) сильно выпивали. У моего друга Валентина С., который жил в нашем подъезде (этажом выше), тоже сильно пил отец. Как-то зайдя к нему, я чуть не поймал головой тарелку, которую бросил его отец. У моего одноклассника Саши Р. отец повесился на почве пьянства. И наш папа скатывался по наклонной все сильнее и сильнее. Скоро на наши скандалы стала приезжать милиция. Однажды папу забрали за хулиганство в семье на 15 суток. Не стали его выходки секретом и на работе. Сначала он ушел из муз.пед.училища, а затем и из музыкальной школы. Нашу семью поставили на учет, как неблагополучную. Об этом я узнал совсем недавно, случайно от сестры. Она написала отзыв на первую, изданную мной книгу, про моего деда («18 страниц судьбы»).
