Нерон. Безумие и реальность бесплатное чтение
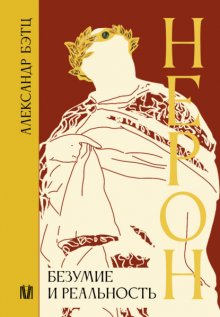
Перевод оригинального издания
Alexander Bätz
Nero. Wahnsinn und Wirklichkeit
© Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg, 2023
© В. А. Филиппова, перевод на русский язык, 2023
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Введение
Беременность Нерона
Нерон забеременел – наконец-то. Он страстно хотел зачать и родить ребенка, угрожал своим врачам огнем и смертью, если они не помогут ему осуществить желаемое. Они приготовили для него зелье, которое должно было совершить чудо. Чудо свершилось: роды произошли через рот. После неустановленного срока беременности император изрыгнул уродливую жабу. Присутствующие прокомментировали омерзительное зрелище испуганными возгласами: Lata rana, lata rana! – «большая лягушка», что дало название Латеранскому дворцу[1] в Риме[2].
Эта причудливая история взята из так называемой «Императорской хроники» – исторической поэмы XII века, раннего средневерхненемецкого периода, предположительно написанной в Регенсбурге. Произведение, весьма популярное в Средневековье, содержит исторический и хронологический очерк римских и германских императоров от Цезаря до 1147 года[3]. События тех лет сокрыты в преданиях и отчасти бесследно утеряны: более 17 000 стихов, в которых в основном воспеваются заслуги перед Церковью, наделяют фигуры правителей обилием анекдотов. Помимо беременности Нерона, неизвестный автор также рассказывает, как тот с великим энтузиазмом поджег Рим и из любопытства вспорол живот собственной матери. Казнь апостолов Петра и Павла также приписывается Нерону. Соответственно, в конце повествования ubelen kunige Nêre, злого императора Нерона, забирает сам дьявол.
Наряду с родившим жабу императором, чье необычное желание гротескно выходит за рамки установленного Богом порядка, идя, как говорится в тексте, «против природы человеческой», «Императорская хроника» содержит один из любопытных моментов истории рецепции Нерона, которая по сей день вызывает живой интерес. На протяжении почти 2000 лет распространяются бесчисленные изображения и истории о последнем императоре из династии Юлиев-Клавдиев[4]. Упоминания о каких-либо его достоинствах встречаются крайне редко.
Как часто бывает при оценке масштабов исторического величия и степени вины, образы Нерона – это прежде всего отразившие дух своего времени слепки, которые больше говорят о своих создателях, чем об описываемой фигуре. То же справедливо в отношении и Александра Македонского, и Юлия Цезаря[5]. Но если в их случае в первую очередь учитываются политические реалии, которые оценивались широко и весьма разнообразно, а также предлагаются все промежуточные оттенки – от глубокого неприятия до благоговейного почитания, – то суждения о Нероне колеблются лишь в рамках красочной палитры зла, и создается впечатление, что только этим он и выделяется: спустя два тысячелетия Нерон стал символом, обозначающим всевозможные пороки и в то же время полностью скрывающим историческую личность. Сегодня Нерон широко известен как матереубийца, гонитель христиан, тиран и поджигатель. Более доброжелательные критики видят в нем просто толстого невротика, беспринципного бездельника или изнеженного неудачника, который увлекся поэзией и пением и был абсолютно непригоден к роли римского императора.
Образ Нерона мгновенно переносится из далекого Древнего Рима в наши дни. Сравнение с ним сразу же приходит на ум, когда нужно осудить недостатки или политический режим диктаторов, авторитарных лидеров или правителей-экстремистов, и на протяжении 20 веков такое сравнение остается понятным для всех. Когда в марте 2020 года Дональд Трамп опубликовал в Twitter[6] фотографию, на которой он играет на скрипке, пока в США бушует коронавирус, весь мир дружно упомянул в комментариях Нерона: Рим в огне, а Нерон берет в руки лиру[7].
Многие годы исследователи-антиковеды всячески выражали сомнение в том, что историческая фигура Нерона имеет что-то общее с этими клише. И сегодня они усердно разрабатывают альтернативные интерпретации образа императора, лишенные отпечатка времени, обсуждают различные варианты оценки его правления и намечают историографические тренды – например, в отношении переосмысления роли принцепса с точки зрения его увлечения искусством[8]. Более удобная версия характеристики Нерона как особенно неприятного представителя длинной череды «плохих» императоров все дальше отодвигается на второй план. В современной науке больше никто не использует легендарный термин «кесарево безумие» – диагноз, который в конце XIX – начале XX века с энтузиазмом применяли к таким императорам, как Нерон или Калигула, для объяснения странностей в поведении и характере этих правителей, в изобилии представленных в древних текстах[9].
Истории императоров
Парадигма в отношении великих деятелей Античности начала меняться несколько десятилетий назад. Сегодня в дискурсе доминируют структурно-исторические перспективы[10]. Вряд ли кто-то всерьез будет отрицать, что фигура, всегда казавшаяся грандиозной, такая как Август (отношение к которому было куда лучше, чем к Нерону), является порождением своего времени. Даже для него, первого римского императора, несмотря на аккумулированную им невероятную власть, существовали объективные условия, которые зачастую принуждали его действовать энергично и, что не менее важно, требовали понимания и умения к ним приспосабливаться.
Однако бо́льшая часть историографических, антикварных и биографических текстов древности посвящена исключительно таким великим людям и их столь же великим деяниям, как хорошим, так и плохим. Структурную информацию о рассматриваемом периоде, игровом поле действующих лиц, античные авторы передают лишь косвенным образом. И это неудивительно: зачем Тациту или Светонию распространяться о том, что для их современников было само собой разумеющимся? Из-за этого фильтра последующие наблюдатели легко упускали из виду связи и предпосылки. Так и Нерон на протяжении веков сталкивался с этой проблемой. Предполагаемый безумец вполне может предстать в ином ключе, стоит только осветить его окружение ярче и шире. Более полная картина вырисовывается, лишь когда жизнь и поведение императоров встраиваются в реалии римского общества, в условия жизни при дворе, в пространство принятия решений и общения, в систему императорской власти в целом[11].
Исследователи давно пришли к выводу, что образ ранней Римской империи должен быть воссоздан на основе целого комплекса источников. Зачастую проблема заключается не столько в императорах, сколько в текстах, доступных для реконструкции их биографий. Однако историк не может выбирать одни источники в ущерб другим. Это относится ко всем периодам, но более всего применимо к древней истории. При изучении греко-римской Античности традиция куда тоньше и большей частью сложнее, чем в более поздние эпохи, где порой допускается щедрая расстановка акцентов при подборе материалов. Грань между утверждениями и предположениями часто очень тонка, особенно когда речь идет об императорах династии Юлиев-Клавдиев.
Кто такой Нерон?
Цель этой книги не в том, чтобы превратить плохого императора Нерона в хорошего императора Нерона. Это было бы методологически и фактически неверно и для этого нет никаких оснований. Скорее, ее цель в том, чтобы демифологизировать Нерона, трезво представить как человека своего времени с присущими ему ритуалами и правилами, традициями и ценностями, не упуская из виду спорные сообщения. Выбранная оптика исследования часто охватывает материал куда шире обычной биографии, но затем отклоняется от четкого фокуса на конкретной личности. В центре внимания – вовлечение Нерона в повседневную жизнь. Взять лупу и сконцентрироваться исключительно на нем будет явно недостаточно. В книге используются культурный, социальный, событийный и структурно-исторический подходы – таким образом, учитывается, что Нерон взаимодействовал со своим миром и людьми, живущими в нем, в самых разных точках соприкосновения. Речь идет о создании широкой панорамы, в которой второстепенные герои иногда становятся главными действующими лицами, и наоборот – насколько позволяют источники.
В общении со многими современниками, которое не вызывало особого интереса у античных авторов, Нерон зачастую выступал в большей степени как человек, нежели как император. Были кормилицы, которые заботились о нем и опекали еще до того, как его стали называть Нероном, воспитатели, которые присматривали за мальчиком и готовили к престолонаследию. А при императорском дворе, где соединялись нити управления империей, бывшие рабы выполняли всю работу, важную и грязную, что зачастую означало одно и то же, для Нерона, их патрона, который даровал им свободу и мог рассчитывать на вечную благодарность.
Рассчитанная близость и бесконечная дистанция в равной мере характеризовали отношения Нерона с аристократией, по крайней мере с момента, когда он встал на ноги и больше не желал безоговорочно подчиняться своим советникам. Тогда благосклонность и недовольство императора решали вопрос жизни и смерти, и самоубийство, настоятельно рекомендованное сверху, стало нередким среди сенаторов. Разумеется, столь жестокое распределение ролей оказало огромное влияние на отношение аристократов к императору. И традиционалисты, и соглашатели были вынуждены признать, что обыденное представление сенаторов о самих себе и их фактическое значение в государственном аппарате диаметрально противоположны. А император, который не мог или не хотел видеть, что уважение к традиции как к наименьшему общему знаменателю в отношениях с сенатом просто необходимо, недостоин этого титула. Итогом стали заговоры, восстания и смерти, а в самом конце – смерть самого Нерона.
В круг общения Нерона входили не только разочарованные аристократы, но и возничие, жрицы, гладиаторы и солдаты, а также простые граждане Рима, которые с восторгом или недоумением смотрели на своего императора, когда тот выступал на публике в качестве артиста. Нерон-изверг лишь изредка проявляется в этих зонах контакта. Не каждый житель Рима подтвердил бы расстройство поведения непредсказуемого императора. В поисках монстра-поджигателя мы ступаем на особенно зыбкую почву. Между тем большинство ученых убеждены: Нерон не виноват в великом пожаре 64 года, столь неразрывно связанном с его именем.
«Что могло быть хуже Нерона, что может быть лучше его бань?» – вопрошает поэт Марциал в эпиграмме примерно через 20 лет после смерти Нерона[12]. Нерон был весьма противоречив во многих отношениях, и еще при его жизни общественное мнение о нем разделилось[13]. Свет и тень пронизывали его правление, при этом параметры, определяющие, что к чему отнести, зависели от наблюдателя. Однако вряд ли можно отрицать, что освещение литературных преданий, выдержанных исключительно в самых мрачных тонах, не отражает сложности предмета.
Эпиграфика, второй по значению источник по истории Древнего мира после античной литературы, представляет Нерона в ином свете[14]. На территории Римской империи сохранилось 175 надписей, инициированных самим Нероном или посвященных ему. Эти свидетельства вовсе не указывают на то, что между 54 и 68 годами на императорском троне восседал опасный психопат. В целом в надписях имидж Нерона соответствует высоким стандартам: отсылки к Августу и прославление военной мощи были частью канонического образа всех предшественников Нерона. Так что тут все было в порядке вещей.
Другой пример: презрение к культам богов и принципиальное игнорирование государственной религии – одно из центральных обвинений, выдвинутых против Нерона в источниках. Однако записи арвальских братьев – древней коллегии жрецов, извлеченной Августом из забвения, – которые вели хронику своей деятельности, не дают никаких подтверждений этим обвинениям[15]. Если исходить только из этого источника, то ничто не указывает на то, что император пал по указанной причине.
Поэтому стоит по-новому взглянуть на Нерона, и этот иной подход, вопреки стереотипам, так долго его окружавшим, позволит не сбить нас с толку. Нерон жил в относительно четко очерченном космосе, протагонистов, структуры и правила которого мы можем проследить так же, как и воздействие этого мира на императора. Об этом и пойдет речь. Избранный в этой книге подход не смывает кровь с рук императора, но позволяет немного приуменьшить чудовищный и странным образом обособленный индивидуальный феномен под именем Нерон, который веками препятствовал рецепции и формировал народное восприятие.
Поиск сути, лежащей в основе нероновского мифа, уже давно занимает ученые умы в башнях из слоновой кости, и некоторые ответы уже найдены. Однако широкая общественность лишь недавно столкнулась с необходимостью подвергнуть сомнению привычные взгляды и суждения, связанные с Нероном. Цель книги – взять за основу эти сомнения и предоставить широкому кругу читателей информацию о том, что было исследовано в отношении Нерона за последние десятилетия. Факт, что Нерон, самый известный римский император, обладает огромной привлекательностью за пределами антиковедения, подтвердился в Германии в 2016 году на специальной выставке «Нерон. Император, артист и тиран» в Рейнском региональном музее в Трире. К моменту, когда получившая хвалебные отзывы выставка закрыла свои двери, более 270 000 посетителей успели за несколько часов познакомиться с шагнувшим в бессмертие императором, получив вполне сбалансированный и обновленный образ Нерона. Выставка в Трире была одной из самых успешных античных выставок последних десятилетий и, вероятно, поспособствовала тому, что мифотворческое воплощение образа Нерона Питером Устиновым в фильме 1951 года «Камо грядеши» в глазах многих зрителей заметно поблекло[16].
Три автора
Как же получилось, что Нерон столь предвзятым образом сумел стать негативным стереотипом? И к какому апогею привело увлечение Нероном на протяжении почти 2000 лет?
Начало всему положили три античных автора: Тацит, Светоний и Кассий Дион[17]. Они создали однобокий образ Нерона и придали ему форму, которая в значительной степени сохраняется по сей день. Их сочинения послужили плодородной почвой, на которой стремительно разрослась мрачная история восприятия Нерона. Между тем все трое отнюдь не являлись свидетелями правления Нерона, и каждый из них руководствовался собственными, правда, весьма основательными, причинами, которые мешали трезво взглянуть на императора.
Публий Корнелий Тацит, родившийся в середине или в конце 50-х годов, если и застал правление Нерона, то лишь в детстве, когда жил в галльской провинции. Впервые он оказался в Риме, когда ему, предположительно, было около 15 лет; в столице начались его занятия риторикой. К тому времени Нерона уже несколько лет не было в живых. На императорском троне восседал Веспасиан (69–79), основатель династии Флавиев, сделавший все, чтобы как можно заметнее отмежеваться от Нерона. При Флавиях Тацит начал сенаторскую карьеру и выработал для себя четкое представление о тех правах и обязанностях, которые должны применяться при взаимодействии императора и сената. В частности, жестокое автократическое правление последнего императора династии Флавиев Домициана (81–96) сильно повлияло на Тацита как литературного защитника сенаторской свободы и самоопределения.
Тацит был мизантропом, пессимистом в отношении культуры и в своих произведениях безжалостно обличал потрясения в обществе и политике, которые, по его мнению, было невозможно предвидеть. Читать его – огромное удовольствие и сегодня. Особенно когда он отходит (довольно часто) от своего часто цитируемого намерения повествовать о минувших событиях без гнева и пристрастия (sine ira et studio)[18] и весьма язвительно указывает на недостатки конкретных людей или целых сообществ. Например, он пишет, что Рим – это город, который многое знает, но ничего не таит[19]; чрезмерная потребность в признании – явление не только нашего времени. Основной тон Тацита мрачен, и, если бы его спросили, он, вероятно, вообще мог бы обойтись без императора во главе государства, и совершенно точно без такого правителя, как Нерон, который в итоге начал перестраивать хрупкую тектонику Римской империи явно в ущерб сенату[20].
Помимо ретроспективы в «Истории», труде, посвященном в первую очередь императорам династии Флавиев, Тацит обращается к Нерону во второй своей крупной работе – «Анналы», написанной примерно через 50 лет после смерти правителя. В 16 (первоначально, возможно, их было 18) книгах Тацит рассказывает о величии и бедствиях времен династии Юлиев-Клавдиев, уделяя гораздо больше внимания бедствиям. Действие в «Анналах» начинается со смерти Августа и прихода к власти Тиберия в 14 году и постепенно, год за годом, переходит от Тиберия, Калигулы и Клавдия к Нерону. Структура «Анналов» с разбивкой по годам уже сама по себе является политическим заявлением. Тацит мог бы упорядочить свое повествование по правителям, но он предпочел ориентироваться на анналистику – древнеримскую историографическую форму, восходящую к приснопамятным временам республики. «Анналы» сохранились не полностью: после того как в конце 12-й книги Нерон восходит на престол, Тацит полностью посвящает ему книги с 13-й по 16-ю. В середине 16-й книги повествование прерывается. Таким образом, отсутствуют 66 (частично), 67 и 68 годы, когда Нерон встретил свой конец.
Многие источники, использованные Тацитом, принадлежат перу сенаторов, пострадавших при императорах, таких как Тиберий (14–37), Калигула (37–41) и не в последнюю очередь Нерон; почти все эти сенаторы исчезли во мраке истории, оставшись безымянными[21]. Однако благодаря книгам «Анналов», посвященным Нерону, известны три имени. Тацит называет Плиния Старшего (24–79) автором не только монументальной «Естественной истории» (Naturalis historia), но и исторического труда, написанного в 70-х годах и известного сегодня лишь по фрагментам. Различные отрывки из «Естественной истории» иллюстрируют невысокое мнение Плиния о Нероне. Как только возникает необходимость в устрашающем примере расточительства, мнимого благочестия или неримского образа жизни, Плиний находит подходящий эпизод из жизни Нерона. Верх его неприязни выражается в том, что Нерон назван «врагом рода человеческого» и «ядом для мира»[22].
Помимо Плиния Старшего, Тацит обращался к Марку Клувию Руфу и Фабию Рустику, историкам и современникам Нерона, которые, вероятно, были лично знакомы с Нероном и его стилем управления. Клувий Руф выходил в качестве конферансье во время сценических выступлений Нерона и в целом относился к императору вполне лояльно. Фабий Рустик получил представление о ситуации при дворе благодаря дружбе с прославленным философом Сенекой, который какое-то время был ближайшим советником Нерона. После того как Сенека покончил жизнь самоубийством по приказу Нерона, Фабий Рустик, талантливый стилист, которого Тацит даже сравнивал с почитаемым Ливием[23], больше не находил в императоре ничего хорошего. В какой-то момент Тацит также упоминает мемуары Агриппины, матери Нерона, в качестве источника[24].
Помимо этих литературных свидетельств, Тацит, как известно, обработал копии постановлений сената, хранившиеся в храме Сатурна на Римском форуме (Forum Romanum), а также acta senatus – протоколы заседаний сената, которые были подготовлены и сохранены в императорских архивах[25]. В принципе, Тацит интерпретировал имевшийся у него материал далеко не в самых мрачных тонах, когда ему попадались противоречивые суждения о Нероне. Например, когда возникает вопрос, от кого исходили сексуальные намеки, омрачающие картину отношений матери и сына – Нерона и Агриппины, после краткого разбора источников Тацит констатирует: скорее всего, от Агриппины[26]. Поэтому было бы неправильно рассматривать Тацита как предвзятого историка, который вцепился в Нерона по политическим мотивам с целью изложить воспоминания о нем в определенном ключе. Однако Тацит, как и многие историки, априори придерживался определенных взглядов на то, о чем писал, в том числе и на Нерона, которого он, несомненно, ненавидел и считал заурядным тираном.
Гай Светоний Транквилл родился примерно в 70 году, вскоре после смерти Нерона, вероятно, в крупном североафриканском торговом городе Гиппон в римской провинции Африка[27]. Он принадлежал к сословию всадников, или эквитов, – второму по значению социальному слою в империи после сенаторского сословия. Как и Тацит, он приехал в Рим, где в середине 80-х годов – во время правления Домициана – брал уроки риторики в образовательных целях. При Траяне (98–117) и прежде всего при Адриане (117–138) Светоний занимал высокие посты в императорской администрации. Какое-то время он руководил архивами и библиотеками столицы и несколько лет занимал важную должность ab epistulis – заведующего перепиской и главы императорской канцелярии. Таким образом, благодаря службе Светоний располагал множеством источников: это были официальные документы из государственных архивов, а также многочисленные письма с ходатайствами и просьбами, которые доходили до императоров и рассматривались в канцелярии. На основе этого материала Светоний написал свой главный труд, где почти канонически зафиксировал подражание литературному жанру, который до того времени едва ли был распространен в Риме, а именно биографическому[28]. Биография Нерона – одно из 12 жизнеописаний римских правителей – от Цезаря до Домициана, – написанное Светонием вскоре после 120 года[29].
В дополнение к различным письменным источникам Светоний также принимал во внимание и устные предания, часто неизвестного происхождения. В результате такого смешения появилась пестрая картина нравов, которая не претендует на историческую точность, не учитывает хронологию в принципе и вместо этого изобилует сплетнями, анекдотами и якобы значимыми деталями, иллюстрирующими особенности характера главных героев. Долгие дискуссии между императорами и сенаторами, полемика о форме правления и вопрос о смысле или бессмысленности монархии не были свойственны авторской манере Светония. Писателя интересовали личности его героев[30]. К моменту написания «Жизни двенадцати цезарей» о Нероне уже ходили всевозможные легенды, ставшие богатым материалом для создания Светонием жуткой и витиеватой биографии императора. О том, что из фигуры Нерона получилось извлечь немало пользы, свидетельствует и объем: биография Нерона значительно шире жизнеописания Клавдия, умершего в возрасте 63 лет, тогда как Нерон немного не дожил до 31 года.
Доказано, что Тацит и Светоний частично опирались на одни и те же источники, возможно, в своих биографиях Светоний даже использовал труды Тацита. Тем не менее работы этих двух авторов сильно различаются по структуре и замыслу. В отличие от Тацита, Светоний не считал себя историком. Он хотел развлекать, а не обязательно давать оценку. Однако Светоний не был полностью свободен от политических взглядов[31]. Он создавал свои жизнеописания для аристократической публики и, будучи представителем всаднического сословия, столкнулся с проблемой Нерона, который, по свидетельствам многих современников, из-за своих публичных развлечений и выступлений на сцене без нужды водился с низшими слоями населения столицы. Кроме того, Светонию покровительствовал Плиний Младший, племянник Плиния Старшего (уже упомянутого автора «Естественной истории»). Мир интеллектуалов в Риме был невелик, и аристократические круги держались обособленно – трудно представить, чтобы в такой среде Светоний мог сформировать благожелательную по отношению к Нерону позицию, революционную по меркам того времени.
Луций Кассий Дион – третий автор, благодаря которому сохранились более подробные предания о Нероне и его времени. Его труд «Римская история» на греческом языке (Rhomaike historía) был написан около 200 года, примерно через 130 лет после смерти Нерона. Кассий Дион родился в семье римского сенатора в вифинской Никее в современной турецкой провинции Бурса и получил соответствующее образование, что привело его сперва в великие интеллектуальные центры греческого мира, а затем в Рим и Италию, где он начал успешную сенаторскую карьеру[32].
Его исторический труд, выполненный в анналистической манере, охватывает почти 1000 лет римской истории – от первых царей до времени Северов[33], конкретно – до 229 года. Подобно Тациту, Кассий Дион последовательно придерживается сенаторской точки зрения. Хотя Кассий Дион происходил из Малой Азии и имел провинциальные греческие корни, по собственному мнению, он в неменьшей степени принадлежал к римско-италийской элите.
Взгляды Кассия Диона на культурные и политические условия исследуемого периода, например на условия жизни при императорских дворах Юлиев-Клавдиев, в значительной степени определяются его временем, то есть началом III века. Под конец его «Римская история» насчитывала 80 книг, из которых полностью сохранились только 25. Книг LXI–LXIII, посвященных правлению Нерона, среди них нет. Тем не менее их содержание удается более-менее сносно реконструировать, поскольку труд Кассия Диона был буквально разобран по кусочкам и охотно использовался в обширных мировых хрониках XI и XII веков[34]. Пересказы, вышедшие из-под пера византийских писателей, в том числе Иоанна Зонары и Иоанна Ксифилина, говорят, что Кассий Дион, видимо, относился к Нерону куда более враждебно, чем Тацит и Светоний[35]. Красной нитью в труде Кассия Диона проходят поиски идеального монарха[36]. В Нероне он его не видел. Не будет преувеличением сказать, что для Кассия Диона Нерон вообще был худшим императором из всех[37]. Свое отношение к Нерону он выражает устами дочери британского вождя, Боудикки[38], которая возглавила восстание против римлян в 61 году. По ее словам, хоть Нерон и носил мужское имя, его пение, игра на лире и макияж свидетельствовали о том, что на самом деле он женщина. Именно так она его и называет: Нерония-Домиция[39].
Во многих местах первоначальный смысл глав о Нероне можно выявить лишь частично: к тому времени, когда Зонара и Ксифилин создавали свои пересказы, уже давно официально считалось, что Нерон приказал начать первые в истории преследования христиан. Трудно представить, чтобы это обстоятельство не отразилось на переложении времен христианского Средневековья, которое сегодня является для нас единственной возможностью ознакомиться с книгами Кассия Диона, посвященными Нерону. Кассий Дион не может сравниться с Тацитом ни методологически, ни стилистически. Однако отрывки из его «Римской истории» все же завершают историю Нерона, заполняя пробел между 66 и 68 годами, присутствующий в сочинении Тацита.
Свет и тень
Подведем итог: мрачный образ последнего императора из династии Юлиев-Клавдиев сформировали три более или менее обстоятельных исторических и биографических текста, каждый из которых был написан уже после смерти Нерона и с определенными целями, а потому крайне однобок в отношении расставленных в нем акцентов. К этому следует добавить множество нравоучительных заметок, случайных упоминаний и анекдотических эпизодов, принадлежащих разным писателям, историкам и биографам, вплоть до периода поздней Античности, которые обычно придерживались тона, аналогичного тону Тацита, Светония и Кассия Диона, и часто ссылались на них.
Вот несколько примеров: для императора-философа Марка Аврелия (161–180) Нерон был не более чем противоестественным образцом импульсивности, андрогином, возбуждаемым инстинктивно, как дикое животное[40]. «Хронограф 354 года» подчеркивает тему упадка: при дворе Нерона жил обжора из Александрии, который, помимо прочего, съел живую курицу вместе с перьями, 100 яиц, гвозди для обуви, четыре скатерти и тюк сена, но при этом остался голодным. Более подробная информация в хронике, предназначенной для описания правления Нерона, отсутствует[41]. Историк Евтропий констатирует, что к концу IV века он уже мало что мог вспомнить о Нероне, кроме парфюмерных ванн (холодных и теплых), позорных выступлений на сцене и беспрецедентных военных неудач[42]. Орозий, христианский автор начала V века, в нескольких абзацах резюмирует правление Нерона как сплошное масштабное бедствие. Император убил мать, брата, сестру, жену и вообще всех своих родственников[43].
Список можно легко дополнить. Без сомнения, бо́льшая часть античных авторов считала Нерона образцом тирана, негодяем и извергом, и это убеждение, безусловно, возникло не на пустом месте. Нет оснований полагать, что образ Нерона в античной историографии являлся лишь фальсификацией. Многие преступления и другие деяния, приписываемые Нерону, абсолютно достоверны.
Иосиф Флавий, современник Нерона, описавший, в частности, Иудейскую войну 66–70 годов, полагает, что предвзятое отношение к Нерону существовало и в его время, но были и прямо противоположные мнения. Это наводит на размышления. Действительно, Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» упоминает, что некоторые историки положительно отзывались о Нероне. Мы не знаем ни одного из них, даже их трудов. Иосиф Флавий предполагает, что, возможно, они были приближенными императора. С другой стороны, по словам Иосифа Флавия, были историки, которые по разным причинам ненавидели Нерона, поэтому дали ему столь негативные характеристики. Иосиф Флавий даже не думает принимать сторону этих историков: те, кто осуждал Нерона, были бы так же далеки от истины и при его предшественниках и так же плохо относились к ним, хотя написали о них гораздо позже[44]. Это обстоятельство подчеркивает узкие места в оценках Нерона и других императоров, таких как Тиберий, Калигула и Клавдий: приверженцы и недруги боролись за то, кто возьмет верх в своих оценках этих деятелей; в случае с Нероном недруги оказались более убедительными – как в своих сочинениях, так и в реальной жизни. В истории проигравшие почти никогда не оставляют воспоминаний, не формируют образов и ракурсов исторической памяти.
Взвешенные или даже позитивные мнения о Нероне со времен Античности встречаются крайне редко. В стихах поэта Тита Кальпурния Сицилийского Нерон отождествляется с Аполлоном и Марсом, даже с Юпитером, его встречают как мессию[45]. В написанных на заре правления Нерона стихах преобладает чувство облегчения в связи с началом нового царствования после смерти ненавистного императора Клавдия. То же самое относится и к Carmina Einsidlensia, сохранившимся в виде фрагментов пасторальных поэм времен Нерона, которые воспевают в гимнах молодого правителя[46]. Восторженное изображение Нерона в образе Аполлона в сатире Сенеки «Отыквление божественного Клавдия» (Apocolocyntosis), написанной в 54 году, тоже, так сказать, вписывается в интересы идеологии, требующей обособить Нерона от его предшественника Клавдия, фактического – и радикально очерненного – главного героя этого произведения[47]. Наконец, так называемая «Латинская Илиада», переложение «Илиады» Гомера, – еще один пример того, как Нерон предстает в качестве миротворца и талантливого сочинителя. Согласно последним исследованиям, сочинение датируется периодом между 60 и 65 годами[48]. На удивление, это довольно позднее время: Нерон уже убил мать и, возможно, прославился как предполагаемый поджигатель Рима.
Со смертью Нерона доброжелательные тона почти полностью исчезают. Хотя первые годы его правления часто отмечаются как благополучные, например у Светония, таким образом композиционно лишь усиливается контраст с годами тиранического правления, начало которого большинство античных авторов связывают с убийством Агриппины в 59 году. И все же очень сдержанно – в одном отрывке – высказывается, например, Плутарх (ок. 45 – 130 гг.), который проводит политическую параллель с «поздним» Нероном в биографии республиканского полководца Тита Квинкция Фламинина[49]. Плутарх не поет императору дифирамбов, но этот отрывок стоит особняком по сравнению с другими преданиями исключительно потому, что упоминание о Нероне «всего лишь» нейтрально. Образ Нерона, созданный Плутархом, не отличается последовательностью, о чем свидетельствует его лапидарное замечание в конце жизнеописания Антония о том, что Нерон своим безумием едва не довел империю до краха[50]. Но биограф все же позволяет себе несколько более трезвый взгляд на Нерона, чем римские авторы. Причина: Плутарх был греком, а в Греции люди вполне положительно оценивали правление Нерона. Многие из его предпочтений, которые такие авторы, как Тацит или Светоний, считали антиримскими и поэтому отвергали, коренились в культурных традициях греческого Востока.
Однако в отношении памяти о Нероне решающим фактором оказалось не сочувствие многих жителей Греции, а то, что вышло из-под пера историков. Исходя из этой древней традиции, образ Нерона утонул в неприятии и ненависти.
Нерон и христианская традиция
В итоге оказалось, что наиболее влиятельным течением в восприятии Нерона стало христианское[51]. Отправной точкой является рассказ Тацита о пожаре Рима в 64 году и о последующих событиях. Почти вскользь и без особого участия в судьбе секты Chrestiani, которую он также считает весьма подозрительной, Тацит упоминает, что Нерон искал виновных после великого пожара, дабы отвлечь внимание граждан от подозрений в том, что он сам виноват в катастрофе. В результате в Риме впервые начались организованные гонения на последователей Христа, которые затем привели к особо жестоким казням. Рассказ Тацита вызывает вопросы по многим причинам, например в отношении масштабов событий и сохранившихся деталей, а также в отношении связи между преследованием христиан и великим пожаром[52].
Образ Нерона – гонителя христиан тем не менее стал каноническим. В своих трудах «К язычникам» (Ad nationes) и «Апологетик» (Apologeticum), написанных около 197/198 года, отец Церкви Тертуллиан охарактеризовал Нерона как первого гонителя (persecutor) и палача (damnator) христиан[53]. Между тем не только апологеты II–III веков отметили ужасную деталь, которая еще больше омрачила образ Нерона: согласно преданию, известному с середины II века, в результате действий Нерона в Риме также были замучены апостолы Петр и Павел. Начиная примерно с 200 года можно было посетить их предполагаемые захоронения на Ватиканском холме и недалеко от Остийской дороги, тем самым неуклонно перенося память о тирании Нерона в раннехристианское настоящее.
В период с III по V век – смутные для христиан времена – Нерон появляется в многочисленных апокалиптических писаниях, в которых его возвращение, зачастую в качестве самого антихриста или его предвестника, связано с днем Страшного суда. За этим стоят легенды, которые начали распространяться вскоре после смерти Нерона, о том, что злой император вовсе не умер, а отправился на восток, где ждет своего пробуждения, чтобы снова занять трон. Долгоиграющая легенда о Nero redivivus, несомненно, укрепилась благодаря появлению как минимум двух Лже-Неронов[54], при которых вскоре после смерти Нерона жить в Греции стало небезопасно[55].
Викторин, епископ Петавии, города на территории современной Словении, автор старейшего из сохранившихся библейских комментариев на латыни, выдвинул в конце III века убедительный тезис о том, что Нерон отождествляется с Величайшим Зверем в Откровении Иоанна Богослова. В тексте есть загадочная фраза о том, что число этого Зверя есть число человека и оно равно 666[56]. В самом деле, сумма числовых значений еврейских букв в имени Neron Kesar (Нерон Кесарь) дает число 666. Тот факт, что такая игра с числами работает и с другими именами, мало помог памяти Нерона. Первый император, от которого христиане пострадали как от чудовища и антихриста, уже упомянут в Книге Книг! Многим экзегетам такая возможность казалась слишком заманчивой, чтобы не быть правдой.
Монстр набирает обороты
Нерон остался в античной традиции бессмертным чудовищем, которое проложило себе путь сквозь века. Облаченный в одежды то ли тирана, то ли убийцы родных, то ли антихриста, он разросся до исполинских размеров, стал легендой и в какой-то момент даже забеременел, как в упомянутой выше «Императорской хронике». При этом исторический Нерон уменьшился до едва заметных размеров[57].
В Средневековье не было ни единого высказывания о Нероне, за которым не просвечивал бы образ mala bestia[58][59]. В «Императорской хронике» также трудно разделить образ Нерона-тирана и Нерона-матереубийцы, с одной стороны, и образ Нерона-антихриста – с другой. Все слилось воедино. В средневековых спорах между императорами с одной стороны и папами и князьями с другой, многие императоры именовались Неронами – например, ходивший в Каноссу Генрих IV, а также Фридрих II из-за его антипапской политики[60]. Обвинение звучало так: если вспомнить Нерона, вся концепция translatio imperii, то есть передачи древней императорской власти в руки правителя Священной Римской империи (германской нации)[61], внезапно оказывалась скомпрометированной[62]. Никто из императоров не хотел оставаться в русле традиции, восходящей к Нерону.
Политические мыслители эпохи Возрождения впервые отошли от преимущественно христианской точки зрения в отношении Нерона. Кабинетные ученые во Флоренции, Павии и Риме были заняты размышлениями о достоинствах правителя, задачах государя и идеальном государственном устройстве. Даже под таким углом зрения с Нероном было достаточно точек соприкосновения, поскольку тема тирана уже стала центральной в трудах Тацита. В конечном счете примерно через 1500 лет после смерти у Нерона появился первый защитник – гуманист Джероламо Кардано. Это как если бы политик, за которым в наши дни закрепилась дурная слава, впервые получил положительную оценку в прессе примерно в 3500 году от Рождества Христова. Однако в «Восхвалении Нерона» (Encomium Neronis) 1562 года Кардано стилизует Нерона под идеального императора. По его мнению, даже совершенные Нероном многочисленные убийства были политически продуманными и по большому счету совершались в целях самозащиты[63].
Такая реабилитация осталась исключением. Как правило, люди эпохи Возрождения также не видели причин любить Нерона. Однако по крайней мере заметна смена парадигмы: Нерон раннего Нового времени в большей степени тиран и в меньшей – гонитель христиан. Это оказалось полезным и для дискредитации политических оппонентов, для чего были задействованы самые выразительные лингвистические средства: в трактате 1651 года великий Джон Мильтон называет своего пожизненного противника, английского короля Карла I, Nerone Neronior[64] – таким образом, Карл был для него в большей степени Нероном, чем сам Нерон. Мильтон даже не был первым, кто применил этот смелый неологизм – прилагательное, образованное от имени Нерон, в сравнительной степени[65].
В XVII веке Нерон был широко представлен в литературе и искусстве, его образ стал популярным и распространился довольно широко. В таких вычурных драмах, как «Нерон. Новая трагедия» (Nero. A New Tragedy) Мэтью Гвинна (1603), император выходит на театральные подмостки. Сюжетная линия этих пьес позаимствована в основном из анекдотического арсенала Светония и произведений Тацита. Те, кто мог себе это позволить, лицезрели Нерона и в опере: Клаудио Монтеверди в «Коронации Поппеи» (L’incoronazione di Poppea) 1642 года представил на сцене императора, опьяненного любовью, заключительный дуэт которого с супругой Поппеей, должно быть, произвел на публику того времени совершенно шокирующее впечатление: неужели бесчеловечный Нерон был способен на любовь? В 1705 году Георг Фридрих Гендель поставил своего «Нерона» на сцене Гамбургского оперного театра, но с минимальным успехом. Четыре года спустя в Венеции Гендель поставил «Агриппину». Итальянская публика бурлила от восторга, горланя caro Sassone[66], как сообщает современник[67]. «Агриппина» до сих пор считается самой выдающейся оперой Генделя. Конечно, либретто Винченцо Гримани добивает остатки историзма: в качестве примера достаточно сцены в конце третьего акта, где Клавдий объявляет о свадьбе Нерона с Поппеей Сабиной. С исторической точки зрения этого никак не могло быть.
Визуальной составляющей занялись художники эпохи барокко. На картине Антонио Молинари «Нерон над телом своей матери Агриппины», написанной примерно в 1680 году, Нерон в изумлении смотрит на полураздетую мать, только что убитую его приспешниками[68]. Так отчетливо считываются обвинения в инцесте, которые упорно преследовали Нерона еще в античные времена (рис. 1).
Рис. 1. «Нерон над телом своей матери Агриппины». Говорят, сразу после убийства Агриппины своими приспешниками Нерон поспешил взглянуть на обнаженную мать. Для большинства античных авторов инцест между матерью и сыном был чем-то очевидным. Антонио Молинари, 1675–1680 гг.
В конце XVIII и в течение XIX века рецепция Нерона вступила в период эстетизации. Предполагаемая приверженность Нерона дионисизму, декадансу и безусловному артистизму сделала его прототипом и объектом повышенного внимания для маркиза де Сада, а также для таких поэтов, как Август фон Платен или Гюстав Флобер. Ориентиры при этом оставались неизменными: Нерон по-прежнему был поющим поджигателем, только теперь это было переосмыслено с эстетической точки зрения[69]. Примерно в то же время Нерон стал гостем в домах буржуазии. С конца XVIII века исторические романы появлялись как грибы после дождя. Одновременно с отвращением и с очарованием читатели погрузились в эпоху вырождения Римской империи, которую, казалось, идеально представлял такой персонаж, как Нерон. Основываясь на исключительно однобоком образе Нерона, такие произведения, как «Актея» (1839) Александра Дюма или «Камо грядеши» (1895) Генрика Сенкевича, меняли свои сюжеты, отклонялись в сторону и расставляли акценты.
Тема Сенкевича – преследования ранних христиан. В этом случае образ Нерона не был переосмыслен. Он оставался в рамках проверенного временем образа гонителя христиан, поджигателя и тирана. Он не в центре сюжета, но двигает его как подземный поток. «Камо грядеши» Сенкевича считается безусловной литературной классикой, посвященной Нерону и его эпохе[70]. Роман сформировал представления о Риме времен Нерона как минимум для одного поколения и стал кульминацией настоящей нерономании в Польше XIX века[71]. Генрих Семирадский, хороший знакомый Сенкевича, писал картины ему под стать. Еще в 1876 году, написав «Факелы Нерона», он создал шедевр, чья притягательность проистекает именно из того факта, что Нерона на полотне сначала нужно найти. На втором плане картины император, словно затаившийся дикий зверь, выжидая, почти со скукой взирает из праздной толпы на христиан, облитых смолой и обвязанных соломой, пока рабы разжигают костры, чтобы привести в исполнение смертный приговор (рис. 2). В основе этой сцены, несомненно, лежит повествование Тацита[72].
Рис. 2. «Светочи христианства (Факелы Нерона)». Вечная тема: Нерон и христиане. Император возлежит в паланкине и держит на поводке тигра. Его жертв ожидает смерть в огне. Генрих Семирадский, 1876 г.
Всемирные исторические потрясения XX века с его большими и малыми автократами, а также культурные и социальные дискуссии привели к тому, что интерес к Нерону снова возрос. Проявившаяся еще в XIX веке тенденция, придававшая императору и отдельным аспектам его поведения четкие современные коннотации, решающим образом усилилась. По приблизительным оценкам, романы о нем выходили в среднем каждые пять лет. Нерон время от времени покорял все новые вершины. Он явно перестал вселять ужас, тем более что императив христианского взгляда на вещи окончательно ушел в прошлое.
В 1922 году венгерский писатель Дежё Костоланьи в романе «Нерон, кровавый поэт» создал психограмму деспота-артиста, тирания которого стала результатом роковой смеси зависимости от признания как деятеля искусств и фактического всевластия императора. У Костоланьи столкновение искусства и жизни в итоге приводит к падению совершенно подавленного Нерона.
Главный герой романа Лиона Фейхтвангера «Лже-Нерон» (1936) – Теренций Максим, один из самозванцев, которые появились на востоке империи после смерти Нерона[73]. Персонаж сатирического романа Фейхтвангера, с одной стороны, является копией Нерона, что в некотором смысле соответствует исторической реальности, с другой стороны, в нем есть очевидные отсылки к Адольфу Гитлеру. Роман повествует о восхождении к власти психопата, который пользуется огромной поддержкой населения и почитается за далекоидущие политические замыслы на востоке империи. Этот образ отражает исторически подтвержденный факт, что Нерон был одним из самых популярных императоров в восточных провинциях Римской империи. По сравнению с другими литературными воплощениями образа Нерона версия Фейхтвангера выглядит почти ревизионистской.
После Второй мировой войны Нерон, потерпевший фиаско, все чаще оказывается в центре внимания: Нерон как случайный человек во власти, как художник в состоянии поиска, подвластный эмоциям и в целом слабый, который в конце концов терпит поражение в суровых реалиях управления Римской империей. Миф о нем приобретает дополнительный психологизирующий аспект, и это окончательно подчеркивает, что «Нерон» стал проекцией, которая может быть и хорошей, и плохой.
Вывод банальный, но он говорит о многом: на протяжении веков характеристика Нерона практически всегда формировалась из того, как на него смотрели со стороны. Первоначальный объект интереса был искажен этими взглядами до неузнаваемости. Сегодня Нерон – это бренд. С лета 2020 года сети супермаркетов в Германии стали продавать уголь для гриля, носящий его имя. Есть и соответствующий интернет-магазин, где любители барбекю любого класса могут найти все, что им нужно, даже органическую продукцию[74]. Сам Нерон не имеет к этому никакого отношения.
Настоящая книга является научно-популярной, основанной на максимально полном рассмотрении как античных источников, так и современных исследований, посвященных Нерону, – все это, как и полагается, представлено в разделе с примечаниями. Однако начиная с главы «Рождение и детство» представление расширяется: каждой главе предшествует развернутое вступление. Центральное место занимают сцены из жизни Нерона, ключевые события, об историчности которых мы имеем лишь самое общее представление, поскольку лишены возможности прибегнуть к детальным античным описаниям. Рождение Нерона в декабрьскую ночь 37 года – как раз такой случай: несмотря на почти полное отсутствие сведений, даже самые большие скептики не будут отрицать, что это событие наверняка произошло. Другие примеры включают смерть Клавдия в октябре 54 года, церемониальное жертвоприношение в честь дня рождения императора в декабре 62-го и допрос подозреваемого в заговоре против Нерона в апреле 65-го. В последнем случае главную роль исполняет палач, и точно так же, как в главе «Общая радикализация», в других сценарных эпизодах на передний план выходят свои главные герои и героини.
История рождения Нерона – хороший пример для понимания самого процесса появления ребенка на свет: благодаря трудам врача Сорана Эфесского, который работал в Риме в конце I – начале II века, мы имеем неплохое представление об акушерской помощи в Римской империи. Соран, будучи авторитетом в этой области, исписал целые свитки папируса, полные указаний обо всем, что надлежит учитывать при родах. Он распределяет обязанности присутствующих, подробно описывает, какие медицинские инструменты и домашние средства следует использовать, и уделяет приоритетное внимание акушерке как главной фигуре после будущей матери. Таким образом, мы вполне можем представить, как именно протекали роды в богатой римской семье. Вкупе с немногочисленной сохранившейся информацией о месте, времени и особенностях рождения Нерона этот процесс можно описать с определенной степенью правдоподобности.
Такой подход аналогичен подходу куратора выставки, который пытается осветить более широкую тему с помощью отдельных объектов. Речь идет об иллюстрациях и о том, чтобы придать миру Нерона некое обыденное звучание, а также о том, чтобы показать, как можно овладеть историческим знанием с помощью аутентичных источников. По этой причине к каждому развернутому вступлению к главе прилагаются довольно обширные примечания в конце книги. В них подробно задокументирована информация, изложенная в тексте.
Но сначала речь пойдет о мире Нерона, о сцене, по которой дефилировал император. По сути, ее подготовил Август, прапрадед Нерона, и разобраться в ее декорациях оказалось довольно сложно для преемников первого римского императора.
Мир Нерона
Рим и Римская империя в I веке
Пролог
Это было второе самоубийство в царском дворце Александрии за последние несколько дней. Вероятно, орудием суицида послужила египетская кобра – священное животное Амона Ра, а возможно, и обычная ядовитая змея[75]. Египетская царица Клеопатра VII, последняя правительница из династии Птолемеев, умерла. Незадолго до этого ее возлюбленный Марк Антоний покончил с собой способом, достойным полководца, – ударом меча в нижнюю часть живота. Поначалу это не дало должного эффекта. Жизненные силы Антония вновь ненадолго вернулись к нему после известия о том, что Клеопатра, которую считали мертвой, все еще жива[76]. Антоний был римлянином, а не египтянином, но римлянином, который одевался как египтянин и вел себя так же. По крайней мере, так утверждал противник Антония, молодой человек довольно слабого телосложения, но с гораздо более сильной волей, который стоял теперь у ворот дворца с огромной армией. Октавиан, как его теперь называют, годом ранее нанес сокрушительное поражение Антонию и Клеопатре в битве при Акции у западного побережья Греции и осадил побежденных в Александрии. Он хладнокровно принял известие о смерти знаменитой пары. Конечно, было бы неплохо провести Клеопатру в триумфальном шествии по Риму, но теперь ничего не поделаешь. Забот и так хватало. Октавиан отложил меч и приступил к политической рутине.
Конец
После смерти Антония и Клеопатры в 30 году до н. э. Октавиан, которому было почти 33 года, занял фактически недосягаемую позицию на олимпе власти. Он командовал огромной армией, и жители Рима и Италии, от которых на тот момент многое зависело, измученные длинной цепью гражданских войн, жаждали мира и порядка. Октавиан вышел на сцену последним. В поле зрения не было никого, кто мог бы или хотел его оттуда изгнать.
Последний век до нашей эры сформировали великие имена, иногда великие дела, но редко великие идеи, невольно обнажив структурные недостатки Римской республики[77]. Тиберий и Гай Гракхи, Гай Марий, Луций Корнелий Сулла, Марк Лициний Красс, Гней Помпей Великий, Гай Юлий Цезарь, совсем недавно Марк Антоний: то, что одни из самых выдающихся деятелей римской истории выступали на политической сцене в относительно короткий промежуток времени, составляющий всего около 100 лет, было не случайностью, а симптомом кризиса. Появление отдельных амбициозных фигур, стремившихся выделиться из массы сенатской аристократии, никак не было предусмотрено конституцией Римской республики.
Несколько шагов назад: свергнув последнего царя примерно в 500 году до н. э.[78], предки создали такой государственный строй, в котором особое внимание уделялось тому, чтобы ни один человек больше никогда не имел права на постоянную и неограниченную власть над Римом. Этой цели должны были служить особые правила: отставка двух высших должностных лиц, гражданских и военных, а именно консулов[79], по истечении года, право плебейских трибунов налагать вето на действия коллег[80], длительные процессы принятия политических решений и контроля за их исполнением, где совет знати – сенат – занимал центральное место, однако последнее слово оставалось за гражданами, участвовавшими в голосовании в соответствии со своим финансовым положением[81]. Такая смешанная система вызывала большое восхищение у современников, например у жившего в то время греческого историка Полибия[82]. Несомненно, конституция Римской республики, никогда не закреплявшаяся в письменной форме, была в известном смысле странной: ни монархия, ни аристократия, ни демократия – и при этом все сразу[83]. На редкость разумный политический строй для города-государства[84].
Однако к середине III века до н. э. латинский город Рим перерос относительно небольшие области Италии, оставив позади зеленые долины и склоны Апеннин. Он больше не сравнивал себя с небольшими италийскими народностями, такими как вольски и самниты, а мерился силами с великими державами карфагенян и македонцев. Уже в конце III века до н. э. римляне безраздельно господствовали в бассейне Западного Средиземноморья. Карфагеняне потерпели поражение в двух крупных войнах[85]; Сардиния, Корсика, Сицилия и наиболее богатые области Испании стали римскими провинциями. Уже в середине II века до н. э. у римлян не осталось никаких серьезных противников. Карфаген был стерт с лица земли в 146 году до н. э., север Балканского полуострова полностью завоеван и превращен в провинцию Македония. Чуть позже внимание римлян переключилось на Малую Азию, где были созданы еще три римские провинции[86]. Ровно за 100 лет до рождения Нерона Помпей присоединил к Римской империи Сирию и Левант[87], а несколькими годами позже Юлий Цезарь – огромную территорию Галлии[88].
Достижение мирового господства не обошлось без последствий ни для завоеванных регионов, ни для самого Рима. Римляне владели разнообразными территориями, которыми они интересовались и управляли в первую очередь с точки зрения их полезности для Рима. Десятки тысяч рабов сгинули на испанских рудниках, вынужденные добывать медь и свинец, серебро и золото для столицы мировой империи[89]. Никакой заботы об отдаленных территориях не было и в помине. Нередко присланные сенатом наместники со своей свитой, как волки, нападали на земли, которые, согласно конституционным принципам, были вверены их попечению лишь на какое-то время[90]. Это было справедливо и в отношении некоторых военачальников, которые понимали свои военные полномочия несколько шире, чем следовало, и топили в крови целые области, чтобы в скором времени вернуться в свои италийские поместья в сопровождении запряженных волами возов, набитых награбленным добром[91].
Для внутриполитической стабильности в Риме такое развитие событий оказалось крайне неблагоприятным. В сенаторской среде сложившаяся ситуация способствовала соперничеству и внутрисословной борьбе. В то время как высший класс купался в богатстве и роскоши, большинство римских граждан получали лишь минимальную выгоду. В частности, сельское население испытывало острую нужду. Попытки аграрной реформы, предпринятые аристократами Тиберием и Гаем Гракхами в 133 году до н. э., также ничего не изменили[92]. Мелкие крестьянские хозяйства в сельской местности вытеснило крупное сенаторское землевладение, и вскоре вся Италия, как лоскутное одеяло, была покрыта латифундиями, где работало бесчисленное количество рабов, привезенных в Италию в качестве военнопленных или проданных за долги.
Тысячи разорившихся крестьян, инвалиды войны и прочие обездоленные стекались в Рим в поисках заработка. В I веке до н. э. социальные низы римского гражданского коллектива стали влиятельной политической силой после того, как отдельные политики осознали потенциальные возможности мобилизации масс для достижения своих личных целей (с позиции плебейского трибуна, минуя сенат). Так начала рушиться конституция Римской республики.
Когда некоторые аристократы поняли, что могут принимать политические решения даже без согласия коллег, в результате продуманной, но разрушительной по последствиям реформы военной организации, началась новая и уже необратимая эскалация[93]. Армии поздней республики больше не были ополчениями, набранными из числа римских граждан, которых призывали к оружию в случае необходимости и в зависимости от имущественного положения отдельных лиц, чтобы после окончания войны они могли вернуться к плугу или ремеслу. Отныне снаряжение новобранцев финансировалось государством, так что gladius и pilum, меч и копье, сделались доступными для пролетариев и добровольцев. Ввиду того что военные кампании становились все более продолжительными, римские полководцы в I веке до н. э. достигли доселе невиданного уровня власти, и обуздать их государству было все труднее. Марий и Сулла и особенно Помпей и Цезарь в течение многих лет командовали огромными армиями. Солдаты были жертвами тяжелых обстоятельств и находили заработок и смысл существования в армии, поэтому они связывали свою жизнь и смерть с соответствующим полководцем, который содержал их даже после демобилизации[94]. Отныне верность военной присяге не ограничивалась рубежами провинций, решением сената и берегами Рубикона – реки, отделявшей демилитаризованную римскую гражданскую территорию в Италии от провинции Цизальпинская Галлия.
Переход легионами Цезаря, закаленными в боях и привыкшими к ним после завоевания Галлии, через эту неприметную речушку в Северной Италии в январе 49 года до н. э. ознаменовал решающий этап в падении республики. Цезарь одним махом оккупировал Италию, победил своих противников из числа сенатской аристократии, Гнея Помпея Магна и Катона Младшего в Греции и Северной Африке[95] и в конце 45 года до н. э. провозгласил себя пожизненным диктатором[96]. В отсутствие писаной конституции Цезарь добился особого положения во власти, фактически став монархом[97]. За несколько месяцев единоличного правления Цезарь смог продемонстрировать все, на что была способна государственная власть, не связанная по рукам и ногам республиканской системой «сдержек и противовесов». Однако часть лишенной власти сенатской аристократии наблюдала за каждым его шагом с подозрением и непримиримой ненавистью. Для этих людей Цезарь был не кем иным, как изменником, врагом республики номер один. В мартовские иды 44 года до н. э. Цезарь был заколот примерно 60 заговорщиками[98].
Однако обстоятельства не позволили повернуть историю вспять: Марк Антоний, правая рука Цезаря[99], перехватил инициативу уже через несколько часов после убийства диктатора. Для солдат Цезаря слово Антония имело наибольший вес. Заговорщикам уже казалось, что, устранив Цезаря, они лишь освободили место для Антония, который держал в своих руках военную власть. Антоний был героем дня, пока не произошло нечто удивительное: откуда ни возьмись появился 19-летний юноша, внучатый племянник Цезаря[100], а ко всему еще и его приемный сын, о чем диктатор распорядился в своем завещании. Мальчика звали Октавиан, и он был готов принять наследство приемного отца. В одночасье Октавиан получил в распоряжение три четверти огромного состояния Цезаря, а также, что еще важнее, сторонников Цезаря в народе и признание со стороны его ветеранов.
Изначально настроенный крайне прагматично, в союзе с Антонием[101] Октавиан в кратчайшие сроки истребил противников своего приемного отца. Над старой республиканской элитой состоялся небывалый кровавый суд. В этой буре Цицерон потерял голову и руки, которые послужили его убийцам вещественными доказательствами их злодеяния[102]. В общей сложности тогда погибло около 300 сенаторов и до 2000 всадников: возможно, они отказались признать власть победителей либо их устранение было вызвано излишней алчностью. С 42 года до н. э. возврат к старому порядку был невозможен, а кровопролитие в рядах сенатской аристократии стало слишком драматичным. Антоний и Октавиан расторгли свой тактический союз. В империи, разделенной на Восток и Запад, они заняли позиции для решающей битвы. Антоний много лет жил в Египте и завоевал сердце и ум Клеопатры. Октавиан тем временем завоевал сердца и умы италийцев, которые отчаянно нуждались в тишине и покое после пережитых ужасов. Морское сражение при Акции 2 сентября 31 года до н. э. стало концом Антония. И года не пройдет, как он покончит с собой в александрийском дворце. Октавиан оказался последней фигурой на доске.
Спустя три года после событий в Александрии, в 27 году до н. э., от жестокого палача, прошедшего на пути к власти по бесчисленным трупам, не осталось и следа. Октавиан принял почетное имя Август и «основал» Римскую империю. Примерно за 40 лет своего правления он заложил мощный фундамент государственного устройства, существовавшего на протяжении нескольких веков. Основы римской имперской системы во времена Нерона восходили почти исключительно к Августу, его прапрадеду[103].
Начало
Установление единоличного правления в Риме было сопряжено с определенными трудностями – в сущности, оно было нереально. Октавиан, несмотря на свою беспрецедентную власть, прекрасно это понимал. Хотя старые республиканские элиты подверглись либо уничтожению, либо приручению, монархия не была подходящим вариантом для Рима, где правление царя с того момента, как был изгнан последний rex[104], то есть на протяжении почти 500 лет, пользовалось репутацией тирании – наихудшего политического устройства в истории. С другой стороны, к республиканской повестке тоже нельзя было возвращаться. Короткие нити, за которые дергал сенат, руководя магистратами как в мирное, так и в военное время, давно порвались. Существующие структуры десятилетиями работали не так, как предполагалось, кроме того, они оказались непригодными для решения проблем, с которыми столкнулась мировая империя. И самое главное: что делать с самим Октавианом, чье особое положение невозможно даже приблизительно описать с помощью республиканской лексики[105]? В какой-то момент приказам Октавиана подчинялись более 60 легионов! Для сравнения: Цезарь с 10 легионами захватил Галлию и одержал победу в гражданской войне.
К этому добавились финансы. В эпоху поздней республики некоторые сенаторы смогли накопить значительные состояния, нередко за счет своих собратьев, завоеваний за границей и экспроприаций в Италии. Однако по сравнению с финансовыми возможностями Октавиана даже легендарные богачи, такие как Помпей или Красс[106], выглядели как школьники с карманными деньгами. Помимо огромного наследства, оставленного Цезарем, этому способствовала прежде всего победа над Клеопатрой. Октавиан решил, что управление бывшим царством Птолемеев, которое он включил в состав Римской империи, должно осуществляться не сенатом, а лично им. Таким образом, Октавиан получил прямой доступ к царским сокровищам Египта и доходам богатой страны.
Огромное состояние позволило Октавиану легко вознаграждать приверженцев, солдат и друзей, убеждать скептиков в своих добрых намерениях и требовать чего-то взамен – например, лояльности. Однако наряду с этим особое положение Октавиана имело и другой аспект: его солдаты, ресурсы, связи и сторонники уже в значительной степени обеспечивали функционирование разрушенной республиканской системы, особенно в провинциях. Таким образом, без Октавиана невозможно было воссоздать римскую государственность. В сочетании с повсеместным стремлением к миру и традиционными «конституционными» взглядами в Риме начиная с 27 года до н. э. оформилась новая модель государственного устройства – принципат.
Торжественный государственный акт в январе 27 года до н. э.[107] ознаменовал рождение нового государства. Октавиан отказался от командования оставшимися 28 легионами, власти над провинциями и всех особых полномочий, которые он аккумулировал за последние 15 лет, и передал их сенату и народу. Теперь он формально стал рядовым гражданином, но только на несколько мгновений. Из толпы сенаторов уже раздались сначала разрозненные, а потом и все более громкие призывы: управление res publica может остаться в руках сына Цезаря, от ресурсов которого государство и так уже всецело зависело. Кассий Дион описывает хорошо продуманную постановку без какого-либо риска провала, и Октавиана не нужно было просить дважды[108]. Было решено, что он и в 27 году до н. э. займет один из двух консулатов пятый раз подряд. Но теперь он пообещал, что, если с его стороны ожидают какого-то особого шага, он возьмет на себя ответственность за те провинции империи, которые считались небезопасными и еще не до конца усмиренными. Решение было одобрено: таким образом, Октавиан, контролируя испанские и галльские провинции или провинцию Сирия, тем самым управлял наиболее важными в стратегическом отношении областями империи. Однако еще более важным стало буквально автоматическое получение им командования над римской армией. Ведь где еще так срочно могут понадобиться войска, как не в этих опасных регионах?
Любой здравомыслящий человек был вынужден признать, что Октавиан намеревался мгновенно вернуть себе только что завоеванное им особое положение – правда, с согласия своего окружения, причем со стороны казалось, что даже по инициативе последнего. Решением сената и народа были заключены соглашения от января 27 года до н. э. Именно это и был решающий момент. Август («возвеличенный богами», «священный»), как с тех пор официально называли Октавиана, отказался от узурпации и абсолютной власти. Вместо этого он получил исключительную роль по итогам постановления, которое безоговорочно признало суверенитет сената и народа. Принцепсу и сенату оставалось придерживаться такого распределения ролей. В дальнейшем императоры всегда получали официальные полномочия формально по решению сената.
С точки зрения современников, Август мог с полным основанием утверждать, что он восстановил государственный порядок, утонувший в хаосе гражданских войн, на что он впоследствии указал в своем знаменитом отчете[109], который был посмертно разослан по всей империи[110]. Рим больше не наводняли шумные толпы, готовые сойтись в схватке во имя интересов одного из соперничающих агитаторов: для успокоения народа, помимо регулярных и щедрых хлебных раздач, были созданы муниципальные силы пожарной охраны и городской стражи из 3500 человек (vigiles), а также три городские когорты (cohortes urbanae, около 1500 человек), которые также выполняли полицейские функции. Плебейские трибуны, которые, с сенаторской точки зрения, на протяжении последних 100 лет были лишь источником постоянных разногласий, потеряли свой ореол непредсказуемости, поскольку сгинули за ненадобностью. Сенаторы снова вели дебаты в курии, что располагалась на форуме, не заручаясь поддержкой городских преступных авторитетов[111]. Неся ответственность за те провинции, которые не находились под опекой императора, сенат сохранил в своих рядах значительную часть имперской администрации. Консулы, преторы и все прочие магистраты, как обычно, исполняли свои обязанности, даже если их лишили части прежних полномочий. В целом казалось, что славные годы республики вернулись.
Сенат почтил приход мира и покоя обильными наградами и славословиями по адресу Августа, этого pater patriae – «отца отечества». Поэты той эпохи, такие как Вергилий и Гораций, приветствовали приход священного властителя[112]. Однако Тацит и другие традиционалисты и моралисты не могли не заметить изъян в этом новом старом мире. В их глазах этим изъяном был сам император[113].
Принцепс
В принципе, Август оставил корни республиканской системы нетронутыми. Тем не менее он кардинальным образом изменил то, что считалось традиционным, или, вернее, дополнил. С этого момента весь политический аппарат вращался вокруг императора, первого из граждан, princeps civium. Формально его власть изначально основывалась на двух конституционных столпах, каждый из которых прочно коренился в республиканской традиции: император сочетал официальные полномочия двух важнейших республиканских магистратур – консулата и плебейского трибуната. Imperium consulare[114] и tribunicia potestas уполномочивали принцепса среди прочего командовать армией, созывать сенат и выносить смертные приговоры римским гражданам. В отчете о своей деятельности Август подчеркивает, что никогда не превышал полномочий магистрата[115]. Это верно. Теоретически каждый трибун и каждый консул имели законные полномочия выступать против решений императора. К коллегиальному вето в Риме традиционно относились очень серьезно. Однако на деле Август ничем не рисковал. Auctoritas, репутация, авторитет[116], приобретенный благодаря его действиям, настолько превосходил авторитет его коллег по должности, что подлинное равенство было невозможно, а по-настоящему опасные перекрестные удары были исключены.
Эта логика стала краеугольным камнем системы императорской власти: постановление сената от 23 года до н. э. предоставило Августу, который и без того стоял выше всех, особые права (по сути, более высокие должностные полномочия), что позволило ему иметь неограниченное влияние даже в тех провинциях, что находились в ведении сената[117].
Все было отлажено замечательным образом. Август контролировал императорские провинции, которые доверил легатам, наместникам из сенаторского сословия. Кроме того, принцепс управлял Египтом, который получил статус частного владения самого императора и находился в ведении наместника из сословия всадников. Но прежде всего Август контролировал легионы, которые теперь в качестве постоянной армии дислоцировались в императорских провинциях. Хотя ему и без того принадлежала бо́льшая часть властных полномочий в империи, он также мог решительно вторгаться в сферу действия другой их части, туда, где был восстановлен старый республиканский порядок: ключевые полномочия трибуна и консула позволяли ему, с одной стороны, управлять делами в Риме, а фактически приоритетный империй (imperium), с другой стороны, давал право вмешиваться в дела сенатских провинций.
Эти основные правовые институты императорской власти пока что оставались в силе и даже укрепились: Тиберий, преемник Августа, к моменту вступления в должность в 14 году уже пожизненно обладал imperium consulare[118] и tribunicia potestas. Калигула, преемник Тиберия, всего через несколько дней после провозглашения принцепсом также был наделен всеми полномочиями и почетными правами, которыми обладали оба его предшественника.
Культ императора
Выдающееся положение принцепса во власти сопровождалось еще одним значительным нововведением совершенно иного характера – божественным почитанием самого императора. Мания величия была здесь ни при чем, но в некотором смысле этого нельзя было избежать. Импульсом послужили провинции на востоке империи. Там, в культурном плавильном котле, созданном эллинизмом, веками практиковалось обожествление светских властителей и из поколения в поколение росла потребность в физическом воплощении римского господства. При Августе власть Рима наконец обрела солидный облик и устойчивую проекционную плоскость.
В сочетании с достижением мира по всей империи и обилием властных полномочий, которое на самом деле было трудно описать земными категориями, неудивительно, что отныне следовало проявлять лояльность императору и в религиозной сфере. Уравнение было простым, его условия оставались неизменными и после смерти Августа: его безграничная власть позволяла всем жителям империи относиться к императору как к благодетелю[119]. Это, в свою очередь, обязывало население быть благодарным, и эта благодарность превратилась в культ[120]. На Востоке носителями императорского культа выступали местные элиты провинциальных городов, которые делали это совершенно добровольно. Организация пышных игр, торжественных шествий и религиозных праздников в честь императора и бога могла замечательным образом скрыть его крайне незначительное политическое присутствие в жизни местного населения. Пришедший с Востока культ императора постепенно утвердился и в западных провинциях. Церемонии здесь проводили в основном вольноотпущенники, тем самым приобретая социальный престиж[121].
В Риме почитание императора как божества происходило иначе. Центральной фигурой был не сам Август, смертный, который в результате своих деяний должен был стать богом лишь после земной кончины, а гений Августа[122]. Гения можно охарактеризовать как обожествленную личность, силу самовыражения и влияния, которой обладал каждый человек, а не только император. Аналогом гения, но присущим только женщинам, была юнона. Поскольку юнона и гений также были божествами-покровителями, им приносили жертвы, например в дни рождения. Часто ладан, вино и хлеб ставили на ларарий, небольшой алтарь, который был обязательным элементом интерьера в каждом римском доме. Такая форма почитания стала обыденной и в отношении гения Августа как «отца отечества». В процессе перманентного укрепления императорской власти в римских семьях стало обычным делом приносить подношения не только своим домашним и семейным богам, но и гению правящего принцепса[123]. В высших кругах во время званых обедов рабы хозяина дома стояли с кувшинами вина наготове, чтобы гости могли по очереди совершить возлияние во имя гения императора. Лишь посмертно императоры входили в пантеон как боги, Divi, и, следовательно, почитались в рамках государственного культа. За этим совместно с сенатом следили преемники, при условии, что император при жизни отличался добродетелями. Так случилось и с Августом, когда он умер 19 августа 14 года. После кончины он был провозглашен божественным Августом и с тех пор почитался коллегией из 21 жреца – так называемыми августалами[124] – в храме, расположенном между Капитолием и Палатинским холмом.
Сенаторы и всадники
В целом конституционно безошибочные отголоски республиканского строя обеспечили довольно спокойный переход к новой эпохе. Август делал шаги вперед очень осторожно. Для правового оформления своего статуса он использовал весь период своего правления, длившийся около 40 лет. Он снова и снова вносил коррективы и поправки, чтобы противостоять сопротивлению и недовольству, прежде всего со стороны сенаторов. В их рядах, правда, уже не было такого возбуждения, как когда-то среди заговорщиков против Цезаря. Август сам об этом позаботился, проведя две чистки сената в 29–28 и 18 годах до н. э. и пополнив сенат сотнями своих сторонников. Однако необходимо было уделить должное внимание социальному статусу, который сенаторы передавали из поколения в поколение. Элиты больше не могли представлять интересы государства, но по-прежнему стремились к особой роли даже в новое время. Август смог согласовать этот уязвимый момент с тектоникой нового порядка, заполнив высшие армейские и административные посты в империи и в Риме сенаторами, пользующимися его доверием. На протяжении всего имперского периода сенат оставался – по крайней мере формально – центральным совещательным органом, где обсуждались и решались все важные вопросы, касающиеся государства. Решение, принятое в сенате (senatus consultum), фактически имело силу закона. Однако на политическую работу сенаторов неизбежно влияло то обстоятельство, что император обычно присутствовал на заседаниях сената, а если нет, то там были сенаторы, которые передавали ему всю необходимую информацию[125].
Со времен Августа необходимым условием принадлежности к сенаторскому сословию считалось минимальное состояние один миллион сестерциев, которое, как правило, достигалось за счет обширного землевладения и часто значительно превышалось. Считается, что воспитатель Нерона Сенека владел состоянием около 300 миллионов сестерциев, в основном в виде поместий, а также 500 столешниц из лимонного дерева[126]. Сенатор Гней Корнелий Лентул, современник и фаворит Августа, более ничем не примечательный, имел целых 400 миллионов сестерциев, что делает его, наряду с вольноотпущенником Нарциссом, который, как говорят, располагал такой же суммой, номинально самым богатым римлянином I века после императора[127].
В материальном отношении между ordo senatorius[128] и остальным населением лежала глубокая пропасть: годовое жалованье простого легионера в I веке составляло 900 сестерциев, что было скромным доходом, однако на эти деньги можно было безбедно жить[129].
Около 600 сенаторов представляли собой исключительный по качеству кадровый резерв, из которого набирались традиционные римские магистраты: квесторы, эдилы, плебейские трибуны, преторы и консулы. Эти должности несли гражданские и военные обязанности, исполнялись в Риме или в провинциях и по-прежнему имели основополагающее значение для функционирования государственных институтов. Очевидно, лишь очень немногие сенаторы ежегодно становились одним из двух консулов, даже когда обычной практикой стало на пару месяцев передавать высшую должность консулам-суффектам, consules suffecti, чтобы дать шанс как можно большему количеству кандидатов[130]. Особенно споро дела шли после консулата, который можно было получить примерно в 40 лет. Тот, кто проявил себя в рамках четко определенной сенаторской карьеры, cursus honorum, и пользовался благосклонностью императора, в идеале мог получить должность провинциального наместника.
Победителем в этой системе был император, который стал центральной точкой отсчета для реализации любых политических амбиций. Только он решал, кому будет разрешено сохранить latus clavus, пурпурную кайму, которой была оторочена сенаторская туника, получить должность или лишиться ее. Таким образом, удаление или, напротив, близость к принцепсу часто определяли факты биографии сенаторов и их близких. Тем не менее из-за республиканских традиций, перенятых новым порядком, отношения между императором и сенатом оставались решающими на протяжении всей императорской эпохи, причем в обоих направлениях. Это особенно хорошо видно из истории Нерона.
Дополнительный дисбаланс в отношениях с сенатом возникал по мере того, как другие социальные группы все чаще получали доступ к власти и привлекались для выполнения деликатных задач в армии, императорской администрации и городском самоуправлении. Уже Август сделал серьезную ставку на ordo equester, сословие эквитов, или всадников, второе по значению сословие римского общества, представителям которого полагалось иметь минимальный капитал в 400 000 сестерциев[131]. Деятельность всадников включала финансовые и торговые операции, крупные строительные контракты – короче говоря, крупное предпринимательство практически любого толка. Подобными сделками занималась бо́льшая часть всадников, примерно 20 000 человек. Однако небольшой процент пошел на государственную службу, где они заняли офицерские должности в армии и административные должности в непосредственном окружении принцепса или в провинциях. Одним из них был Понтий Пилат – префект из всаднического сословия в Иудее между 26 и 36 годами, в период правления Тиберия стяжал бессмертие благодаря своей роли в Страстях Христовых.
Высшие всаднические должности в Риме занимали два префекта претория, командиры недавно созданной лейб-гвардии императора. Вполне вероятно, что Август предусмотрительно воздержался от передачи наиболее близких к нему мечей в руки сенаторов. Тем не менее в последующие столетия преторианцы достаточно часто создавали и уничтожали императоров. Калигула был первым, кто пал под их ударами в 41 году.
Пиком карьеры всадника была высокооплачиваемая должность praefectus Aegypti, префекта Египта. Земли на берегах Нила обладали огромным экономическим потенциалом, который не стоило раскрывать сенаторам, занимали центральное место в снабжении Рима зерном и в целом считались сложным участком, полным чудес и суеверий, из-за своих великих – и вовсе не римских – традиций[132]. Осторожность Августа дошла до того, что без предварительного согласия императора сенаторам въезд в Египет был запрещен[133].
Рабы и вольноотпущенники
В самом низу социальной иерархии находились рабы. Как и во всех древних обществах, рабство в Римской империи было распространено повсеместно. По словам географа Страбона, на огромном невольничьем рынке Делоса в Эгейском море за один день могли продать до 10 000 рабов[134]. По некоторым оценкам, до 40 % всего населения Италии во времена Августа составляли рабы[135]. Даже если это число было меньше, неудивительно, что никогда не предпринималось никаких серьезных усилий, чтобы упразднить такое положение вещей – ни по нравственным причинам, ни тем более по практическим. Большинство рабов доставлялись в Италию в качестве военнопленных в ходе расширения римского владычества в Средиземноморском регионе начиная со II века до н. э. Поскольку дети рабынь также рождались несвободными – независимо от отца – рынок пополнял себя сам[136].
Раб был живой вещью, принадлежавшей человеку той эпохи, как и другое имущество: участок земли, инвентарь, мебель, скот. Он продавался и передавался по наследству, личностью в юридическом плане он не являлся. В труде Катона Старшего о рациональном управлении поместьем расчеты рационов для животных и рабов неслучайно помещены друг за другом. Старые волы, а также недоеденный скот и овцы, продолжает Катон, подлежат продаже так же, как и негодные повозки, старые инструменты, дряхлые и больные рабы, а также все остальное, что бесполезно в хозяйстве[137].
У всех рабов была общая участь – выполнять неоплачиваемую работу. Однако в этих рамках виды работ и конкретные формы использования рабов были весьма разнообразны. Они варьировались от работы в городе, которая предполагала самые разные обязанности, тяжелой работы в сельском хозяйстве и непредсказуемого существования между славой и смертью в качестве гладиатора до карьеров и рудников, где рабов не ожидало ничего, кроме медленного угасания.
Кроме того, рабы обладали весьма разнообразными навыками. В зависимости от места рождения и обстоятельств потери свободы цивилизационные различия выходили на передний план. Когда товар выставлялся на невольничьем рынке, это не бросалось в глаза. Здесь можно было увидеть изможденные, изломанные тела людей, похищенных в самых невероятных местах, унесенных войной за пределы родных рубежей, брошенных в сточные канавы в городских центрах Востока. Глядя на большинство из них, невозможно было определить, кем они были в прошлой жизни – уважаемыми гражданами или обычными преступниками. Стать рабом было легко, даже когда со времен Августа условия содержания рабов стали значительно лучше, чем в мрачные годы республики. Опытные работорговцы тем не менее понимали, как правильно сочетать спрос и предложение. Грубого киликийского пирата вряд ли удастся перевоспитать, отправив его работать при дворе знатного сенатора. А грека с определенным складом ума и хотя бы элементарным образованием навсегда отправляли под землю в шахту, где добывали свинец, только в том случае, если это было абсолютно неизбежно.
В соответствии с широким спектром навыков цены на рабов сильно разнились. В то время как раб без особой квалификации уже стоил 1000 сестерциев[138], Сенека в период правления Нерона оценивал раба, способного воспроизводить наизусть стихи греческих поэтов Гомера и Гесиода в устной и письменной форме, в 100 000 сестерциев[139]. Рабы нередко были атрибутами статуса господина.
В домах богатых римлян иногда насчитывались сотни рабов. После того как в 61 году римский сенатор Луций Педаний Секунд был убит одним из своих рабов, все рабы, которые жили под крышей убитого, но не сделали ничего ради его спасения, были приговорены к смертной казни. Тацит упоминает их число как бы невзначай, но, по-видимому, оно не было из ряда вон выходящим: речь шла о 400 людях[140].
Количество рабов, находившихся на службе у императора и императорской семьи, значительно превышало это число. В частности, благодаря надписям, высеченным на камне, судьбы многих рабов из familia Caesaris становятся видимыми, но лишь на мгновение, подобно яркому блику света, часто в момент смерти, в то время как жизнь упомянутых лиц остается сокрыта мраком неизвестности: например, там встречается Паэзуса, парикмахер Октавии, дочери Клавдия, а позже жены Нерона. Ее сожитель Филет, также раб Октавии и ответственный за императорскую серебряную посуду в должности ab argento, подарил Паэзусе, умершей в возрасте 18 лет, мраморную надгробную плиту с соответствующей надписью[141].
Не только при императорском дворе разнообразие и объем трудовых обязанностей привели к тонкой дифференциации и, таким образом, к формированию сложной иерархии внутри сообщества рабов. Гротескно преувеличенный, но все же вполне достоверный в своей хореографии пир вольноотпущенника Трималхиона, описанный поэтом Гаем Петронием Арбитром в его романе «Сатирикон» в эпоху Нерона, дает представление о задачах, которые за обычным ужином выполняют десятки рабов и рабынь[142].
Массовое использование рабов было обычным делом и для сенаторских латифундий в Италии. Рабы исполняли обязанности полевых рабочих, виноградарей, пастухов или слуг в больших сельских особняках. Вилик, управлявший поместьем в отсутствие хозяина, как правило, тоже был рабом[143]. В частности, предприятиям с высокой долей полевых работ требовалось большое количество рабов. Согласно эмпирически выведенному правилу, на каждые 100 гектаров – довольно небольшое поместье[144] – приходилось использовать около 50 рабов[145]. В 8 году до н. э. крупный землевладелец Гай Цецилий Исидор оставил в своем завещании около 260 000 голов крупного рогатого скота, 60 миллионов сестерциев и 4116 рабов[146].
Как бы ни различались сферы применения труда рабов, их перспективы также были несопоставимыми. Рабы-шахтеры обычно умирали в течение нескольких лет, отравленные парами свинца или предельно истощенные от бесконечных физических нагрузок и недоедания. С другой стороны, личные и домашние рабы часто выстраивали близкие человеческие отношения с dominus или domina, что в какой-то момент приводило к реализации цели всей жизни – освобождению. Предварительными его условиями являлись безупречная служба и зачастую peculium – сумма[147], которую раб мог получить от хозяина или накопить для выкупа[148].
Освобожденные рабы оставались в неформальной зависимости от бывшего хозяина[149]. Юридически их связь была аналогична связи между отцом и сыном и включала право бывшего хозяина наказывать вольноотпущенника. При Нероне в 56 году велись дискуссии о том, следует ли бывшим хозяевам вновь порабощать вольноотпущенников, которые вели себя недостойно[150]. Вольноотпущенники публично поддерживали бывшего dominus как сторонники на выборах. Они также принимали его родовое имя с добавлением libertus или liberta. Но все это было вполне терпимо ввиду тех перспектив, которые открывал новый социальный статус: вольноотпущенникам разрешалось жениться, а их сыновья уже с рождения являлись римскими гражданами[151].
Вольноотпущенники работали во всех сферах экономики и, в зависимости от своего происхождения, могли нажить значительное богатство. Это относилось, в частности, к некоторым вольноотпущенникам, принадлежавшим к императорской фамилии[152]. Такой субъект, как вышеупомянутый Нарцисс, вольноотпущенник Клавдия, сумел накопить в результате деятельности в качестве советника и работы управляющим императорской канцелярией невероятное состояние в 400 миллионов сестерциев[153]. Клавдия Акта, давняя возлюбленная Нерона, добилась успеха в качестве предпринимательницы. Она владела кирпичным заводом на Сардинии, который также производил амфоры для хранения различных пищевых продуктов, и загородными поместьями в современных Веллетри и Поццуоли. В свою очередь, на liberta Акту работали десятки рабов и вольноотпущенников[154]. С моральной точки зрения это не было противоречием. В мире, где рабство было повсеместным явлением, даже бывшая рабыня не могла позволить себе идти против сложившихся обстоятельств.
Многие свободнорожденные римляне считали liberti декадентствующими парвеню, лишенными образования и вкуса. Они упускали из виду, что вольноотпущенники часто были дееспособными и трудолюбивыми людьми, которым приходилось пробиваться вверх по карьерной лестнице без какой-либо помощи со стороны семьи. Несмотря на постоянную стигматизацию их как бывших рабов, некоторые вольноотпущенники, как уже упоминалось, приобрели наибольшее влияние в период ранней империи, поскольку Калигула, Клавдий и, не в последнюю очередь, Нерон чувствовали себя чрезвычайно комфортно в окружении преданных liberti. Правители молчаливо признавали, что доступ к телу часто был возможен только через вольноотпущенника, который занимал высокое положение в иерархии императорского двора. Преодоление этой преграды иногда даже сенаторам стоило немалых взяток, какой бы недостойной ни казалась им подобная сделка.
Рим и plebs urbana
Несмотря на расширение империи, начавшееся со времен Августа, центром мира оставался Рим. В раннюю имперскую эпоху этот город был подобием Римской империи: красочный, жестокий, шумный и грязный плавильный котел культур, в котором проживало около миллиона человек самых разных оттенков кожи и религий, самых разных социальных статусов. Мир еще не знал городских агломераций такого масштаба, и на протяжении веков Рим оставался совершенно уникальным городом. Только в ходе индустриализации аналогичных размеров достиг Лондон в конце XVIII века[155].
Рим сочетал в себе невероятное богатство и ужасающую нищету в тесном пространстве. На холмах и их склонах располагались дома богачей. В долинах, на приличном расстоянии от суеты, Целий или Квиринал обрамляли величественные особняки аристократов и богатых карьеристов. Палатинский холм был закреплен за императорами со времен Августа. Там были цветущие сады и водопровод, роскошь праздничных столов и пресловутый декаданс. Под ними, в низинах между холмами, в Субуре, в районе Circus Maximus (Большого цирка) или «за Тибром» (ныне район Трастевере), город приобретал иной характер. Здесь царили насилие, преступность, болезни и грязь.
Пульс города бился на улицах. Богатые сенаторы отправлялись туда, где вершилась политика, в надушенных паланкинах в сопровождении энергичных рабов, часто не владевших латынью, но зато ловко орудовавших дубинкой, прокладывая путь своим господам. Искалеченные нищие, возможно, пострадавшие в ходе войн империи и с незапамятных времен проживавшие на улицах Urbs[156], в лохмотьях бродили по переулкам.
Из многочисленных продуктовых лавок, расположенных вдоль плотно застроенных улиц, доносился запах кровяных колбас и горячего рубца. В полуденную жару он смешивался с вонью кожевенных мастерских, скотобоен и ремесленных лавок, образуя мерцающее пахучее марево, проникавшее в поры. На улицах было шумно. Мулы ржали, люди кричали, повозки, запряженные волами, грохотали по мостовой. Слышались смех, споры и гогот пьяниц. Из цирка над крышами домов проносились крики разгоряченной толпы[157].
Городское население Рима, не принадлежавшее к знати, plebs urbana, в имперский период практически утратило свое политическое влияние[158]. После Тиберия народные собрания больше не созывались в качестве органов голосования по важным политическим вопросам, но сохранили функцию конфирмации, или утверждения принятого постановления, что носило скорее символический характер (например, при присуждении императору tribunicia potestas). Привилегия римского гражданства, которая, по крайней мере, освобождала людей от уплаты прямых налогов[159], теперь распространялась на всю Италию[160]. С юридической точки зрения ничто не отличало свободного крестьянина, проживавшего в долине реки По[161], от владельца гончарной мастерской в Риме. Богатый работорговец в Помпеях был таким же римским гражданином, как и почти нищий учитель в Патавии (совр. Падуя). Обязательными условиями были: рождение свободным и мужской пол.
Для многих бедняков Рим оставался проклятым местом, в котором не было никаких возможностей для политического самовыражения. Это были те, кому сатирическое сокращение насущных потребностей плебса до сакраментального «хлеба и зрелищ», panem et circenses, на самом деле казалось заманчивым посулом[162]. Август лично взял на себя заботу о нуждающихся и регулярно обеспечивал раздачи зернового хлеба из государственных амбаров. Во 2 году до н. э. подобные раздачи получили около 200 000 горожан[163]. Чтобы прокормить семью из нескольких человек (или даже одного трудолюбивого взрослого), такого пайка было недостаточно – это была лишь благотворительная помощь, а Риму было далеко до «государства всеобщего благосостояния».
Всеобъемлющее чувство сопричастности и самосознание plebs urbana не могло сформироваться из-за его неоднородности, и совместные организованные акции в публичном пространстве также происходили сравнительно редко. Однако дефицит продовольствия (прежде всего нехватка зерна), безусловно, вынуждал людей выходить на улицы. В 51 году Клавдий с трудом скрылся от разгневанной толпы, с которой лицом к лицу столкнулся на форуме из-за сорванных поставок зерна[164]. Подобные выражения чувств оказывали воздействие на власть и, таким образом, приобретали политическое измерение[165].
Редкий случай явно согласованных совместных действий римских граждан, не принадлежавших к элите, был связан со смертью Германика, деда Нерона. После смерти Германика в октябре 19 года сенат одобрил все мыслимые почести, в том числе предложение plebs urbana о размещении статуй Германика в триумфальном облачении в ряде общественных мест. Plebs urbana, как прямо указано в постановлении сената, взял на себя все расходы[166]. Германик был настоящим народным героем своего времени, его смерть травмировала целое поколение.
В аристократической литературной традиции существует строгое разделение между сословиями. Термин plebs обычно употребляется в уничижительном смысле, и императоры, которые в течение определенного периода времени заигрывали с этими «простыми» слоями так же виртуозно, как и Нерон, автоматически вызывали подозрение у античных авторов. Однако, несмотря на оскорбительные замечания интеллектуалов, уже Август, который был гораздо более чутким к любым сентенциям писателей, нежели Нерон, интуитивно понимал, что завоевание симпатий не только аристократии, но и городского плебса придаст его положению бо́льшую устойчивость. Рим был городом императора. Его постройки, раздачи и зрелища стали неотъемлемой частью повседневной жизни многих римлян, и, когда это считалось целесообразным, они принимали их от имени императора. Наряду с сенаторами, плебеи были вторым столпом, на котором базировалось признание принцепса и его роли. Нерон это не выдумал[167].
Солдаты
В результате победы Октавиана в гражданской войне впервые за 500 лет во главе римской армии стоял единоличный и бесспорный главнокомандующий. Серьезная проблема поздней республики, заключавшаяся в том, что в принципе любой политик мог получить командование армией и, таким образом, добиваться личных целей силой оружия, была решена благодаря выдающемуся положению Октавиана во власти. Август больше не выпускал единоличную военную власть из своих рук. Она составляла важнейшую основу властных полномочий всех римских императоров.
Чтобы справиться с задачами в изменившихся реалиях, Август коренным образом реформировал армию. Самым важным нововведением было то, что на смену республиканскому ополчению пришла профессиональная армия. Это было дорого – особенно с учетом выходного пособия для ветеранов – и поглощало значительную часть государственных доходов. Августу потребовалось несколько лет, чтобы создать жизнеспособную модель финансирования. В итоге нашлось компромиссное решение, включающее, с одной стороны (и прежде всего), налоговые поступления из провинций, а с другой – недавно введенный налог на наследство, который платили римские граждане[168].
Основной задачей новой постоянной армии была оборона границ. Август отправил в общей сложности 28 легионов в императорские провинции, где они среди прочего охраняли границы вдоль великих рек Евфрата, Дуная и Рейна[169]. Около 150 000 солдат жили в укрепленных лагерях, к которым за короткое время присоединились гражданские поселения. Лагеря легионов, такие как Могонциак (совр. Майнц), Бонна (совр. Бонн) или Карнунт под Веной, быстро превратились в региональные центры, где происходил активный обмен между римскими солдатами, провинциалами и варварами, обитавшими за пределами империи.
Солдаты ежегодно присягали на верность императору, sacramentum militare – в общей сложности до 20 раз, что соответствует сроку службы легионера, установленному в 6 году[170]. Принцепс демонстрировал свое «двойное» присутствие посредством выплаты жалования и специальных донативов, например в день рождения императора, поскольку на монетах был отчеканен его портрет. Еще сильнее присутствие императора ощущалось в лагерных святилищах, где наряду со штандартами почиталось и его изображение. И наоборот, несмотря на дистанцию и тот факт, что подавляющее большинство солдат никогда не видели его во плоти и крови, Август говорил о «своей армии»[171]. В этом не было ничего плохого, поскольку император лично назначал многих центурионов и трибунов, но главное – каждого командира легиона[172]. Все офицеры в итоге были всего лишь подчиненными, состоявшими под верховным командованием принцепса. Все императоры династии Юлиев-Клавдиев подолгу пребывали в лагерях провинциальных армий и таким образом укрепляли личную связь с войсками. Первым, кто не уважил солдат империи личным присутствием, был Нерон. Тем не менее он также неоднократно демонстрировал свою близость к армии, например с помощью изображений на монетах с военной символикой.
Элитные военные подразделения Римской империи располагались не в провинциях, а в Италии, причем со времен Тиберия исключительно в Риме. Во 2 году до н. э. Август создал вышеупомянутую преторианскую гвардию численностью 4500 человек, которая, помимо прочего, отвечала за личную безопасность императора и его семьи: целая когорта (500 человек) круглосуточно охраняла императорский дворец. Кроме того, преторианцы сопровождали принцепса в поездках, а также использовались в качестве сил быстрого реагирования в чрезвычайных ситуациях и элитного подразделения в завоевательных войнах[173]. После того как Август распределил преторианцев по Риму и близлежащим городам (как минимум одна когорта первоначально базировалась в Остии, тогдашнем порту Рима), по рекомендации префекта претория Сеяна Тиберий в 23 году разместил гвардию в Риме[174]. На северо-востоке города, на холме Виминал, теперь возвышался лагерь преторианцев Castra Praetoria – мощное сооружение, окруженное кирпичной стеной, размером 440 на 380 метров[175].
Рис. 3. Шесть преторианцев на рельефе арки Клавдия, возведенной в честь покорения Британии. Благодаря преторианцам Клавдий стал императором. Рим, 51–52 гг.
Carole Raddato/Flikr.com по лицензии (CC BY-SA 2.0)
У полководцев всегда были телохранители, но постоянная дислокация войск в Риме в мирное время была в диковинку. Помимо огромной армии, расположенной в провинциях, преторианцы, в частности, продемонстрировали военную монополию императора всем, кому следовало о ней знать (рис. 3).
За свои особые заслуги преторианцы могли рассчитывать на достойное вознаграждение, поэтому им платили значительно больше, чем солдатам провинциальных армий (3000 сестерциев в год), кроме того, они чаще получали большие денежные подарки[176]. Статус элитного подразделения не в последнюю очередь проявлялся в размещении гвардейцев. В Castra Praetoria было больше удобств и пространства, чем в обычном военном лагере[177]. Но даже во время походов когорта преторианцев располагалась лагерем площадью в два раза больше площади обычной когорты и в палатках бо́льшего размера[178].
Во главе преторианской гвардии стояли два префекта из сословия всадников, каждой из девяти (во времена Нерона – из двенадцати) когорт командовал трибун. Надписи дают представление о биографиях отдельных офицеров, например Гавия Сильвана, который участвовал в заговоре Пизона против Нерона в 65 году: заняв должность старшего центуриона (primipilus[179]) в заслуженном legio VIII Augusta, дислоцированном на берегу Дуная, Сильван переехал в Рим, где в ранге трибуна командовал когортой вигилов, а позже городской когортой. Его военная карьера достигла своего апогея, когда он стал трибуном 12-й преторианской когорты[180].
От Атлантики до Евфрата
В 37 году, в год рождения Нерона, Римская империя занимала площадь около пяти миллионов квадратных километров[181]. Когда солнце садилось в городке Олисиппо Фелицитас Юлия (ныне Лиссабон) в провинции Лузитания, на востоке река Евфрат уже несколько часов как была погружена в темноту. Самая северная точка римской территории находилась в устье Рейна в провинции Белгика. На юге Римская империя простиралась до первого порога Нила, недалеко от того места, где сейчас находится Асуан, в императорской провинции Египет.
При Августе наступили новые времена в отношениях центра с провинциями. Понимание империи на более высоком уровне проявилось значительно сильнее, чем в республиканские времена. В эпоху республики римское господство расширялось в результате не связанных между собою акций. Каждая провинция существовала сама по себе, изолированно и исключительно в интересах Рима. Драконовские налоговые системы прессом давили на провинции и наполняли карманы немногих бенефициаров в столице богатством и роскошью. Империя стала ареной для войн, мотивированных внутренней политикой. Характерно, что решающие сражения гражданской войны римские полководцы давали не в Италии, а в Греции и Северной Африке.
Установившийся в империи мир позволил Августу сосредоточиться на внутренней политике, на укреплении империи и стабилизации ее границ. С этой целью на всем протяжении своего долгого правления он предпринимал масштабные военные и дипломатические действия, которые в очередной раз значительно расширили сферу римского влияния и заложили основу для постепенного нивелирования Римской империи в последующие столетия[182].
Прежде всего Август обеспечил Северную Италию пышным подолом. Это стало возможным благодаря завоеванию Альп и северных предальпийских территорий, о чем до сих пор свидетельствует расположенный высоко над Монако на предгорьях Приморских Альп внушительный Альпийский трофей, Tropaeum Alpium, памятник победы, воздвигнутый в 7/6 году до н. э. От вторжений через Истрию Италию отныне защищал завоеванный в ходе ряда крупных войн Балканский регион вплоть до Дуная, который в то же время закрыл разрыв между западной и восточной частями империи.
Германией с 12 года до н. э. управляли пасынки Августа, сначала Друз, а после его смерти Тиберий, который в 14 году стал следующим принцепсом. Крупномасштабные военные кампании преследовали среднесрочную цель – сделать Эльбу естественной границей на северо-востоке империи. Поводом послужили неоднократные вторжения германцев на территорию Римской Галлии по левому берегу Рейна. Римляне построили крупные базы и склады снабжения, некоторые из них, например лагерь в Хедемюндене-ан-дер-Верра, уже находились в глубине германской территории. Находки из лагеря Вальдгирмес в Среднем Гессене показывают, что наряду с военной инфраструктурой развивалась и гражданская. Создание гражданской администрации к востоку от Рейна в итоге потерпело неудачу, отчасти в результате поражения римского полководца Публия Квинтилия Вара в 9 году. Однако даже после этой катастрофы римляне в течение нескольких лет весьма агрессивно пытались добиться своих целей в Германии. Решение об отказе от прямого контроля над правобережной Рейнской областью было принято Тиберием только в 16 году[183].
На самой восточной окраине Римской империи военных конфликтов при Августе не было. Уже в 20 году до н. э. дипломатическими средствами удалось обезопасить сферу римских интересов от парфянской угрозы. Река Евфрат была объявлена демаркационной линией между двумя державами.
При преемнике Августа Тиберии Римская империя поначалу замедлила территориальный рост. Единственным территориальным приращением при Тиберии была провинция Каппадокия на северо-востоке Малой Азии. После смерти вассального царя Каппадокии Тиберий преобразовал косвенное римское правление в прямое[184]. В целом Тиберий, опытный военный, продолжил августовскую стратегию охраны границ, объединения и укрепления империи, например, как уже упоминалось, в отношении Германии.
В ходе военных кампаний, начавшихся в 14 году, взошла звезда Германика, которого Август еще при жизни назначил преемником Тиберия на императорском престоле. Хотя Германик умер слишком рано, его семья оказывала влияние на судьбы империи в течение следующих нескольких десятилетий: Германик был отцом Калигулы, который с 37-го, года рождения Нерона, правил империей как преемник Тиберия, и юной Агриппины, матери Нерона.
Внутренние дела империи
На латыни imperium обычно обозначает должностную власть высшего римского магистрата. Так, например, imperium consulare было синонимом неограниченного высшего военного и гражданского командования, которое консул осуществлял в течение всего срока своего пребывания в должности. Термин «Римская империя» в государственно-правовом смысле соответствует этому значению. В узком смысле, в соответствии с римской концепцией, он означал неограниченную военную и гражданскую верховную власть. Римское господство простиралось на те племена и народы, gentes, которые римские легионы покорили силой оружия. Таким образом, в административно-территориальном отношении империя соответствовала владениям города-государства Рима. Это было пространство, в котором действовало римское верховное командование, пространство, где господствовал римский народ[185].
В Римской империи не было ни единой государственной территории, ни этносов, наделенных более или менее одинаковыми правами, как в современном национальном государстве. Римляне, скорее, управляли федерацией различных народов и племен, организованных в рамках отдельных провинций. Диапазон уровней цивилизации в этой грандиозной структуре был весьма разнообразен и не в последнюю очередь зависел от момента присоединения конкретной области к Риму. Первая римская провинция, Сицилия, была организована примерно за 300 лет до рождения Нерона. Практически все здесь отличалось от условий провинции Реции, местности на территории современной Южной Германии, которая в первой половине I века входила в состав северных владений Рима и была населена малограмотными варварами. Совершенно иначе дело обстояло в крупных городских общинах Востока с ярко выраженным греческим влиянием, богатой историей, уходящей в глубь веков, и культурными достижениями, которые никуда не исчезли даже после римского завоевания во II веке до н. э.[186] Между тем в Галлии, напротив, адаптация к римским обычаям и образу жизни, по крайней мере среди высших слоев общества, происходила с совершенно ошеломляющей скоростью. Многие представители галльской элиты, чьи прадеды сражались против Цезаря, уже в первые десятилетия I века стремились превзойти друг друга в своей Romanitas[187].
Из-за разнообразия завоеванных ландшафтов в Риме отсутствовало универсальное представление о том, как должна выглядеть провинциальная администрация в деталях[188]. Участие местных элит, порядок сбора налогов или, в императорских провинциях, степень военного присутствия – для всего этого не существовало конституции или чего-то подобного, что применялось бы повсеместно. Конечно, Август ввел принципиальное различие в отношении императорских и сенатских провинций. Однако это в первую очередь было актуально для политической сцены в Риме. Будь то императорский легат или проконсул в сенатской провинции, провинциалы едва ли замечали разницу между ними.
По сути, на протяжении столетий римляне при организации и обеспечении безопасности своих завоеваний придерживались нескольких принципов. Прежде всего обнаруженные и потенциально опасные политические образования на завоеванных территориях уничтожались с особой тщательностью в целях предотвращения восстаний. Кроме того, поскольку от римских представителей исходили не только властные распоряжения, но и предложения о сотрудничестве, например в области управления провинциями, возникали новые политические и социальные градации: тот, кто был предан Риму, мог воспользоваться римским гражданским правом. Таким образом, позиционирование многих местных аристократических кругов все больше зависело от близости к представителям Рима. Наконец, господству и дифференциации на политическом уровне соответствовали принцип широкой религиозной и культурной терпимости, а также, в сочетании с этим, по возможности сохранение внутренней жизни провинций без особых изменений.
Важная функция во всем этом принадлежала городам империи. На востоке и в греческих или пунических прибрежных районах Западного Средиземноморья эта форма политической организации уже имела свою давнюю традицию. Римляне способствовали развитию городских общин и в тех регионах, которые ранее были менее урбанизированными, например в Галлии[189]. По довольно скромным оценкам, в середине II века в империи насчитывалось около 2000 городов, но в трех четвертях из них проживало менее 5000 человек, и только в шести проживало более 100 000[190].
Внутри империи города были организованы в основном единообразно. В самых верхах богатый класс руководил делами самоуправления и сотрудничал с вышестоящей римской провинциальной администрацией, которая, в свою очередь, отвечала за общественную безопасность и осуществляла юрисдикцию. Мнение тех, кто представлял власть, не оспаривалось: надпись из Сагалассоса в малоазийской провинции Галатия на территории современной Турции однозначно указывает на то, что жители Сагалассоса всегда держали наготове 10 повозок и 10 мулов для римских должностных лиц, прибывавших проездом; таким образом, сенатору предоставлялось все необходимое, в то время как центуриону полагалась только одна повозка[191].
Провинциальные муниципалитеты должны были оказывать подобные услуги, в том числе, например, осуществлять ремонт знаменитых римских дорог, в основном безвозмездно. Когда в 66 году Нерон принимал в Риме парфянского царевича Трдата, который по пути туда с огромной свитой проехал через всю восточную часть империи, волей-неволей отдельным провинциальным городам пришлось позаботиться о пропитании и ночлеге царевича, пока он был в пути[192]. Римляне ожидали таких услуг от своих подданных и рассматривали их как цену и награду за мир, pax, установившийся в империи со времен Августа. Однако во всех провинциях взимались и более регулярные налоги, хотя и неодинаковые с точки зрения характера, размера и порядка налогообложения. Как правило, с землевладельцев взималось от 10 до 20 %, однако подушный налог не взыскивался повсеместно. Значительно пополняла государственную казну арендная плата, например за использование императорских карьеров или шахт, а также таможенные пошлины, взимаемые в портах, на реках, границах провинций и городов[193].
Налоговая система императорской эпохи в процессе сборов учитывала интересы провинциальной элиты и городских общин, была более предсказуемой и, таким образом, вышла из той беспросветной ситуации, в которой она находилась в республиканскую эпоху. Во времена республики сбор налогов отдавался на откуп компаниям-арендаторам, возглавляемым всадниками и фактически никем не контролируемым, и они выжимали из провинций и их жителей буквально все соки. Август значительно смягчил эксплуататорскую практику республиканских времен, в корне реорганизовав финансовое управление. Теперь в императорских провинциях за сбором налогов следили высокопоставленные чиновники из сословия всадников, иногда вольноотпущенники[194]. В сенатских провинциях сбором налогов занимался назначенный по жребию квестор, молодой сенатор в начале своей карьеры, в то время как последнее слово оставалось за наместником.
Новая имперская налоговая система была основана на создании земельного кадастра, переписях и оценке имущества. Известный пример этих действий вошел в библейскую рождественскую историю. Согласно Евангелию от Луки, Август повелел переписать весь мир[195]. Это не совсем верно, поскольку перепись, которую имеет в виду Лука, касалась не всей империи, а только провинций Сирия и Иудея; в 6 году Иудея была присоединена к Сирии в целях упрощения управления[196], что отражает обычную имперскую практику: после присоединения очередной территории, как в случае с Иудеей, затем регулярно каждые 12–14 лет новая провинция подвергалась тщательной проверке.
В целом ярко выраженная тенденция к гомогенизации[197] наметилась еще при Августе, чему, как уже упоминалось, способствовало все более частое предоставление римских гражданских прав отдельным лицам или группам лиц в провинциях. Пропаганда городского образа жизни по всей империи сделала свое дело. Такие города, как родина матери Нерона, Колония Агриппина (совр. Кёльн), а также Лугдун (совр. Лион), Кордуба (совр. Кордова) или Лептис-Магна в Северной Африке, превратились в новых носителей греко-римской средиземноморской цивилизации и отчасти конкурировали с самим Римом по роскоши и уровню жизни. Вскоре и тут и там начали появляться храмы, термы и театры.
Плотная дорожная сеть обеспечивала жителям империи высокую мобильность. Товары повседневного спроса и предметы роскоши с поразительной скоростью распространялись в некогда варварских глубинках. Хоть в тяжело нагруженной воловьей повозке и было удобно передвигаться, животные едва ли преодолевали более 15 километров в день, поэтому торопливые путешественники передвигались значительно быстрее, меняя лошадей: когда в 9 году до н. э. Тиберий поспешил в Германию, где умирал его брат Друз, за один день он якобы преодолел 200 римских миль[198], что соответствует почти 300 километрам[199]. Говорят, что Цезарь в некоторые дни проезжал 150 километров на своей колеснице, а у Клавдия была повозка с такой удобной подвеской, что, сидя в ней, он мог играть в кости[200]
