Очерки политической экономии …постсоветского времени. Избранные работы бесплатное чтение
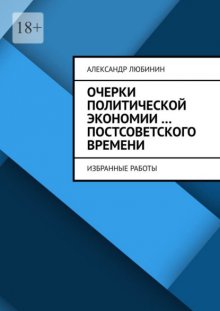
© Александр Любинин, 2025
ISBN 978-5-0065-3489-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Издано при содействии АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС»
В книгу включены авторские материалы по ряду актуальных проблем экономической теории и острых тем социальной публицистики в переживаемый в настоящее время страной период. Таковы вопросы генезиса «экономикс» и его трактовки основателями неоклассической политэкономии, соотношение неоклассической политэкономии с политэкономией классической. Центральное место отведено взаимосвязи построения социализма в одной отдельно взятой стране в окружении недружественных государств с закономерно наступившей эрозией социалистического идеала вследствие длительного сохранения мобилизационного социально-экономического уклада, стесняющего каждодневную жизнь людей. Анализируется так называемая «ловушка Сталина»: упрощенное понимание социализма исключительно как антикапитализма, приведшее к отрицанию на этой основе товарно-денежных отношений, игнорирование необходимости становления социализма через переходные формы, сведение централизованного управления к кажущейся простоте раздачи директивных заданий, спутывание советского социализма с классическим марксистским его пониманием и рассмотрение как образца, на который должны равняться все страны, избирающие социалистический путь. Ряд очерков посвящен контраргументации новомодной критики марксизма с национально-патриотических позиций. Показана методологическая бесплодность попыток органического синтеза марксистской (классической) и неоклассической (экономиксовой) политэкономии. Сделаны полемические пояснения относительно значимости национально ориентированного подхода к экономике в системе экономических наук. В связи с вступлением России в ВТО рассмотрены базовые основания протекционизма и свободы торговли как экономической политики. В противовес мнимым и политически мотивированным раскрыты действительные причины распада межнациональной системы отношений. Показаны истоки и реальное своеобразие китайского социализм.
От автора
В книгу вошли материалы, написанные мною за последнее время. Посвящены они широкому спектру вопросов социально-экономического плана: от сугубо методологических и теоретических (классическая и неоклассическая политическая экономия, генезис и содержание «экономикс», становление экономической системы социализма в СССР, политэкономические школы, возникшие в стране; новомодные интерпретации марксизма и его современная критика, в том числе с позиций российской патриотической мысли; значение национально ориентированного подхода в экономической теории, самобытность китайского социализма) до конкретно-экономических (протекционизм и свобода торговли как экономическая политика – в связи с вступлением России в ВТО; перипетии страховых пенсий) и публицистических (Россия и ее военная экономика в канун и в ходе Великой Отечественной войны, драма межнациональных отношений, поиск национальной идеи). Всякий раз указанные материалы писались на злобу дня в качестве авторского реагирования на проблемы, которые оказывались в центре внимания научной общественности как левой, так и либеральной. Подобная многоаспектность содержания книги совершенно сознательный выбор автора. В данном случае мне было мало познакомить читателя с какой-то одной, узкой, пусть и злободневной, проблемой (это предмет отдельных статей в периодической печати), а требовалось показать совокупность (конечно, далеко не полную) актуальных в постсоветское время обществоведческих тем, в суждении о которых автор полагал необходимым определить свое место.
Читатель найдет в книге много полемики и критических высказываний, в том числе в адрес моих уважаемых (говорю это со всей искренностью) коллег «по цеху». Но как артиста обязывает сцена, так истина обязывает любого участвующего в научной жизни. Ничто иное, кроме стремления не уклониться от истины, и, если надо, выступить в ее защиту, автором не руководило. В предлагаемых мною текстах нет ни одного критического посыла на основе голословного утверждения, равно как отсутствуют такого рода суждения, сделанные на основе предположений. Все доводы, как это и должно быть, непременно оснащены аргументами логического, исторического и фактического свойства.
Хочется выразить признательность людям, без которых данная книга, не была бы, скорее всего, написана, по крайней мере, в данном виде.
Автор считает себя последователем того, что можно было бы назвать особым духом кафедры политэкономии Экономического факультета МГУ, которую в его бытность студентом и аспирантом кафедры возглавлял Н. А. Цаголов. Приоритет Н. А. Цаголова в отстаивании применения диалектической логики к построению системы категорий политической экономии социализма и, соответственно, к последовательно научной трактовке самого социализма, – бесспорен и отражен мною в соответствующем разделе книги.
Особая благодарность В. В. Куликову, с которым у меня, начиная со студенческой скамьи, были особенно тесные научные контакты. В. В. Куликов – крупная личность, его научный талант в области политэкономии был выражен очень сильно, признан и уважаем едва ли не всеми.
Искреннюю признательность адресую рано ушедшему, в полном жизненном смысле бесподобному, А. Ю. Мелентьеву, ставшему у руля «Российского экономического журнала» (в советском прошлом «Экономические науки») в тяжелые 90-е гг. Даже со сравнительно небольшим тиражом (судьба, постигшая всю научную периодику) журнал оказывался насущно нужен научно-педагогической общественности, давая возможность высказываться различным общественно-политическим силам, при этом оставаясь на позициях строгой критичности и научности. Тон в такой направленности издания всегда задавал лично А. Ю. Мелентьев, формируя авторский актив, публикуя личные статьи, помещая собственные предисловия и послесловия к публикуемым материалам, и делая многочисленные полезные подстраничные пояснения и ремарки.
Автор надеется, что предлагаемая книга позволит каждому познакомившемуся с ней, обрести более глубокий, а главное, взвешенный, взгляд на недалекое прошлое и настоящее нашей, отечественной, социально-экономической жизни.
Очерк 1. К вопросу о генезисе и предметном содержании «экономикс»
Вот уже полтора века мир капиталистического (рыночного) хозяйства как научная проблема изучается дисциплиной, известной под названием «экономикс». Данное название в явном виде содержит отход от сложившегося еще до полной кристаллизации неоклассики обозначения научной дисциплины того же рода и назначения – «политическая экономия». В связи с этим, естественно, возникает вполне закономерный вопрос: в силу каких действительных причин это произошло. Отражало ли введение в научный оборот нового названия экономической науки концептуальный идейно-теоретический характер, который означал для неоклассики принципиальный сдвиг в понимании предмета и содержания теоретического анализа, от политэкономии к чему-то действительно иному – к «неполитэкономии»? В свете событий в сфере преподавания экономической теории и научных исследований в этой области, развернувшихся в нашей стране с началом постсоветского периода, данный вопрос приобрел особый, и не только академический, интерес.
Ряду исследователей отсутствие у «экономикс» политико-экономического содержания представляется самоочевидным и не требующим учета мнения представителей этого научного направления. Чаще всего отправным пунктом для подобной позиции является факт острого идейного противостояния западной экономической мысли и марксистской политэкономии, особенно в советский период, оставивший отпечаток на их теоретическом содержании. М. Хазин пишет: «… создание коммунистических партий, а затем и появление СССР напугало капитализм страшно. И он начал борьбу за принципиальное изменение всех общественных наук с целью доказать (или фальсифицировать доказательство) свое право на вечное существование. И именно в рамках данной работы появилось то, что сегодня называется „экономикс“, а термин „политэкономия“ был напрочь изгнан с порога академических заведений, чтобы никто о нем и не вспоминал» [34].
Действительно в начале постсоветского периода отмеченный дискурс отчетливо проявился в событиях, развернувшихся в нашей стране, когда были введены новые образовательные стандарты, предусматривающие преподавание экономической теории в ее сугубо западном варианте; политэкономия была исключена из классификационного реестра экономических специальностей в науке, а соответствующие кафедры в принудительном порядке были организационно переформатированы с утратой своего прежнего названия и идейно-теоретически переориентированы на преподавание «экономикс», обеспечивая открытую экспансию неолиберализма в нашей стране. Но все такого рода события именно в силу их политической ангажированности и административного характера осуществления, сами по себе, факт добровольного «расставания» «экономикс» как науки с политэкономией никак не доказывают.
Существует, однако, и позиция, исходящая из такой совершенно осознанной добровольности. Как отмечал С. Дзарасов: «Прежнее название „политическая экономия“ заменил на „экономикс“ А. Маршалл в своей работе 1890 года, и это означало изменение угла зрения в рассмотрении проблем экономических наук. Социальный аспект был затушеван, и внимание переключено на технико-экономические зависимости, выступающие в экономической действительности. Именно в таком виде „экономикс“ воспринят нами» [6, c. 440].
Чаще всего, однако, отход «экономикс» от политэкономии подается в современной литературе как само собой разумеющийся общеизвестный факт, не требующий специального комментария. Утверждению такого мнения со стороны «экономикс» способствует то, что сами представители этого направления никогда не настаивали на том, что их исследования – это именно политэкономия, можно сказать, не дорожили своей принадлежностью к этой науке и не вступали в споры на данную тему.
Приоритет в непредвзятом рассмотрении вопроса, а был ли в реальной истории возникшей и уже имеющей своих общепризнанных классиков науки, которая к середине 19 века стала вполне себе модной и известной в мире как политэкономия, такой, имеющий научное основание факт, бесспорно должен быть отдан обращению к истокам его возникновения. Адресуясь, в связи с этим к аргументации основателя «экономикс» А. Маршалла, который действительно предложил это новое название, дело заключалось в следующем. Экономическая наука, как полагал А. Маршалл: «является наукой – чистой (т. е. теоретической – прим. А.Л.) и прикладной… Вот почему ее лучше обозначать широким термином «экономическая наука» (Economics), чем более узким термином «политическая экономия» (Political Economy)» [21, с.100]. Таким образом, по мысли А. Маршалла, своего рода ребрендинг для политэкономии требовался по соображениям сугубо прагматического (лучше обозначать более широким термином), а не принципиально научно-смыслового или идеологического свойства. Вводя новое название, как это следует из собственноручно написанного им, А. Маршалл лишь подчеркивал тот важный для него факт, что та политэкономия, которой он себя посвятил, является по существу не только наукой теоретической, но и практическим пособием для осознанной и активной деятельности экономических субъектов.
Для понимания природы мотива, которым руководствовался А. Маршалл, предлагая новое название, важный момент заключается в том, что его новация определяется не только лишь субъективным желанием ученого-теоретика, который действительно был по своей натуре человеком общественно неравнодушным, имел склонность не только к преподаванию, но и к применению своих знаний, постоянно посвящая себя разнообразной практической работе за пределами университетской среды. Особенность подхода А. Маршалла целиком и полностью вытекала из понимания им предмета, а в связи с этим и смысла экономической теории, которые впоследствии закрепились в «экономикс». В 11-ой главе своих «Принципов экономической науки», названной «Предмет экономической науки», А. Маршалл указывает, что таким предметом «являются побудительные мотивы, которые наиболее сильно и наиболее устойчиво воздействуют на поведение человека в хозяйственной сфере его жизни». И далее, разворачивая свою аргументацию, А. Маршалл указывает на то, что экономическая наука «имеет дело с постоянно меняющимися, очень тонкими свойствами человеческой натуры» и занимается главным образом теми желаниями, устремлениями и иными склонностями человеческой натуры, внешние проявления которых принимают форму стимулов к действию, «изучает душевные порывы не сами по себе, а через их проявление» [21, c. 69].
Из этих формулировок ясно видно, что подобная трактовка предмета органически носит не пассивно-академическую, а активно-деятельностную направленность как свою неотъемлемую составную часть. Собственно, к этому и стремился А. Маршалл, указывая на естественную, по его мнению, прикладную актуальность экономической теории. В этом пункте есть принципиальное смысловое отличие его понимания предмета от понимания предмета в классической политэкономии (и у современных авторов [см.: 28]), остающихся на этой же точке зрения) как производства богатства. Также и производственные отношения в качестве определения предмета марксисткой политэкономии прямым и явным образом не содержат в себе претензии на практическое пособие для капиталистов и других участников экономической жизни, хотя из внутренней сути такого понимания предмета вырастает активная, и даже революционная, общественно-политическая практика. Отметим, как факт то, что в советское время недостаточность прямого практического применения политэкономии оставляла чувство неудовлетворенности у многих политэкономов, представителей конкретно-экономических дисциплин, практических работников и изучающих эту науку, создавая впечатление ее излишней абстрактности и недоработанности1.
Исходя из показанного выше, представляется неизбежным вывод: название «экономикс» предлагалось А. Маршаллом как еще одно, дополнительное, в определенном смысле более полное, определение для развиваемой им политэкономии, которое указывало на ее органически прикладную ориентацию, но никак не вместо имеющегося названия с целью его исключения как совершенно неудовлетворительного. Говоря об «экономикс» в подобной его смысловой определенности, А. Маршалл, что очевидно, никакой крестовый поход против политэкономии и марксизма не затевал, и явно не имел в виду его возглавить, несмотря на формальную возможность именно так интерпретировать его позицию. Но это если, разумеется, не обращаться к первоисточнику. Отсюда нет никаких оснований усматривать исход «экономикс» из политэкономии в лице А. Маршалла, выдвигая в качестве «бесспорного» аргумента, помимо уточненного им, более содержательного, обозначения экономической науки, название его главного труда, а также (в качестве дополнительного аргумента) намерение У. Джевонса назвать свою новую работу «Principles of Economics», где слово политэкономия отсутствует, вместо вышедшей его книги (кстати, значительно ранее, чем работа А. Маршалла) «The Theory of Political Economy», уже содержащей «экономиксовые» мотивы. В конце концов, А. Смит тоже не использовал название науки, в рамках которой он вел исследование, для заголовка своего выдающегося в истории экономической мысли произведения, да и Маркс в «Капитале» обратился к этому названию только в подзаголовке.
И в дальнейшем, укрепляясь как одно из основных, наряду с марксизмом, течений экономической мысли, а в настоящее время став и доминирующим направлением современной экономической теории, которое претендует на всеобщее значение и признание, разработчики «экономикс», а в дальнейшем его сторонники и популяризаторы (за исключением наших российских, свернувших с пути марксизма-ленинизма в бог весть куда, и по этой причине отвергнувших заодно и политэкономию) никогда, однако, не открещивались, не выказывали и поныне не выказывают намерений отрицать своего не то что родства, а полного тождества с политэкономией. Один из «классиков неоклассики» П. Самуэльсон в своей ставшей знаменитой «Экономике» (написанной в 1948 г. и многократно переиздававшейся в дальнейшем) как нечто само собой разумеющееся, без каких-либо оговорок, написал: «Экономическая теория, или политическая экономия, как ее обычно называют…» [28, с. 26]. Сказано совершенно обыденно как о чем-то всем хорошо известном и понятном. Поэтому не только англосаксы, но и, как говорил В. Маяковский, «датчане и прочие шведы», в том же духе, т. е. «как обычно», полагают «экономикс» политэкономией2, не усматривая здесь какой-либо вообще, тем более концептуальной, разницы между ними.
Таким образом, в теоретическом соотношении политическая экономия – «экономикс», якобы образующая между ними водораздел идеологическая, как сейчас модно говорить, составляющая, отсутствует полностью, и констатировать ее здесь является грубой фактической ошибкой, для совершения которой сам «экономикс» оснований не давал. По крайней мере, до сей поры, он себя от политэкономии не отделял и заявлений о невозможности существовать с этой наукой на одной предметной территории не делал.
Вместе с тем, указывая на данное обстоятельство, нельзя упустить и другой, не менее важный в связи с рассматриваемым вопросом факт, заключающийся в том, что не только западные, но и советские авторы не отказывали в праве «экономикс» именовать себя политэкономией [см.:1], несмотря на то, что видели в «экономикс» идеологического противника и предмет для критики. Все это доказывает, что вопрос о соотношении «экономикс» и политической экономии не имеет идеологических исторических корней, он не связан с возникновением марксизма и практикой социализма в ХХ веке. Хотя в сфере экономической теории «республика ученых» с единым «законодательством», о чем в общей форме мечтал Кант, по понятным причинам не сложилась, и возникшие научные конфликты разрешались на пути «уничтожения» оппонента, не согласные стороны друг друга от политэкономии не отлучали. Случилось это уже в постсоветский период.
Реакция постсоветской российской власти, поспешившей «закрыть» политэкономию вообще, в действительности была направлена против марксистской политэкономии, приняв при этом не просвещенную, как это почти всегда случается при крутом социально-политическом переломе, импульсивную, резко и открыто идеологизированную форму, инициированную новым, ставшим у административного руля, начальством со сжатыми «кулаками полными полномочий» (Салтыков-Щедрин). Впоследствии незаслуженное и размашистое превращение политэкономии как таковой в «без вины виноватого» позволило ряду кафедр экономической теории вернуть их собственное историческое название. Но дело было сделано, ситуация «замутилась»: с подачи властей возник российский феномен «паспортизации» «экономикс» как не политэкономической науки, воспринятый, как было показано выше, его вольными и невольными (имея виду немалую часть научно-педагогической общественности) сторонниками, так и его оппонентами. Действие, тем более не разумное, в отношении политэкономии как таковой спровоцировало не всегда адекватное противодействие в отношении трактовки политико-экономического содержания уже «экономикс». Как всегда, излишняя мнительность часто не лучше того порока, на который она обращена. Появившаяся мифологема, что «экономикс» уже не политэкономия имеет целиком российское происхождение, соответственно российских же, как видим, «пап» и «мам». Прав был много поведавший на своем веку, достойный упоминания с большим почтением, наш философ М. А. Лившиц, написавший: «Я люблю либералов, когда их не жалуют, и ортодоксов, когда у них руки коротки» [10, с.98].
«Экономикс» и марксистская политэкономия различаются не как политэкономия и не политэкономия, а как две разные политэкономии. Назовем их для краткости, сохраняя в определении идеологическую по факту разнокачественность, буржуазная или правая («экономикс») и пролетарская (марксистская) – левая. Существование одной и той же науки в двух разных, и даже исключающих по своему содержанию, вариантах, означает возникновение ситуации совершенно невозможной в естественных науках. В годы перестройки при большом рыночном возбуждении умов на данное обстоятельство указывалось в качестве наиболее «железного» по своей бесспорности аргумента в пользу отрицания самого факта существования двух политэкономий. Поскольку очевидно, что не может быть буржуазной или пролетарской физики, химии, математики и много чего другого, то по аналогии в принципе невозможны и две политэкономии: лишь одна из них может быть действительной наукой. Разумеется, в этом самоценном качестве котировался «экономикс», вторая же – марксистская политэкономия – попадала в категорию «от лукавого» и определялась как псевдонаука, преподавать которую было никак нельзя.
При всем, однако, единстве функционирования и развития различных составных частей материального мира социальная материя обладает одной уникальной и исключительной, присущей только ей особенностью: она реально двойственна, т. е. и объективна, и субъективна, на том простом и очевидном основании, что, даже признавая объективную детерминированность жизненных процессов, в них действуют живые люди, одаренные волей и сознанием. «… История науки и техники, – писал видный социальный философ Э. Ильенков, – коллективно творимая людьми, процесс, вполне независимый от воли и сознания отдельного индивида, хотя и осуществляемый в каждом его звене именно сознательной деятельностью индивидов» [8, с.118—119]. Прав лишь тот ученый-обществовед, который учитывает наличие обеих данных сторон, от необходимости чего свободен ученый-естественник, имеющий дело лишь с объективными процессами мироздания.
Экономическая жизнь как реальность и как объект научного познания – в действительности структурно разнородна, что не может не отразиться на воспроизводящем его знании. Предельно обобщая, можно утверждать, что система научного знания распадается на две науки: физику и науку о сознательных явлениях. Политэкономия (в любом ее виде), разумеется, относится, к последней из указанных наук. Но при этом сами сознательные явления также распадаются на две относительно самостоятельные формы своего бытия: объективную и субъективную, т. е., в свою очередь, имеют особого рода физику – объективную форму существования, независимую от воли и желания людей, и форму, определяемую их субъективной волей. Забегая вперед, отметим: именно наличие такой двойственности составляет определяющее социально-философское и в силу этого теоретическое и мировоззренческое основание, которое развело в стороны классическую, включая марксистскую, политэкономию и политэкономию неоклассическую, сохранив при этом объединяющее их общее политико-экономическое содержание как знания об отношениях людей в процессе хозяйственной жизни.
В связи с этим нельзя не согласиться с одним из самых авторитетных отечественных политэкономов в том, что неоклассический «мейнстрим» в исходном пункте своей исторической эволюции продолжил «традиции политико-экономического жанра» [37, с.58]. Если рассматривать событийный ряд наиболее заметных теоретических шагов в историческом развитии политической экономии, то несложно увидеть, что они относятся то к одной, то к другой стороне социальной двойственности. В данной связи заслуга, если так можно сказать, А. Маршалла заключается в том, что он твердо обозначил себя последовательным представителем одной стороны данной двойственности, искренне полагая ее единственной, создал связанную с этой стороной систему теоретических представлений и тем самым как бы понудил каждого исследователя сделать свой выбор, покончив с шатаниями в разные смысловые стороны.
Отмеченный двойственный эффект социальной жизни – научное открытие Маркса, получившее отражение в его политэкономии, но не замечаемое (неважно вольно или невольно) представителями «экономикс». Признавая ведущую роль человеческой деятельности в развивающемся историческом процессе, Маркс в то же время показал, что всякий раз люди вступают в отношения друг с другом, уже находясь в определенных социальных формах, которые составляют основное и объективное по отношению к ним условие хозяйственной деятельности, остающееся вне их субъективной воли. Конечно, сугубо личные намерения не перестают существовать, но с теми или иными устремлениями, с желанием или без, с хорошим или плохим настроением, и т. д. люди вынуждены действовать так, как к этому их принуждают сформировавшиеся вне них социальные обстоятельства, которые придают субъективной воле людей объективную форму. В данном случае исходная социально-экономическая реальность, принимаемая во внимание наукой, есть то объективно общее, что в равной мере существует для всех людей (в чем они одинаковы) и социально их структурирует. Любая и всякая специфика индивидов в данном случае погашена и во внимание на этом этапе не принимается. Нельзя, писал по этому поводу еще молодой Маркс, «упускать из виду объективную природу отношений и все объяснять волей действующих лиц. Существуют отношения, которые определяют действия как частных лиц, так и отдельных представителей власти, которые столь же независимы от них, как способ дыхания» [17, с. 192]3.
С интуитивной попытки учесть объективную сторону экономических отношений, собственно, и стартовала политическая экономия как наука. Достаточно сказать, что, именно стремление У. Петти исходить в экономическом анализе из таких причин, которые имели видимое основание в природе (для него, как и для физиократов, объективность социальных законов определялась их тождественностью законам природы) и исключить все то, что зависит от мнения и желания людей, превратило его подход, как сам У. Петти с полным основанием полагал, в «нетрадиционный». Классическая политэкономия возникала через преодоление различного рода субъективно формирующихся (первоначально иначе и быть не могло) представлений об экономической жизни. Подчеркивая значимость данного обстоятельства, Маркс отмечал: «Петти чувствует себя основателем новой науки» [18, с. 39]. Как известно, эта наука в ее направленности на установление объективного закона получила дальнейшее развитие, в том числе в творчестве А. Смита, который специфику политико-экономического подхода подчеркнул даже в названии своего главного сочинения – «Исследование о природе (выделено— А.Л.) и причинах богатства народов». При этом именно поиск объективной основы подвиг его признать центральной категорией классической политэкономии труд деятельных человеческих существ, удовлетворяющих свои потребности через общественные связи. Исходный для классической политэкономии принцип объективного отражения экономической жизни был поддержан в работах Рикардо, которого Маркс особенно ценил и ставил даже выше Смита.
Комментируя методолого-мировоззренческое кредо марксизма о двойственности социально-экономических процессов, другой наш крупный философ М. Мамардашвили подчеркивал, что Маркс открыл «эффект действия или работы деятельностных, социальных или человеческих структур. Он показал, что вместе с представлениями, намерениями, целями, которыми руководствуются люди, сообразно с которыми они стремятся к чему-то, вступая друг с другом в отношения, обмениваются опытом и идеями, творят то-то и так далее, – параллельно с этим, вместе с этим, они одновременно создают, вступают в некоторые фактические отношения, которые работают физично, которые создают структуры, объективные по отношению к первым, то есть к словам, представлениям и намерениям и так далее, и которые работают, порождая свои результаты, не входившие в намерения и цели». Логическим и практическим следствием этого является, – продолжал философ, – то, что «впервые в исторических статьях Маркса (я уже не говорю о „Капитале“) вырабатывается такой взгляд, что перед лицом каждого словесного построения политической программы, политического движения как бы задается вопрос: а что это значит, а что это на самом деле и что есть независимо от этих слов и представлений, какова на самом деле будет фактическая связь, или фактическая закономерность, на основе которой и развернется человеческое действие, имеющее или дающее тот или иной результат» [12, с.100—101]4.
В приведенных суждениях М. Мамардашвили, вслед за Марксом, указывает на два ключевых основания, которые принципиальным образом определяют реальную возможность двух разных подходов к процессам экономической жизни со своими особыми требованиями к их реализации. Это либо изучение объективных по отношению к отдельному индивиду социальных форм деятельности при абстрагировании от проявлений его субъектности, что выводит на первое место качественную сторону экономических отношений в их исторической определенности и развитии, либо рассмотрение субъектной деятельности отдельного индивида, но уже при абстрагировании от исторического происхождения и объективного содержания данных социальных условий этой деятельности. Последнее, в силу природы капиталистического хозяйства, заставляет воспринимать отношения между людьми как отношения людей к вещи и, как считал А. Маршалл, «видеть вещи в их количественном соотношении» [21, с. 12], которое относится, «точнее, не столько к совокупности количеств, сколько к приростам количеств…» [21, с.49].
Но такое видение вовсе не означает, что в отличие от классического подхода «экономикс» в принципе перестает заниматься отношениями между людьми, заменив исследование этих отношений анализом отношений человека к вещи. Производственные отношения никуда не могут деться, поскольку какую бы форму ни приобретало «виденье» экономики, речь неизбежно идет о взаимодействии людей в хозяйственной деятельности. Действительная проблема здесь в том, что в сфере, к которой себя накрепко теоретически привязал «экономикс», отношения между людьми непосредственно «видятся» как отношения между вещами. Это не уход от производственных отношений (даже если этого очень хочется или почему-то нужно), а абсолютизация исторической формы их проявления в вещи, что, собственно, и доказывает марксизм. Производственные отношения – специфика предмета политэкономии. В марксизме он представлен с объективной стороны, очищенной от вещных форм выражения, и потому непосредственно, а в «экономикс» – субъективно, через отношение к вещи, – и потому имплицитно. Единство и различие предмета двух политэкономий именно в этом. Нет двух ветвей или линий единственной и некогда единой политэкономии, а есть разные политэкономии: классическая (в своем высшем взлете – марксистская) и неоклассическая. Различия здесь даже серьезнее, чем между иудаизмом и христианством с их общим – Ветхозаветным исходным пунктом.
Утверждение политэкономии, построенной на ином мировоззренческом фундаменте, нежели политэкономия классическая и марксистская стало возможным именно потому, что экономика, как и общественная жизнь в целом, является сферой сознательной деятельности людей, а значит, и проявлением их субъективной воли, от чего марксистская политэкономия сознательно в силу особенностей своей методологии абстрагируется. Тот или иной выбор, который всякий раз, не задумываясь об объективных обстоятельствах, которые понуждают проходить процедуру выбора, делает разумно действующий субъект экономических отношений, – реальный аспект этих отношений. Причем эта субъектная сторона постоянно наличествует независимо от того, понята она в связи с объективным содержанием производственных отношений или нет. Например, для предпринимателя всегда императивен практический вопрос выбора формы заработной платы, не имеющий отношения к тому или иному объяснению ее объективной природы, а именно, какую из возможных форм (или их возможных сочетаний) наиболее целесообразно применить в каждом конкретном случае (а у предпринимателя все случаи конкретные – других просто нет). Этот выбор обязателен и в этом своем качестве независим от того, определяется ли он на основе каких-либо теоретических (политэкономических) выкладок, или исходит из сугубо утилитарных соображений. Аналогичного рода вопросы, практическое решение которых целиком является продуктом деятельного сознания, возникают и, так или иначе, разрешаются в любой сфере промышленной, торговой или финансовой деятельности, в материальном и нематериальном производстве в целом. Без этого не было бы действительной экономической жизни, исключались бы различия в результатах хозяйственной деятельности и возможности их улучшения.
В историческом процессе развития политэкономии объективное наличие данной двойственности образует смысловой центр разделения единой науки на два несовместимых друг с другом направления, что дало возможность формирования как той политэкономии, которую в классических традициях разрабатывал Маркс, так и той, из которой родилась и выросла неоклассика – «экономикс», сосредоточившаяся на исследовании поведенческих, субъектно детерминированных процессов. Указанная двойственность социально-экономической жизни – объективный факт. Поэтому сам «экономикс» отказался называть себя политэкономией или кто-то ему в этом отказал никак на его научное содержание“ повлиять не может и потому значения не имеет. Проблематика „экономикс, и в значительной мере его ценностные ориентиры, не придуманы, а априори заданы той видимой стороной социально-экономической жизни, которую он исследует, добывая «свою» истину. Эта истина, пусть и в ограниченных пределах, но позволяет человеку быть грамотным и, с большим или меньшим успехом, решать практические вопросы жизни.
Нет большого смысла в том, чтобы определять природу «экономикс» перечислением того, что он может и чего не может отобразить или предвидеть, как это делается сплошь и рядом. Такой список «про и контра» всегда будет открыт, не завершен, а, значит, подобный подход не схватывает явление в его сути. Только указание на ту область в производственных отношениях, из которой происходит «экономикс», решает эту задачу, давая критерий отнесения (или не отнесения) к «экономикс» любых теоретических взглядов и подходов.
Если убрать «эффект двойственности» остается лишь то, бесспорное, что есть перед глазами и что живое общество не может проигнорировать, нравится это кому-то или нет. Сосредоточившись на субъектных отношениях «экономикс», не делает ошибки, поскольку такой объект действительно существует. Он делает ее, некритично сводя объективную реальность только к реальности субъективных оценок и полагая, что этого вполне достаточно для понимания стоимости, цены, полезности, капитала, заработной платы и других феноменов социально-экономической жизни. Но одно дело пытаться понять, кто мы такие в реально существующих в каждый исторический период конкретных жизненных обстоятельствах. И другое дело – как следует, нужно и приходиться рационально вести себя в этих обстоятельствах, какие практические ориентиры для этого существуют.
В первом случае марксизмом из исторического процесса удалялся не только «абсолют» («Бог»), что делало трактовку этого процесса материалистической, но и отдельно взятый субъект. Поэтому автор «Капитала» и мог охарактеризовать цель своего сочинения как «открытие экономического закона движения современного общества» [19, с.10]. Последнее рождало политэкономию с акцентом на исторические формы социально-экономического развития. Во-втором, – ударение ставится на противоположной стороне общественного бытия, связанной с реальной активностью отдельно взятого субъекта, но в абстракции от исторических социально-экономических форм, которые определяют содержание этой активности. Речь здесь идет об области обыденного сознания, которым люди руководствуются в повседневном поведении, о стихийно складывающихся способах психологического и эмоционального приспособления к окружающей социально-экономической действительности. В итоге оказывается, что «экономикс», как его понимал А. Маршалл, – это политэкономия субъекта, его психофизиологических проявлений в процессе экономической деятельности, т.е. можно и должно вести речь о политэкономии хозяйствования, в широком смысле – управления (что всегда носит поведенческий характер и субъектно окрашено). Но неизбежно объяснения, которые предлагает эта политэкономия, отражают уже не объективные причины и свойства, относящиеся ко всем индивидам определенной социальной группы: они суммируют то, что есть непосредственно – субъективные мнения, а значит, и возможные иллюзии, трактуя также и их в качестве реально значимых событий5. Тем не менее, как уже отмечалось, мир порождаемых этой реальностью представлений далеко не беспочвенен, он объективно обусловленная видимость. Поэтому такие представления вполне пригодны, и даже необходимы, для практической ориентации человека. В силу этого они оказываются объектом научного интереса, продуцирующего возможность появления теоретического знания.
Актуальность исследования того, как люди распределяют ограниченные ресурсы, не может быть оспорена. Но не может быть оспорена и актуальность вопросов о том, откуда берутся и какова траектория исторического развития тех общественных форм (товар, капитал, наемный труд, деньги, процент, рента и т. п. – всего этого сухого царства необходимости), в которых выступают ресурсы, подлежащие распределению, какой социально-экономический процесс их порождает и как он исторически эволюционирует. В силу этого пока жив капитализм остается жива и характеризующая эту его сторону марксистская экономическая теория, делающая предметом своего интереса именно данную тематику.
Для Маркса было совершенно естественным, понимание не только противоположности, но и правомерности двух рассматриваемых подходов к процессам хозяйственной жизни. Доказывается этот факт, в том числе, содержанием критики Марксом противоречивой смитовской формулировки задачи политической экономии. С одной стороны, полагал Маркс, «великий шотландец» видел ее в изучении объективной природы производственных отношений, в отображении «физиологии буржуазной системы», а с другой, – в том, чтобы с пользой для «человека, который практически захвачен процессом буржуазного производства и практически заинтересован в нем» (в современной терминологии – для предпринимательских и государственных структур) «отчасти описать проявляющиеся внешним образом жизненные формы буржуазного общества, изобразить его внешне проявляющуюся связь, а отчасти – найти еще для этих явлений номенклатуру и соответствующие рассудочные понятия, т.е. отчасти впервые воспроизвести их в языке и в процессе мышления» [20, с.177—178]. Маркс, как видим, полностью воспринимает обе стороны смитовского понимания, и вовсе не отрицает необходимость выработки рассудочных понятий. Предметом критики здесь является не актуальность двух подходов, а их логическое соотношение. У Смита указывает Маркс, «один взгляд более или менее правильно выражает внутреннюю связь, другой же, выступающий как столь же правомерный (выделено – А.Л.) и без всякого внутреннего взаимоотношения с первым способом понимания, без всякой внутренней связи с ним, – выражает внешне проявляющуюся связь» [20, с.178], т.е. подчеркивает Маркс, «здесь получается совершенно противоречивый способ представления» [20, с.178]. Но это не потому, что отмеченные подходы автора «Богатства народов» исключают друг друга (их сосуществование как раз «правомерно»), а лишь потому, что взгляд со стороны хозяйствующего субъекта, который непосредственно имеет дело только с внешней, эмпирически данной стороной экономических отношений, формируется у Смита, стоит повторить, «без всякого внутреннего взаимоотношения с первым способом понимания, без всякой внутренней связи с ним».
Отсюда, спор о том, чем определяется меновое соотношение товаров: затратами труда (классическая политэкономия, включая марксистскую) или полезностью (неоклассика), ведущейся вне контекста двойственности социально-экономической жизни, при абстрагировании он нее, может идти бесконечно или (в принципе) до полного исчерпания самого феномена меновой стоимости в силу возможности апеллирования сторон к действительным, реально существующим, а вовсе не надуманным фактам хозяйственной жизни. Разрешен он, может быть, только на основе использования обоих определений путем постановки их с правильную логическую и историческую взаимосвязь.
Политэкономия перестала быть классической и превратилась в неоклассическую, когда перестала предметно ориентироваться на объективно протекающие в историческом времени процессы и замкнулась на проблеме рационального выбора тех или иных хозяйственных решений на основе непосредственно данных фактов. Оторвавшись от своей объективной основы и пытаясь нащупать закономерности на уровне конкретных форм проявления, т.е. на путях прямого объяснения этих поверхностных, превращенных форм производственных отношений из них самих, «экономикс» не преодолевает «совершенно противоречивый способ представления», а прямо продолжает эту традицию – без присущего, однако, Смиту стремления к поиску другой, объективной стороны.
В этом причина того явления, которое не укладывается в формальную логику, противоречит естественным представлениям, но парадоксальным образом сочетается: признание высокой ценности теоретических разработок в рамках «экономикс», вплоть до заслуженного присуждения отдельным представителям этого научного направления нобелевских премий, до столь же обоснованной констатации советской политэкономией [см.: 1] и в ряде случаев постсоветской [5, с.26] ее вульгарного характера. Понять это можно, если не упускать из виду то, что такого рода трактовки (на манер квадратуры круга) давались при рассмотрении буржуазной политэкономии соотносительно с политэкономией марксистской – с точки зрения способности выявить действительную исторически развивающуюся природу экономических явлений. И в этой критике, как представляется, ее авторы от истины не уклонились, ведь «экономикс» даже не видел надобности в подобной задаче. Она и не может возникнуть, поскольку органически свойственный «экономиксу» акцент на здравом смысле, рассудочных отношениях, формальной непреложности специальных знаний, почерпнутых из анализа лишь поверхностных явлений, всегда реально связан с абсолютизацией частной истины и превращения ее в существо дела, порождая, в связи с этим и околонаучную ложь, особенно если она оказывается идеологически востребована.
Но в любом случае, это только одна сторона дела, вовсе не дающая оснований для категорического утверждения о том, что в целом «Практическая применимость экономикс минимальна» [30, с.19]. Подобное утверждение решительно противоречит роли «экономикс» в качестве пусть и ограниченной, но реальной теории научно осмысляемой практики. В публикациях критиков буржуазной политэкономии советского периода общим местом было признание научно-практической значимости исследований многих талантливых западных ученых. Вот типичный пассаж на сей счет: «Практическую функцию буржуазной политической экономии в системе современного государственно-монополистического капитализма лучше всего характеризует то обстоятельство, что большая часть экономистов в настоящее время мобилизована на разработку методов регулирования экономики на уровне фирм, на уровне отрасли и в масштабах всего национального хозяйства, выдвигают рекомендации по капиталистической рационализации производства»6 [24, с. 143].
В границах, которые, исходя из принятой трактовки предмета, «экономикс» фактически сам для себя установил и в которых, опять же фактически, он существует, его теоретические подходы обоснованы и практически актуальны. Но, претендуя на абсолютную истинность своих базовых утверждений, и выходя для этого за пределы этих незримых границ, он становится вульгарен и обнаруживает свою недостаточность.
Имея своим предметом лишь объективную сторону производственных отношений, марксистская политическая экономия не только не охватывает всей проблематики этих отношений, но даже не может претендовать на это, поскольку существует другая – субъектно определяемая сфера этих отношений, которую параллельно осваивает «экономикс». Никакая экономическая жизнь, предполагающая реальное хозяйствование, невозможна без понимания событий, развивающихся в этой сфере, в том числе и по советской модели на основе директивной формы народнохозяйственного плана. «Экономиксовый» подход в силу этого с неизбежностью не только имел место в Советском союзе, но и развивался. Еще в период становления советской экономической мысли осознание лишь базовой, но не всеобъемлющей роли марксистской политэкономии пришло в форме постановки вопроса о развертывании совокупности конкретно-экономических наук, фактически реализующей «экономиксовые» функции7. Первоначально монопольное положение классической политической экономии в СССР было преодолено в результате возникновения и активного развития набора отраслевых, функциональных, региональных, страноведческих экономических наук, имеющих собственное (отличное от политэкономии) содержание, среди которых политэкономия оказывалась лишь «первой среди равных».
При этом политэкономия в СССР не была общей экономической теорией, в том смысле, что она не являлась абстрактным образом обобщенно выраженного содержания всей совокупности конкретных экономик: она имела свой предмет и совершенно конкретно его исследовала, добывая новое знание, не достижимое средствами других дисциплин. Нельзя, указывая на абстрактно-аналитический метод политической экономии, утверждать абстрактный характер самой этой науки. Метод-то ведь нужен как раз для получения совершенно конкретного знания, а не намеренного дистанцирования от действительности. Суть данного вопроса в том, что в рамках изучения своего предмета, политическая экономия такая же конкретная наука, как и любая другая, относимая к категории конкретных, которые постигают свой специфический предмет собственными методами, в том числе и общенаучным методом абстракций, как это неизбежно происходит и в «экономикс»8. У каждой науки свой уровень и содержание конкретности. Если в политэкономии что-то не доработано, существует в достаточно абстрактном состоянии, то это не закономерность, не специфика данной науки, а проблема и головная боль ее разработчиков, в силу тех или иных причин, не доведших дело до логического конца, т.е. до исчерпания конкретного понимания предмета. Вот почему Г. Х. Попов не прав, когда говорит: «Я всегда считал: отличие политэкономии от той науки, которой я занимаюсь (от управления), в том, что она – наука на уровне абстрактного анализа. С этой точки зрения, мне представляется, сравнивать ее с „экономикс“ – значит отождествлять совершенно разноплановые вещи. Это все равно, что сопоставлять теоретическую биологию с какими-то предметами по медицине» [[6, с. 443].
Последнее сопоставление было бы действительно некорректно, но не в силу того, что указанные Г. Х. Поповым науки различаются по научным требованиям к уровню их конкретности, а исключительно в силу специфических особенностей их предмета (биология и отдельные медицинские дисциплины), делающих подобное сопоставление неуместным. По этой причине столь же неуместно, принимая во внимание качественное различие предметов, сопоставлять марксистскую политэкономию и «экономикс», судить о том, какой из этих предметов шире или уже9, при том, что по уровню конкретности они ничем как науки друг от друга не отличаются.
Каждая из двух политэкономий в силу двойственности социально-экономической жизни имеет свою особую нишу, сформированную характерным только для нее состоянием производственных отношений. Фундаментальная важность данного обстоятельства требует уточнения верной по своей целевой направленности мысли В. Н. Черковца о том, что две политэкономии воплощают с известной долей условности «принцип параллельного освещения с разных концептуальных позиций одного и того же предмета (одних и тех же его частей)» [3, с. 58]. Но вот части-то в силу двойственности изучаемого предмета как раз разные. Поэтому закономерно, под специфику каждой части, потребовались разные методологии, а в силу этого возникли и разные теории. Эти теории отвечают на разные вопросы, задаваемые каждой составной частью социально-экономической жизни, и поэтому, как и должно быть, дают не одинаковые, а разные ответы.
В данной связи также ввиду «эффекта двойственности» в уточнении нуждается и мысль В. Н. Черковца о характере разделения научных сфер двух политэкономий: «Фундаментальными, сущностными слоями, – отмечает он, – могла бы „ведать“ трудовая теории стоимости, а их проявлениями, функциональным взаимодействием элементов непосредственной практики хозяйствования (хозяйственным механизм) – теория предельной полезности» [6, с. 65]. При таком толковании «экономиксу» отводится то место, которое он действительно занимает в процессе познания – внешние, наглядные формы. А вот марксистская политэкономия сводится к абстрактной теории, безразличной к формам проявления изучаемой сущности, поскольку там уже сфера другой науки. Но, как хорошо известно, сущность не может быть теоретически освоена без понимания того, как она проявляется, поскольку только через логически последовательно проведенный восходящий процесс полной конкретизации она превращается из «скрытой» истины в истину системно «вскрытую». Поэтому марксисткой политэкономии совершенно не безразличны внешние, непосредственно данные, поверхностные слои производственных отношений, но только в том их виде, в каком они отвечают задачам раскрытия объективной стороны этих отношений. Ни больше, и не меньше. С учетом «эффекта двойственности» «экономикс» и марксистская политэкономия различаются не своей исследовательской принадлежностью к разным слоям структуры производственных отношений (в одном случае к абстрагировано сущностным, в другом – к внешне конкретным), а разной теоретической позицией в отношении смысла внешне данных форм: объяснять их в качестве форм проявления скрытой в них сущности или трактовать как самостоятельное событие, объясняемое из самого себя.
В этой связи весьма показательна позиция крупного ученого и практического специалиста в области экономики труда В. Д. Ракоти, отраженная в его последней монографии. Воспроизводя присущее классической политэкономии объективизированное определение стоимости рабочей силы, «тем, что необходимо рабочему для жизни и воспроизводства последующих поколений носителей способности к труду», В. Д. Ракоти справедливо замечает: «Указанное определение стоимости рабочей силы очевидно достаточно для политэкономии. Однако также очевидно, что для экономики труда с ее более конкретным и детальным исследованием процесса использования способности трудиться такое определение слишком скудно» [27, с. 46]. Рассматривая далее стоимость рабочей силы уже в рамках предмета экономики труда, где субъекты-носители рабочей силы перестают быть обезличенными и приобретают значимые индивидуальные особенности, он отмечает, что «стоимость своей способности к труду каждый работник определяет исходя из… индивидуальной совокупности условий существования и развития. Поэтому стоимость наемного труда по сути дела субъективная (выделено – А.Л.) категория» [27, с. 46].
Конечно, стоимость рабочей силы не такова как ее субъективно оценивает каждый отдельный работник: рынок такие оценки игнорирует, приводя их к какой-то общей усредненной норме. Но понять, с каких конкретных уровней, исходя из чего это невидимое глазу усреднение происходит, для того чтобы обозначить некий общественно-значимый ориентир для различных категорий работников, специалисту по экономике труда, разумеется, необходимо. Именно это его профессиональная задача, на которой акцентирует внимание читателей В. Д. Ракоти. Вот только связанный с ее решением обоснованный учет различных субъективных оценок, не должен вести, как в «экономикс», к сведению объективной реальности к реальности лишь субъективных оценок и констатации «по сути» субъективного характера экономических категорий, в том числе стоимости рабочей силы. При таком подходе происходит не развитие и обогащение понятия рабочей силы, на котором останавливается политэкономическая классика в связи с ненужностью с точки зрения ее предмета чего-то большего, а полное отрицание этого понятия и его замена
Принимая это во внимание, обеим политэкономиям ввиду их обоюдной необходимости бессмысленно соревноваться за «мейнстримную» позицию и «отжимать» друг друга в борьбе за нее. Исключительная позиция любой из них означает снижение уровня экономической науки в целом, что имело место в осознаваемом теперь прошлом и продолжается в настоящее время. Ренессанс политэкономии, который неизбежен, это не оскопление марксисткой политэкономии для ее увязки с «экономиксом» (попыток чему несть числа), а развитие собственного содержания обеих политэкономических наук. После всего пережитого и переживаемого современным обществом текущее время располагает некоторым потенциалом для этого.
В конкретных экономиках советского времени трудно было увидеть подобие «экономикс» с его сложившейся структурой и содержанием. Но ведь иначе и не могло быть, поскольку коренным образом отличались социально-экономические условия, определяющие представления о формах и характере процессов хозяйствования, особенно в довоенный период, и после войны до начала 60-х гг. Но по мере выдвижения на передний план не только насущных задач в сфере производства средств производства и ослабления мобилизационного режима хозяйственной жизни, безотлагательного требования ее ориентации на повышение жизненного уровня населения, сближение по ряду тем с «экономикс» становилось все более неизбежным. Это выражалось в разработке советской экономической наукой проблем потребностей, спроса, ценообразования, управления производством и финансами на разных уровнях, в развитии экономико-математических исследований и росте их авторитета.
Система экономических наук, которая естественно складывается на базе марксисткой политэкономии, охватывающая и объективную, и субъективную стороны, в принципе невозможна на почве «экономикс», поскольку весь спектр порождаемых им теорий выражает только одну сторону производственных отношений – субъективную. Если в первом случае система наук возникает из живой связи объективной стороны экономической жизни с формами ее практической реализации субъектами хозяйственных процессов, то для «экономикс» подобной связи в силу его специфики не существует вообще: считается, что сами непосредственно данные формы несут в себе все необходимое для науки, и формулируемый М. Мамардашвили вопрос о том, что «это значит, а что это на самом деле и что есть независимо от… слов и представлений, какова на самом деле будет фактическая связь, или фактическая закономерность, на основе которой и развернется человеческое действие, имеющее или дающее тот или иной результат», исключается. Это какое-то трудно объяснимое, особенно с познавательной точки зрения, и потому весьма любопытное отсутствие любопытства к сути дела, в чем никак нельзя отказать марксизму.
Возможность выделения основы «экономиксовых» наук (подобно политэкономии в марксистской системе экономических наук) затрудняется еще и в связи с тем, что предмет «экономикс» безмерен. В него попадает едва ли не все, связанное с хозяйственной сферой и влияющее на нее. «… Чем меньше мы предаемся схоластическим изысканиям на тему, относится ли то или иное положение к предмету экономической науки, тем лучше» [21, с. 84], – полагал А. Маршалл. Не стоит поэтому удивляться тому, что нобелевские премии по экономике нередко присуждаются за исследование объектов, далеко выходящих за сферу собственно экономики. Все это нормальное проявление «экономиксовых» подходов, как и то обстоятельство, что брендовые высшие школы экономики в нашей стране и в мире представляют собой многопрофильные научно-педагогические «универмаги», где представлены все основные сферы социальной жизни.
В таких обстоятельствах создать логическую обоснованную классификацию экономических наук, выделив в ней базовую, теоретическую часть, невозможно. Не случайно А. Маршалл определял место экономической науки в системе общественных наук [см.: 21, с.70], но даже не ставил вопрос о месте политэкономии в системе экономических наук, которую он, видимо, по крайней мере для того времени, не представлял структурно организованной. Поэтому любые классификации здесь могут носить и носят конвенциональный характер: как договорятся причастные (у нас властные) стороны, так и будет. В России договорились (решили) о существовании общей экономической теории. Но эта теория не имеет собственных научно очерченных границ и использует условные, искусственные границы, которые нужны лишь для формального разграничения номенклатуры научных специальностей и в качестве контура для вводного курса в рыночную экономику. Самостоятельного ценностного научного содержания, подобного марксистской политэкономии в системе экономических наук, в отличие от того содержания, которое представлено в соответствующих частных теориях, она не имеет. Реальность такого положения сегодня формирует «мнение не только многих политиков и бизнесменов, но и части исследователей, согласно которому возникающие в экономике и обществе проблемы можно решить без общей экономической теории, опираясь только на конкретные – отраслевые и прочие экономические науки» [см.: 23, с. 82].
Отметивший наличие такого суждения А. А. Пороховский считает его неправильным. Можно понять руководителя кафедры политэкономии всерьез обеспокоенного состоянием преподавания экономической теории, ведь в качестве нее должно предлагаться что-то базовое, а в нынешних обстоятельствах, это что-то нужно называть «общая экономическая теория». Но понятно и то, что важные и ответственные задачи преподавания, не могут диктовать форму структуризации преподаваемой науки. Это учебная дисциплина может быть общим курсом экономической теории, названным в текущей преподавательской практике общей экономической теорией или как-то еще. Но чтобы такого рода теоретический сегмент выделился в структуре самой науки, требуется не факт проявления одних и тех же закономерностей в различных направлениях и сферах хозяйственной жизни, а специфические особенности предмета науки (в данном случае общей экономической теории), реально, а не условно, дифференцирующие полученное знание в виде отдельных теорий. Делая своим предметом исследование мотивации во всех ее аспектам, и проводя эту линию в отношении анализа всего набора экономических явлений, дифференциацию по предмету, требуемую для общей экономической теории, в «экономикс» получить нельзя.
Гегель определял философию как мысль своего времени. Проблема, однако, в том, что философских теорий, рождаемых своим временем, всегда как минимум больше одной, особенно применительно к философии социальной. К середине XIX столетия главными выразителями мировоззренческих поисков своего времени стали два философских направления: разработанная уникальным прилежанием Маркса диалектико-материалистическая линия, имеющая глубокие и прочные корни в немецкой классической философии, и линия, в конечном счете, идеалистического толка (с выделением ряда течений, включая позитивистское), которой мир обязан французским и английским философам10. В этом отношении на марксистской политэкономии в исходном ее пункте «стоит печать» диалектико-материалистической философии, а политэкономическая неоклассика изначально связала себя с позитивистской философской традицией и соотносимой с ней формальной логикой, что было акцентировано А. Маршаллом [см.: 21, с. 67]. В более близкое нам время, вторя А. Маршаллу, Ф. Хайек писал: «Позитивизм определяется как точка зрения, согласно которой все истинное знание научно, в том смысле, что оно описывает сосуществование и последовательность наблюдаемых явлений… Как утверждал Гете все, что мы принимаем за факты, уже есть теория: то, что мы „знаем“ об окружающем мире, – есть уже наше истолкование его» [35, с. 139, 136].
Содержание какой угодно теории, в том числе и любой социальной, полностью определяется принятой методологией: какая методология такая и теория. В этом смысле вся идейная борьба на фронте того, что сейчас стало пониматься под общей экономической теорией, по сути своей есть борьба, провоцируемая разными методологическими установками, независимо от того, осознается это и принимается во внимание или нет. Такое положение складывается в связи с тем, что методология сама есть определенная теория, своеобразие которой в том, что она всегда реализует себя в предметном мире другой теории, оказываясь представленной по этой причине в каждом ее элементе. Если задача науки заключается в постижении объективной истины, то ближе к ней, при прочих равных условиях, оказывается та теория, методологическое оснащение которой, в свою очередь, полнее и глубже отражает эту самую истину. Все эти по большому счету тривиальные на сегодня утверждения, которые проходят по ведомству философской науки, в полной мере неизбежно определяют современное состояние экономической науки и, конечно, всю историю ее развития, вызывая появление различных школ и течений, с их совсем не совпадающими зачастую выводами в отношении одних и тех экономических явлений.
Для Маркса построению его экономической системы, углублению в собственно экономическую проблематику предшествовала работа по выработке нового философского взгляда на мир, новой теории познания, в связи с чем, имея в виду диалектику, Маркс открыто объявил себя учеником Гегеля. Акцент на философскую сторону дела в работах Маркса столь заметен и продуктивен, что, оценивая научные заслуги Маркса, ряд зарубежных и отечественных исследователей готовы видеть в нем, прежде всего, «одного из самых значительных, но наименее понятых философов», а не экономиста [26, с. 30].
Совсем иначе в этом отношении выглядит творческий путь А. Маршалла. Его мировоззренческие ориентиры типичны и традиционны для британского ученого своего, да, пожалуй, и нынешнего времени, настолько они устойчивы. Английская философская школа (как и французская) не заметила Гегеля и всей прочей «ученой дремучести» немцев с их диалектической картиной мира. В отличие от Маркса философия как основание методологии научного анализа не стала специальной областью интересов А. Маршалла, в зависимость от которой ставились бы экономические исследования: его занятий философской этикой для этого было недостаточно. Для высокого научного сообщества, которому принадлежал А. Маршалл (а это на протяжении всей его творческой жизни Кембридж), подобная необходимость отсутствовала как таковая. Принцип логического позитивизма как ведущий принцип естественно-научного мышления, ставящий превыше всего практический опыт, на основании которого развивались математические, астрономические, медицинские и все другие актуальные знания, в этой интеллектуальной среде не подвергался сомнению [см.:16, с.21], был общепризнан, универсален и господствовал повсеместно, как бы не оставляя иного выбора для всех желающих изучать что угодно, в том числе и хозяйственную жизнь. Истина при таком подходе не была уже гегелевской «вещью в себе», не была скрыта напластованием конкретных, часто искажающих ее суть форм выражения, а находилась на поверхности и наблюдалась непосредственно: ее нужно было лишь правильно рационально логически осмыслить, систематизировать, измерить, спрогнозировать направление и динамику изменения.
Данная философия делает «экономикс» наукой формально-технической, специфика которой в том, что она имеет перед собой в качестве изучаемых пространственных соотношений параметры именно экономической жизни общества, проявляющиеся как видимая данность. В этой связи А. Маршал писал следующее: «Смысл существования политической экономии (выделено – А.Л.) в качестве самостоятельной науки заключается в том, что она исследует главным образом ту сферу действий человека, побудительные мотивы которой поддаются измерению и которая поэтому больше, чем другие, подходит в качестве объекта систематических заключений и анализа» [21, с.70]. Отсюда естественный крен «экономикс» в сторону статистических наблюдений, оценок и измерений, получающих количественную, а значит, математическую форму своего выражения, и далее в экономическую кибернетику, эконометрику и т. п. Как заметил Кейнс, это «оказывает огромное влияние на умных начинающих экономистов…», но «…обычно отходит на задний план, когда мы глубже проникаем в тайны предмета исследования» [21, с. 20].
Диалектика нужна там, где необходимо докопаться до исторически развивающейся сути дела. По нашему мнению, быть диалектиком хорошо, но быть диалектиком всегда и во всем чистое доктринерство [см.: с.14]. В сфере господства рассудочных отношений и здравого смысла востребованности диалектики нет, – логический позитивизм (эта характернейшая особенность англосаксонского эмпирического склада ума), здесь вполне «на своем месте» и уместен как научный метод. Его теоретический инструментарий весьма приспособлен для оперирования в рамках здравого смысла. Есть целые области знания, не говоря уже о его применении, например, право, которые по самой свое природе требует именно формальной логики. Поэтому-то А. Маршалл совершенно иначе, чем Маркс со своей диалектико-материалистической теорией познания, видит условия собственной исследовательской задачи: «Предстоящая нам работа настолько многообразна, что значительную ее часть следует предоставить вышколенному здравому смыслу (выделено – А. Л.), который выступает последним арбитром (выделено – А. Л.) при решении любой практической проблемы. Экономическая наука воплощает в себе лишь работу здравого смысла, дополненную приемами организованного анализа и общих умозаключений, которые облегчают задачу сбора, систематизации конкретных фактов и формулирования на их основе выводов… В употреблении терминов экономическая наука должна возможно ближе следовать житейской практике. Ее аргументы должны быть выражены языком, понятным широкой публике. Она поэтому обязана приспособиться к привычным терминам повседневной жизни и, насколько возможно, применять их так же, как они обычно употребляются» [21, с. 95]. «Но это, – добавляет А. Маршалл, сталкиваясь с реальными возможностями позитивистской методологии, – не всегда отвечает логике и точности» [21, с. 109]. В данном пункте А. Маршалл добросовестно указал, быть может, на самую замечательную особенность «экономикс» – невозможность его полной философской продуманности, не позволяющей в ряде случаев найти решения без нарушения позитивистских представлений.
Еще раз подчеркнем, какая методология – такая и теория. Сложившиеся две политэкономии – это, прежде всего, две разные философские школы, определившие разные методологические подходы к предмету исследования. Собственно, они и определяет специфический вид каждой теории, ее родовые основания, которые принято характеризовать как «твердое ядро», присущее только данной теории в отличие от других теорий, исследующих тот же объект. В этом отношении совершенно неожиданным является утверждение А. В. Бузгалина о том, что «„твердым ядром“ неоклассики являются методология и категориальный аппарат (выделено – А.Л.), вырастающие из марксизма» [4, с. 8]. Что это, ошибка при редактировании текста или очередная попытка сближения «экономикс» с марксизмом, в данном случае слева – т. е. с позиций марксизма? Но такого рода, вроде бы как честь, оказываемую основоположникам марксизма их не в меру деятельными сторонниками, они полагали для себя неприемлемой и безоговорочно отвергали. В данном пункте даже А. Маршалл, имей он такую возможность, сильно удивился бы подобному утверждению А. В. Бузгалина, ведь в отношении «твердого ядра» своей теории он специально пояснил от какого наследства (методологии и «твердого ядра» политэкономической классики) «экономикс» отказывается решительно: «… склонность Рикардо придавать чрезмерное значение роли издержек производства при анализе оснований, обусловливающих меновую стоимость, причинила особый вред делу» [21, с. 146] – категорически заявил он, в том числе в пику Марксу, который очень высоко ценил Д. Рикардо и ставил его в истории экономической мысли выше А. Смита. Где же тут сохранение «твердого ядра», восприятие методологии и категориального аппарата марксизма, если под ними понимать, как это только и может быть в науке, понятийный аппарат, а не использование в разных теориях одних и тех же слов и терминов, абстрагируясь от их разной сути в этих теориях?
Нет ничего удивительного и являющегося заслугой какой-то одной теории то, что классическая и неоклассическая теории, а также в принципе любая другая, имея один и тот же объект исследования, обречены, в связи с этим использовать одни и те же, общие для них, слова, термины и даже определения, возникающие из практики на основе здравого смысла, с которого начинается любая теория. Таковы товар, деньги, капитал, рента и т. д., и т. п. В этом отношении все экономические теории имеют не разное, а одинаковое «твердое ядро» и единый категориальный аппарат просто потому, что они экономические по своему роду. Но все принципиальным образом меняется, когда речь идет не просто об общих терминах и их абстрактных определениях, а о теоретическом понятии категорий в каждой теории. На этом логическом уровне проявляется и различие методологий, и формируется разное «твердое ядро», специфическое для каждой теории. В данном отношении «твердым ядром» марксизма являются теории стоимости и капитала, методологическим основанием которых является материалистическая диалектика, а «ядром» «экономикс» – теория предельной полезности с соответствующим методологическим оснащением в виде логического позитивизма. Места для суждения о теоретической преемственности данных наук здесь нет совершенно и искусственно ее выводить занятие в лучшем случае бесполезное.
Утверждать, что «экономикс» вобрал в себя что-то специфическое из марксисткой политэкономии, наработанное исключительно ею, несерьезно. Это нисколько не поднимает авторитет марксизма, а скорее роняет его нарочитыми и в данном аспекте ложными претензиями на теоретическую значимость, которые способны вызвать лишь обоснованное недоумение и усмешку удивления у представителей «экономикс». Что бы А. В. Бузгалин не имел в виду, какие бы специальные смыслы во благо марксизма он не вкладывал в свое приведенное выше утверждение, оно крайне неудачно и не идет на пользу современным марксистским исследованиям, которые нисколько не нуждаются в том, чтобы обосновывать их значимость подобным сомнительным образом.
В силу особенностей принятых методологий у двух политэкономий налицо, коренное различие в понимании историзма в экономике. По мысли Маркса, уходящей корнями в философию Гегеля, все человеческое, включая экономику, в конечном счете, является историческим. Т. е. историзм является теоретической доминантой, положенной Марксом в обоснование самодвижения капиталистической организации общества, в ходе которого эволюционируют ее системные характеристики. А. Маршалл же, согласно Кейнсу, «всегда стремился подчеркивать именно преходящий и изменяющийся характер форм организации бизнеса, форм, в которых находит воплощение экономическая деятельность» [21, c. 43]. Но внимание к изменению различных форм экономической деятельности, к общественной практике в целом, не есть внимание к внутренней историчности общественной жизни. Небрежение историзмом в «экономикс» ведет к тому, что социальные, значит, исторически возникшие и преходящие качества вещей, рассматриваются в качестве их естественно-природных и потому вечных свойств, соответственно, как их естественно-научные характеристики. В этом своем качестве абсолютизируя действительность, логический позитивизм трансформируется в некритический позитивизм.
Именно отсюда в рассматриваемых политэкономиях принципиально разные концепции труда и человека. Для Маркса труд – центральная историческая и логическая политэкономическая категория. Человек рассматривается как деятельное существо, изменяющее себя в процессе труда посредством собственной деятельности. Отсюда, что человек делает как таковой, и какие субъективно-психологические особенности его личности формируются под воздействием специфики исторических форм, в которых он вынужден осуществлять свою жизнедеятельность, – разные вопросы. Именно отдельные исторические эпохи делают совокупность людей, связанных определенными социально-экономическими отношениями в значительной степени носителями особых моральных качеств. Так существенной чертой буржуазного общества является овеществление всех общественных отношений и, соответственно, всех сущностных сил человека. Неоклассика ввиду отсутствия исторического контекста эту проблему не замечает и не принимает во внимание, списывая все на естественно-дурную природу людей. Ее изначальное кредо – человек-эгоист, в связи с чем А. Маршалл высказывается, в частности, следующим образом: «Если конкуренции противопоставляется активное сотрудничество в бескорыстной деятельности на всеобщее благо, тогда даже лучшие формы конкуренции являются относительно дурными, а ее самые жестокие и низкие формы попросту омерзительными. В мире, где все люди были бы совершенно добродетельны, конкуренции не было бы места, но то же самое относится и к частной собственности, и ко всем формам частного права… Таков тот „золотой век“, который могут предвкушать поэты и мечтатели. Но если трезво подходить к делу, то более чем глупо игнорировать несовершенства, все еще свойственные человеческой натуре» [21, с. 64].
Для А. Маршалла моральные издержки человеческой природы – лишь очевидный факт, дающий основание для констатации, объяснения и через это оправдания существующего порядка, вне учета специфики влияния, которое этот порядок оказывает на психику человека. Поэтому свойства человеческой натуры, возникающие из особенностей капиталистической организации общества и неразрывно с этой организацией связанные, представляются ему как исходно природные свойства людей, препятствующие наступлению «золотого века». Действительная же ситуация, как это было замечено более вдумчивыми и профильными исследователями, все-таки иная и требует раздельного понимания природы человека и тех социальных условий, в которых эта природа осуществляется. «Для доказательства того, что капитализм соответствует естественным потребностям человека, – писал Э. Фромм, – требовалось показать, что человек по природе полон духа соревновательности и взаимной вражды. Экономисты „доказывали“ это в терминах ненасытного закона выживания, наиболее приспособленных к экономической выгоде, а дарвинисты в терминах биологического выживания» [33, с. 164].
Вся внешняя данность буржуазного мира объективна и реальна. Проблема, однако, в том, что это искривленная правда жизни. Например, понимание в «экономикс» под ценой того, что «дают за товар» соответствует эмпирическому опыту участников товарного обмена и, воспринимаясь ими как вывод из их личной практики, трактуется в качестве сущностного для рыночного хозяйства (в психологии подобное наречено «ага-эффектом»). При этом не учитывается, что эмпирическим в данном случае является не только сам опыт, ведущий к такому определению цены, но и то состояние, в котором опыт приобретен. Между тем человек, делая свой свободный, как ему кажется, выбор, изначально уже детерминирован наличными ценами и установившимся в данный момент соотношением между ними, а также располагаемой суммой денег. В итоге возникает классическая антиномия: цена на товар обусловливается совокупными общественными предпочтениями, а таковое – существующей ценой, т.е. исходное утверждение столь же справедливо, как и ему противоположное. Получается логическая конструкция – добрый человек – добр.
В «экономикс» это тупиковое положение преодолевается с помощью логического «антиприема», который в свое время был использован группой авторов в качестве абсолютно необходимого и основополагающего при совершении «субъективной» революции или революции «предельной полезности». «Выстроить экономическую теорию в последовательную стройную систему, – объясняет его суть Ф. Хайек, – этим революционным мыслителям помогло как раз открытие того, что предшествующие экономическим явлениям события не являются определяющими их причинами и не могут служить для их объяснения» [5, с. 170]. Этим «открытием» было покончено с мытарствами классической политэкономии искать основания цены в производстве, из которого возникает потребительная стоимость, и родовой отпечаток которого она на себе несет в сфере обращения. Освободившись от этого сковывающего позитивистскую мысль факта, можно было без помех переходить к утверждению абсолютной истинности предельной полезности для определения цены, поскольку никто из теоретиков и вне их не может оспорить данный факт, который как таковой действительно существует независимо от любых предшествующих событий.
То же самое получается при трактовке спроса. Спрос, как адекватное системе товарного хозяйства платежеспособное выражение общественной потребности в конкретных потребительных стоимостях, непосредственно представляет собой определенную сумму денег, полученную за уже реализованные товары, ранее созданные в производственном процессе (распределяемую сегодня по многообразным каналам между рыночными субъектами – физическими и юридическими лицами, включая государство); больше этой денежной массе взяться неоткуда. Содержащаяся же в цене произведенных товаров «кристаллизованная» трудовая субстанция (затраты живого и овеществленного труда) независима от «модуса» любых субъективных устремлений к каким-либо покупкам11. Поэтому спрос всегда в итоге оказывается ограниченным количественными параметрами этой субстанции. Отсюда все известные средства госстимулирования искусственного расширения спроса, раньше или позже наталкиваясь на это объективное ограничение, становятся катализаторами различной глубины финансово-экономических кризисов (новейшие потрясения в национальных и глобальном хозяйствах – одно из тех подтверждений). «Доверие и оптимизм потребителей» имеют здесь, конечно же, важное значение, но лишь в роли дополнительных, действующих в некотором временном интервале, факторов, не спасающих вне приведения распределения, в том числе и через кризис, затрат общественного труда по отраслям народного хозяйства (лежащего в основе соотношения спроса и предложения) в определенное равновесное состояние.
«Экономикс» изначально теория буржуазной практики со всеми вытекающими отсюда следствиями для трактовки ее социально-экономического содержания. Но с опорой на эту теорию, основные постулаты которой признаются незыблемыми, эта практика выражалась в неоднозначной экономической политике. Ее сегодняшние варианты, в том числе в нашей стране, сильно отличаются от того, какие социальные идеи вынашивались отцами-основателями «экономикс». Сегодня «экономикс» воспринят и излагается совершенно не в том виде, в каком он родился. Это полезно знать и помнить, когда решается вопрос об ответственности «экономикс» как науки за проводимую социально-экономическую политику. Тут часто «экономикс» как наука отождествляется с его вольными и предвзятыми трактовками в виде экономической политики рыночного фундаментализма. Но А. Маршалл и его поколение ученых-экономистов вовсе не были асоциальными людьми, как это может показаться при прочтении работ их современных последователей. «Главная задача экономической науки в наше время, – писал он, – заключается в том, чтобы содействовать решению социальных проблем» [21, с. 100]. По оценке основоположника кейнсианства, «Маршалл труд своей жизни посвятил переработке науки «политическая экономия» в науку о «социальном усовершенствовании» [см.: 21, с. 33]. Сравним это с эпатажным высказыванием одного из авторитетных «гуру» рыночного абсолютизма: «Я не считаю, что получившее широкое хождение понятие «социальной справедливости» описывает какое-то возможное положение дел или хотя бы вообще имеет смысл… Прилагательное «социальное» («общественное») … вероятно, стало самым бестолковым выражением во всей нашей моральной и политической лексике» [см.: 35, с. 17, 197]. Все это говорит о том, что рынок одновременно и форма прогрессивного саморазвития общества, и форма глубокого предрассудка, когда эта роль рассматривается вне исторически, абстрактно и абсолютизируется вопреки складывающимся социальным (а также национальным) императивам.
В классической неоклассике этого нет. Близко знавший А. Маршалла Кейнс свидетельствовал о том, что первый «был знаком с работами немецких экономистов, в том числе Маркса и Лассаля» [см.: 21, с. 16]. И хотя в Маршалловых текстах нет ни анализа их позиций, ни даже упоминания их имен, не исключено, что не без влияния антибуржуазного настроения этих «немецких экономистов», он посчитал необходимым обратить внимание на следующее: «В действительности почти все создатели современной экономической науки, были людьми благородными и благожелательными, проникнутыми чувством гуманности. Они мало заботились о богатстве для себя лично, но много внимания уделяли широкому его распространению среди народных масс.., были приверженцами доктрины, согласно которой благосостояние всего народа должно быть конечной целью всей частной деятельности и всей государственной политики (сравним с идейными установками нашего времени, особенно в период „лихих 1990-х“! – А. Л.). Но они проявляли и большую смелость и большую осторожность: они казались безучастными, так как не брали на себя ответственность за отстаивание быстрого продвижения по неизведанным путям, ибо единственной гарантией безопасности таких путей служили лишь доверчивые надежды людей, обладавших пылким воображением, не охлажденным знанием и не приведенным в систему глубокими размышлениями» [21, c. 105].
В этих словах, подтвержденных всей научной жизнью и практической деятельностью их автора (принимавшего, в частности, участие в работе различных правительственных и неправительственных институтов, занимавшихся социальными вопросами) выражена вечная проблема выбора между радикальным и консервативным способами осуществления назревших социальных изменений, между революцией и реформой, даже если это реформа по А. Маршаллу определенной направленности – во имя «благосостояния всего народа». Предупреждение А. Маршалла, конечно, уместно. Одна из возможных ошибок всех революционеров – склонность переоценивать свои силы, сложившуюся историческую обстановку, умонастроение своих современников. Тянуть цветок руками вверх, чтобы он быстрее вырос, руководствуясь лишь субъективной волей, – это легко возникающая детская болезнь избыточного социально-экономического радикализма.
Тем не менее, из этой правильной мысли не должны делаться категорические и односторонние выводы. Наука, конечно, дает предостережения и учит смирению перед действительностью, но вместе с тем именно знание, которое она дает, развязывает руки для наполнения предвидения будущего конкретным содержанием и, значит, формирует реальные основания для правильных, имеющих полные шансы на успех, действий.
Характеризуя социальную позицию А. Маршала, Кейнс писал, что «глубокое сочувствие социалистическим идеям совмещалось, однако, со старомодной верой в могущество сил конкуренции» [21, с. 33]. Это, конечно, способствовало возникновению теории, в которой, чтобы не думал ее автор, «погашены» классовое противостояние и взрывающие системное единство социальные противоположности, которые, как известно, в ряде современных работ считаются полностью преодоленной исторической формой. Но последнее хорошо лишь для целей самоуспокоения, поскольку здесь политически возможное, выдается за политически уже достигнутое. Фактически у А. Маршалла экономическая теория как оправдание существующего порядка примеряла его с собственными неудовлетворенными этическими взглядами. Сам он объяснял это так: «От метафизики я перешел к этике и считал, что трудно оправдать нынешние условия жизни общества. Один мой друг постоянно твердил мне: ах, если бы разбирался в политической экономии, ты бы так не считал» [21, с. 9]. Экономическая теория, делающая, по разделенной А. Маршаллом мысли его знакомого, нравственные ценности лишь личным, субъективным, поскольку они не вытекают из ее содержания, делом каждого, позволяет трактовать содержание теории предельно асоциально, ведь рынок сам по себе не имеет социальных целей, они отсутствуют в его назначении. Опуская гуманные аспекты науки (в том числе «экономикс»), которые по А. Маршаллу, последняя обязана вносить в жизнь в качестве своего естественного предназначения, не сложно основывать на этом экономическую политику, по существу, обслуживающую интересы лишь ограниченной части общества, чем является по своей сути современный крутой неолиберальный перегиб в экономике. Так всегда бывает с крупными социальными учениями. Со временем к интеллектуальному ресурсу их создателей подключается демагогический ресурс последователей-эпигонов, мешающий адекватному восприятию возникших теорий и вне всякой меры их политизирующий.
Но пример А. Маршалла показывает, что не следует категорически полагать будто бы сочетание экономиксовых взглядов и элементов критического отношения к капитализму как социально-экономической системе, проведение социально ориентированной экономической политики несовместимо в принципе. «Права собственности, – в опровержение этого писал он, – вовсе не были предметом поклонения для великих мыслителей, которые создали экономическую науку, но авторитет этой науки незаконно присвоили себе те, кто возводит укоренившиеся права собственности в крайнюю степень и использует их в антиобщественных целях (написано, как будто о „героях“ постсоветского экономического реформирования, – А.Л.). Можно поэтому подчеркнуть, что строгое экономическое исследование должно основывать права частной собственности не на некоем абстрактном принципе, а на том факте, что в прошлом они были неотделимы от неуклонного прогресса» [21, с. 106]. Говоря современным языком, демократия и права человека носили для ученых поколения А. Маршалла характер ценностей, приоритетных по отношению к сугубо рыночным, т. е. рынок, по их устойчивому убеждению, это не цель, а средство. Поэтому, исходя из приоритета цели, он не должен наносить ущерб правам человека, и призван уступать там, где в результате «неправильного понимания и неправильного использования экономической свободы» [21 с.106] эти права ставятся под угрозу ради рынка12. Добавим от себя на злободневную у нас тему: ради макроэкономической стабильности рынка, главным инструментом обеспечения которой считается сжатие денежной массы, что делает такую стабильность не в абстрактной теории с ее специальными допущениями и ограничениям, а в реальной жизни, недостижимой.
Результаты более чем 20-летней подобной практики тому полное доказательство. Финансовая политика в нашей стране всегда была направлена своим острием на преодоление высокой инфляции. Однако положительных результатов, как и обозримых перспектив их достижения, нет, зато есть вызванная такой политикой закупорка кредитования реального сектора. Но если нет денег (особенно длинных пассивов у предприятий), – нет инвестиций. Нет инвестиций, – нет развития. Нет развития, – есть неизбежная социально-экономическая стагнация (двадцать лет темпы экономического развития в пределах одного процента), создающая нарастающие трудности в реализации внутренних и международных задач государства, которые становятся только более сложными и ответственными. С позиций национальных интересов такой страны как Россия губительно видеть главные основания экономического роста в факторах, которые формируются вне ее, в глобальной экономике: прежде всего в возможном благоприятном изменении мировых цен на сырьевые ресурсы и курса валют, вместо и в ущерб последовательной и настойчивой работы по формированию внутренних системных механизмов и приоритетных национальных источников роста. Стране, как и каждому человеку, отводится определенное историческое время, в которое надо успеть уложиться, если дорога собственная самобытность. Так или иначе, но историческая Россия при всех формах правления справлялась с этой задачей. Пассивное во многом ожидание нынешними властями лучшей внешнеэкономической конъюнктуры, сопровождаемое по большому счету лишь призывами к инновациям и модернизации, всегда чревато тем, что отведенное стране историческое время будет упущено.
Возможность некоего ренессанса политэкономии вызвала в нашей стране немало взволнованных толков и пересудов в среде преподавателей политэкономии дала дополнительный импульс к созданию учебных курсов и подготовке пособий, содержащих попытки найти точки соприкосновения, какие-то рациональные «стыки» двух основных течений современной экономической мысли. Отдельным нашим активным авторам современная экономическая теория видится объединяющей («синтезирующей») неоклассическую и марксистскую политэкономию под неким «старым новым» названием. Можно понять смятение преподавателей высшей школы: оставаясь в профессии, им пришлось подобно театральным актерам вживаться в навязываемые новой идеологической и теоретической парадигмой обстоятельства и начинать так или иначе (более или менее комфортно) в них существовать. Но, как по некоторым воспоминаниям втолковывал Маркс, не принуждайте к поцелую то, что противоречит друг другу».
Здесь, представляется уместной следующая аналогия. Все понимают: нелепо ожидать, что артисты балета откажутся от своего особого сценического языка – танца, перестанут двигаться, замрут и начнут петь. Однако не исключено, что кто-либо из театральных модернистов-постмодернистов уже вынашивает подобные планы или даже осуществил их, ибо побудительный творческий мотив здесь заключается единственно в том, чтобы сделать то, чего еще не делал никто. Но в итоге будет испорчен балет, а полноценная опера не возникнет. В любом случае это станет лишь механическим сопряжением разных театральных жанров, а не созданием нового «синтетического» жанра – настолько велики различия в профессиональной подготовке и физических данных исполнителей, характере музыки, сценических костюмах, эстетике, и т. д.
Сегодня уже можно посмотреть, что из попыток подобного принуждения к «синтезированию» разнородной экономической мысли получилось. Но, принимаясь за такую работу и оценивая ее результаты, представляется необходимым, прежде всего, ответить на вопрос: существует ли в принципе возможность научного сведения воедино столь непримиримо и воинственно настроенных в отношении друг друга течений современной социальной мысли?
Ответ на этот принципиально значимый вопрос, связанный, конечно, не только с преподаванием, но и с ходом научных исследований, думается, не может быть найден при оперировании только теми представлениями о марксистской политэкономии и неоклассике, которые определяются их возникшим историческим спором за научный приоритет, за право быть единственным носителем истины в экономической теории. Работы авторов, в разное время сопоставлявших марксистскую политэкономию и «экономикс» [см.: 3], независимо от того, к какой из этих двух политэкономических систем они себя относят, рассматривают только эту, конфронтационную, линию их взаимоотношений (речь идет о размежевании классики, включая марксизм, и неоклассики, наметившемся вместе с появлением обеих политэкономий и детерминирующем необходимость выбора между трудовой теорией стоимости и теорией предельной полезности со всеми вытекающими отсюда теоретическими и практическими следствиями). Но при очевидности наличия реального научного содержания у этого спора, при несомненной теоретической его оправданности он не исчерпывает всей проблематики взаимоотношений двух политэкономий.
Дело в том, что во взаимоотношениях двух наук выделяются не один единственный, а минимум два разных плана: первый, проходящий через всю историю экономической мысли, где обе политэкономии конфликтно сталкиваются, отстаивая прежде всего истинность своих исходных посылок, и второй, где каждая политэкономия остается «при своих» и выступает со стороны своей предметной специализации. Причем, если в первом плане, связанном с «борьбой на уничтожение», искомый результат не может быть достигнут (противоборствующие стороны продолжают надеяться на обеспечение своей монополии на теоретическом поле), то второй лишен конфронтационности: здесь у каждой политэкономии своя научно-практическая сфера (т.е. в принципе может, и, думается, должен быть поставлен вопрос о сотрудничестве).
Органически синтезировать две политэкономии в одну невозможно в силу принципиального различия предмета: все такого рода попытки приходится признать ненаучно-утопическими [см.:29]13. Но их, образно говоря, неорганический синтез – в смысле использования разнокачественных теоретических результатов обоих наук, несводимых в единую политико-экономическую теорию, – представляется и возможным, и необходимым. Только он, думается, сулит перспективу преодолеть серьезные проблемы современного этапа мирового развития, увидеть контуры качественно новой модели этого развития – уже не в черно-белой проекции, как раньше (в дихотомии «план или рынок», «частная собственность или общественная), а в действительно переходной реальности. Для этого нужны обе политэкономии и четкое понимание того, за какую сторону социально-экономической жизни общества каждая из них отвечает.
Рыночная экономика сильна тотальной самововлеченностью субъектов в процесс хозяйственной жизни, нацеливая их только, как им кажется, на эффективные действия. Но исходящая отсюда рациональная активность людей отправляется от стихийно формирующейся и к тому же многоголосой информации, которая поэтому противоречива, приходит с опозданием, переменчива и политически уязвима. Сам рынок при этом ни в одном из своих проявлений в каждый данный момент не подает ложных сигналов: все они истинны, правдивы по своему происхождению, даже если имеет место манипулирование рынком. Фундаментальная рыночная неопределенность феномен не рынка, который всегда таков, каков он есть, а устойчивое состояние знаний о нем ввиду указанных выше причин. В таких условиях сам того не желая, эффективный субъект (государство, собственник, менеджер и т. п.), не имея возможность контролировать ход технического, научного и экономического развития всегда рискует и нередко обрекается быть неэффективным, после чего он начинает новый поход за «птицей счастья», повторяя весь цикл.
Границы, через которые «экономикс» перешагнуть ныне не может, несмотря на всю силу ума ее создателей, целиком определяется тем, что он исчерпал возможность развития экономической теории на базе субъективного подхода, разработав до артистического уровня те аксиомы, которые из него вытекают. Предельная полезность как ведущий принцип этой науки закономерно породила предел ее полезности, поскольку рамки теоретической и практической значимости «экономикс» задаются обращением к исследованию лишь внешне данных форм, а значит уже свершившихся фактов, в которых «погашен» тот действительный подводящий к ним процесс, без учета которого явление не может быть вполне адекватно понято.
Достоинства рыночной системы оборачиваются крутым недостатком, который нельзя коренным образом исправить регулирующими действиями государства. Последние, всякий раз сдерживая далеко зашедшую разрушительную войну «всех против всех» с ее экономическими и социальными последствиями, всегда вынужденно ограничивают главную движущую силу рынка – конкуренцию. Со временем положительный эффект регулирования (в зависимости от жесткости такого рода мер), так или иначе, рассасывается, а отрицательный эффект ограничения конкуренции накапливается и оборачивается торможением экономического роста со всеми его социально-экономическими последствиями, оживляя неоклассические идеи, за «спиной» у которых привычно, теперь уже, ждут своего часа теории кейнсианского толка. Все они, и первые, и вторые, связав себя с позитивизмом, не содержат теоретического аппарата выхода за пределы этой методологии, а значит, из того круга идей, без фундаментальной критики которого будет происходить неизбежное, но совсем не обязательное, топтание на месте. Тут требуется другая политэкономия.
Принимая это во внимание, обеим политэкономиям ввиду их обоюдной необходимости бессмысленно соревноваться за «мейнстримную» позицию и «отжимать» друг друга в борьбе за нее. Исключительное положение любой из них означает снижение уровня экономической науки в целом, что имело место в осознаваемом теперь прошлом и продолжается в настоящее время. Ренессанс политэкономии, который неизбежен, это не оскопление марксисткой политэкономии для ее увязки с «экономиксом» (попыток чему несть числа), а развитие собственного содержания обеих политэкономических наук. После всего пережитого и переживаемого современным обществом текущее время располагает некоторым потенциалом для этого.
Библиографический список
1. Альтер Л. Б. Избранные произведения. Критика современной буржуазной политической экономии. – М., 1972.
2. Альтюссер А. Ленин и философия. – М.: Издательство «Ад Маргинем», 2005.
3. Бем-Баверк Ойген. Критика теории Маркса. – М.: Социум, 2002;
4. Бузгалин А. В. «Классическая политэкономия: путь в университеты». Вопросы политической экономии. 2015. №1. —С. 8.
5. Воейков М. И. Рыночный фундаментализм, и новая волна вульгаризации в экономической науке. Вопросы политической экономии. 2015, №1.
6. Дзарасов С. С. Сквозь призму перемен. В кн. «Судьба политической экономии и ее советского классика». Авт. Дзарасов С. С., Меньшиков С. М., Попов Г. Х. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
7. Дробницкий О. Г. Мир оживших предметов. – М., 1967.
8. Э. В. Ильенков. Диалектическая логика: Очерки истории и теории. – 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1984.
9. Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. – Т. 18.
10. Лившиц М. А. Varia. – М.: ООО «Издательство Грюндриссе», 2010.
12. Мамардашвили М. Опыт физической метафизики. – М.: Издательство «Прогресс-Традиция» – Фонд Мераба Мамардашвили, 2009.
13. Мамардашвили М. К. Категория социального бытия и метод его анализа в экзистенциализме Сартра. В кн.: Современный экзистенциализм. Критические очерки. – М., 1966;
14. Мамедов О. Ю. Десять классических принципов политико-экономического анализа. Вопросы политической экономии. 2015, №1.
15. Макконнел К. Р., Брю С. Л. Экономикс. Книга I. – М.: Республика, 1993.
16. Мареев С. Н. Из истории советской философии: Лукач-Выготский-Ильенков. —М.: Культурная революция, 2008. – (AESNTNICA).
17. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. «2-е изд. – Т. 1.
18. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т. 13.
19. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. «2-е изд. – Т. 23.
20. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т. 26. – Ч. 1.
21. Маршалл М. Принципы экономической науки. Т. 1. – Издательская группа «Прогресс», 1993.
22. Проблемы дальнейшего развития методологии и теории политической экономии и задачи совершенствования подготовки специалистов по политической экономии / Под ред. Н. А. Цаголова. – М., 1975.
23. Пороховский А. А. Цивилизационное значение политической экономии. Российский экономический журнал. – 2015. №3.
24. Проблемы дальнейшего развития методологии и теории политической экономии и задачи совершенствования подготовки специалистов по политической экономии / Под ред. Н. А. Цаголова. – М., 1975.
25. Розенберг Д. И. К вопросу о классификации экономических наук//Вестник Коммунистической Академии. – 1933.– №5—6.
26. Рокмор Т. Маркс после Маркс: Философия Карла Маркса. – М.: «Канон» +» РООИ «Реабилитация, 2011.
27. Ракоти В. Д. Наемный труд: стоимость, цена, прибавочная стоимость. – М.: Финансы и статистика, 2015.
28. Самуэльсон П. Экономика. Вводный курс. – М., 1964.
29. Сорокин А. В. Теория общественного богатства. Основы микро- и макроэкономики: Учебник. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2009.
30. Сорокин В. А. Политическая экономия и экономикс: один предмет, два метода. Вопросы политической экономии. 2015, №3. С. 13, 17.
31. Теория капитала и экономического роста: Учебное пособие / Под ред. С. С. Дзарасова. – М.: Издательство МГУ, 2004.
32. Тронев К. Категория рыночная стоимость и рыночная цена в 111 томе «Капитала» К. Маркса. // Российский экономический журнал. – 2004, – №1
33. Фромм Э. Искусство любить. 2-е изд. – СПб.: Азбука классика, 2004.
34. Хазин М. Капитализм силится доказать свое право на вечное существование.
35. Хайек Ф. «Пагубная самонадеянность. Изд-во «Новости». 1992
36. Черковец В. Политическая экономия как наука: историческая тенденция и социальная востребованность//Российский экономический журнал. – 1996. – №3.
37. Черковец В. Н. Первый элемент системы экономический наук (еще раз по поводу 200-летия преподавания в России политической экономии и к оценке новейших дебатов о ее современной роли и вузовском статусе. // Российский экономический журнал. – 2005. – №5—6.
38. Эклунд К. Эффективная экономика. Шведская модель. – Экономика, 1991.
Очерк 2. Построение социализма в одной, отдельно взятой, стране и критическая эволюция социалистического идеала
Советский Союз больше не существует. Уходил он совсем не героически, без тяжелых оборонительных боев за каждую пядь советской страны. При этом армия, затаившаяся в местах своей дислокации, полностью сохраняла боеспособность. Приказ выполнить свой конституционный долг по защите государственного строя она так и не получила. Подобным образом, смиряясь с неизбежным, уходят люди, пораженные тяжелым внутренним недугом, консервативное лечение которого в силу самых разных причин было мало результативным, а других, более действенных, методов разрешения возникшей ситуации найдено не было.
Но летальный исход никоим образом не был смыслом и целью доминирующего общественного сознания страны даже тогда, когда жители крупных городов выходили в конце 80-х гг. на массовые политические митинги. Да, угасание великой страны, вступившее в то время уже в лавинообразную стадию, протекало при непротивлении населения, его полной дезориентации и растерянности. Да, был откровенный обман в обещании перестроечных сил дать советским людям то, чего им ощутимо стало не хватать: больше демократии, больше социализма. Но надо признать, что это был обман людей, готовых быть обманутыми, добровольно и легковерно склонившихся перед обманом.
Перестройка вывернула наизнанку социальные ожидания и надежды, принеся в итоге распад Союза ССР, падение и стагнацию экономик всех бывших субъектов единой страны. И развал под видом срочно необходимых рыночных реформ систем образования и здравоохранения, мизерные пенсии и обширную нищету населения России. Даже спустя 30 лет после своего триумфа, новые власти не могут вывести страну из этого состояния. По данным Росстата уровень бедности в России оценивается в 11, 8% от всего населения. При этом ситуация по сравнению с 2021 годом улучшилась незначительно: тогда за чертой бедности находилось 12,1% населения или 17, 6 млн человек, в январе-сентябре 2022 года – 17, 2 млн. Конечно, что-то положительное делается, но бедность не рассасывается, остается главной социальной бедой. В преддверии президентских выборов 2024 г. борьба с нищетой акцентировано внесена Президентом в повестку дня работы Правительства. Само по себе это хорошо. Но подобное, несомненно, позитивное, хоть и сильно запоздавшее намерение высшей власти, фактически является признанием долговременного применения остаточного принципа даже к самому злободневному делу социальной отношений.
Сюжетное развитие всей драматургии советской истории от ее восхода до заката подчиняется сложившейся в свое время, вопреки теоретическим представлениям марксизма, необходимости строительства советского социализма при наличии двух ключевых особенностей.
Во-первых, непредвиденной и не допускаемой марксистской теорией обязанности большевиков вести подобное строительство в одной отдельно взятой стране, оказавшись ввиду этого среди своих экономически продвинутых недоброжелателей. Сначала ранний, а затем и поздний СССР не был окружен идейно близкими государствами. Постепенное дипломатическое признание советской власти западным миром было успехом, но не являлось отказом этого мира от враждебности. Возникновение социалистического лагеря улучшило внешнюю ситуацию, но каким-либо образом повлиять на систему социально-экономических отношений внутри Советского Союза не могло, поскольку общественный строй в СССР под влиянием, в том числе внешних угроз, к этому времени уже окончательно сложился во всей своей определенности и получил теоретическое закрепление.
Во-вторых, социалистическое переустройство страны нужно было вести при гигантском отягощении и усложнении этого процесса слабо выраженным развитием российского капитализма, с не доиндустриализированной экономикой и соответствующим уровнем цивилизационного развития общества, при низкой товарности отсталого аграрного сектора. Хотели этого большевики или нет, но социализм при таких обстоятельствах мог получиться, и получился, с ярко выраженной российской, а не западноевропейской спецификой, чем ему полагалось быть согласно марксистским взглядам, сформировавшимся на базе западного капитализма.
В своем ключевом теоретическом и практическом значении эти факты не были вполне осознаны во всей их глубине ни раньше, ни сейчас. На СССР, во все его годы, непрерывно давил императив – победить в борьбе за социализм в одиночку или погибнуть. Именно это, экзистенциональное по своему значению обстоятельство, задавало неоднозначную социально-политическую обстановку жизни советского человека, с одной стороны, действительно способного раньше думать о родине, и лишь потом о себе, а с другой, – не явившегося на войну за эту самую родину, утратив за годы тяжелой борьбы и нелегкой жизни веру в ее идеологические и морально-нравственные идеалы и преимущества.
Советской власти на пространствах Российской империи уже нет, а Россия, пусть и утратившая ряд территорий, ослабевшая, но геополитически все еще значимая, существует. Имея перед собой, сегодня не социалистическую, а уже вполне капиталистическую Россию, появление которой знаменует переход к очередной (после многовековой монархии, последующего очень короткого буржуазного периода и десятилетий советской власти) формы государственного устройства, принципиально важна и необходима объективная оценка роли Октября 17-го года не только в практическом осуществлении социалистической идеи, но, и, что не менее важно, в судьбе современной России, в том числе, в истории «Русского мира», в защите его уникальной цивилизации, которая соединила огромные пространства Евразии и множество народов, испокон веков живущих на этой земле. Что же Советской властью было сделано для России сегодняшней, насколько сделанное было своевременным и необходимым, а методы результативными? Можно ли было на истекшем историческом отрезке, начавшемся с ликвидации монархии, решить судьбоносные задачи сохранения страны иным, но столь же надежно обеспечивающим ее суверенитет, способом?
Тождество строительства советского социализма и защиты государственного суверенитета России
Указанная в заголовке постановка вопроса означает, во-первых, понимание истории России как единой в геополитическом значении и, во-вторых, требует признания приоритетности ее бытия как такового – существования во времени как независимого суверенного государства на сложившейся исторической территории. Это, можно сказать, идеология гражданского патриотизма, актуализирующая свое значение в острые и, в тем более, переломные периоды национальной истории, один из которых как раз и переживает Россия. Такую идеологию считает своей и, очевидно, руководствуется ею в государственной деятельности В. В. Путин, полагающий (не, бесспорно), что ничего другого России и не нужен14. Рациональное, пусть и содержательно не полное (гражданский патриотизм, т.е. патриотизм без идеологии, «патриотизм вообще», «не замечает» и не дает ответы на ряд принципиально важных вопросов жизни социально-структурированного современного российского общества15), основание у этой идеологии есть. Ведь разным могло быть и было государственно-политическое устройство нашей страны, как и отношение к нему, соответственно разными могут представляться ее геополитические устремления, социально-экономические итоги, достигнутые научно-технические результаты, сделанное в сфере здравоохранения, культуры и образования, сформировавшаяся нравственная атмосфера и укоренившиеся моральные устои общества. Но даже при тех обстоятельствах, когда не все обстоит благостно, ничего еще не потеряно пока существует родная страна со своим сложившимся веками культурно-историческим типом, определяющим ее самобытность и своеобразие, пока окончательно не утрачен ее сложившийся мировой статус. Ведь Россия может существовать только как великая держава, даже региональный статус ей противопоказан. Родина при таком понимании абсолютная моральная ценность и высший символ веры. Тут находится та единственная и сакральная область, в рамках которой оправданы слова: «Мы за ценой не постоим. Победа любой ценой». Иного здесь точно не дано, поскольку этой иной, и абсолютно недопустимой стороной, является поражение Родины и ее утрата. Такова, не исключено, быть может, трагическая, но неизбежная, что не исключено, плата за сохранение Родины как особого самостоятельного и самобытного субъекта современной цивилизации. При этом любовь и лояльность к Родине не обязательно совпадают с лояльностью к власти. «Свою страну, – так определял данную ситуацию Марк Твен, – надо поддерживать всегда, правительство – лишь в той мере, в какой оно этого заслуживает».
Безусловный факт заключается в том, что строительство социализма в одной, отдельно взятой, стране, а потом и в советском блоке стран, несмотря на идеологический социально-классовый приоритет и соответствующую общественно-политическую риторику в первую очередь было «загружено» решением вопросов поддержания обороноспособности и сохранения государства. Здесь было средоточие главных задач и интересов, сюда в первую очередь направлялись материальные и интеллектуальные ресурсы страны, под решение этой задачи выстраивалась хозяйственная структура и система управления ею, поддерживался высокий социальный и материальный статус военных людей, велось военно-патриотическое воспитание.
Теперь в сложившейся ныне исторической реальности крупно-плановых, принципиально значимых вопросов, связанных с Октябрьской социалистической революцией, больше одного: это не только судьба социалистического проекта и жертвы, понесенные при его реализации, как привычно подразумевается, когда речь идет о большевистской революции в России, а два. Второй, – не менее значимый в современном контексте вопрос – роль Октября 17 года в сохранении государственной независимости России.
С утверждения в ходе серьезной идейной борьбы, сопровождавшейся кадровыми чистками и репрессиями, затронувшими десятки тысяч людей, концептуально нового подхода к пониманию задач страны – строительства социализма в одной отдельно взятой стране (вместо курса на мировую революцию) – возникло противоречивое, но, тем не менее, действительное, тождество судеб социализма в России и существования России как таковой. Причем в данном тождестве в качестве ведущей стороны на всем протяжении существования СССР фактически выступал национальный суверенитет, а вопросы построения социализма, опять же фактически (но не политико-идеологически), получали второстепенное и производное значение. Суверенитет страны был безусловной целью, тогда как социализм при всей его исторической значимости выступал общественной оболочной решения этой задачи, формируя ее формы в их конкретности.
Так получалось потому, что из логики концепции строительства социализма в одной отдельно взятой стране железно следовало, – чтобы идти к социализму должна сохраняться страна, как решающее условие проведения в ней социалистических преобразований, в ходе которых для всего мира должны быть доказаны преимущества нового общественного строя. Вопрос победы социализма во всемирном масштабе, таким образом, не снимался с повестки дня, и сохранялся как общий политический ориентир, заданный Октябрьской революцией. Но, в силу новой формулировки старой задачи, маршрут в дорожной карте, как бы сейчас сказали, стал неопределенно долгим и определенно рискованным, поскольку предполагал в качестве своего основного условия победу в экономическом соревновании с капиталистическим миром. Никаких сомнений в достижении этой победы у современников не было.
Логика строительства социализма в отдельной стране в противоборстве с остальным миром, автоматически делала национальный суверенитет доминирующим делом. Иной тип мышления, носителями которого выступали в раннем СССР ряд видных деятелей партии и государства, был бы гибелен как для сохранения страны, так, соответственно, и для перспектив строительства в ней социализма. В итоге состоявшейся переориентации образовался особый по форме, советский, (в ряду предшествующих форм) этап обеспечения суверенности и социально-экономического развития страны, сохраняющийся, по крайней мере, до начала перестроечного времени, когда тождество социализма, и государственного суверенитета в новом политическом мышлении перестало быть доминантой, что в полной мере проявилось в названии проектируемого нового союза – СНГ, призванного прийти на смену СССР. При этом сначала ослабляющаяся в перестроечное, а затем и распадающаяся в постперестроечное время связь социализма и государственной независимости, фактически поставила на грань существования национальный суверенитет России. По крайней мере, для значительной части пришедшей к власти политической элиты, этот вопрос перестал носить принципиальный и безусловный характер, чем он, во многом, остается и в настоящее время, несмотря на СВО, акцентированную властными силами пророссийскую риторику, патриотические поправки и изменения, вносимые в законодательство, и проводимую внешнюю политику. Дело в том, что экономически страна с каждым годом все больше отстает от научно-технических тенденций и средних темпов мирового развития, имея собственный среднегодовой темп увеличения ВВП около одного процента. Но продолжает вести себя так, как будто ее это полностью устраивает, и никакой опасности в подобном положении нет.
Переход к строительству социализма в отдельной стране неразрывно соединил воедино, до полного тождества, идеолого-политические (интернациональные) и возникшие патриотические (национальные) мотивы, обеспечив дополнительную прочность советскому общественному строю. Непротиворечиво и органично совместились две, казалось бы, разные задачи: сохранение советской власти на территориях бывшего российского государства, и защита исторической России. Причем национальная идеология слилась с классовой не за счет классовой, как это произошло, например, с Германией перед Второй мировой войной, приведя эту страну к национал-фашизму. Сочетание отмеченных выше задач потребовало отказа от последствий, возбужденного перспективами мировой революции интернационального сознания и повороту к традициям и героике местной, национальной, жизни. Эти процессы сделались особенно заметными в годы Отечественной войны, но проявились уже в 30-х гг. Лозунг «За Родину, за Сталина» возник еще до начала Отечественной войны и отражал обе указанные стороны социально-политической жизни СССР, поставив на первый план все-таки Родину.
Об Октябрьской революции, как и о десятилетиях Советской власти, можно судить с совершенно разных, и даже противоположных, социально-экономических позиций на том простом основании, что реальная жизнь социума всегда многозначна, и ее отражение в общественном, не говоря уже о личном сознании, неизбежно субъектно окрашено. Где-где, а здесь уж точно, без «чуйств», как объяснял персонаж А. Райкина, ничего не пишется и не говорится, сколько бы себя и других не уверяли в обратном.
В соответствии со своими чувствами и оценками официальную историю несут в массы, конечно, только победители. Состоявшийся разгром противника, открывает ничем не сдерживаемую возможность его последовательного и безнаказанного, как заслуженного, так и любого иного, порицания. Ссылка на необходимость полного раскрытия обществу, для его же пользы, ранее сокрытой и искажаемой исторической правды всегда является обязательным мотивом этого. Тут уж, как говорили мудрые древние греки, горе проигравшему: ополчившиеся на него победители обычно не считают своей обязанностью быть хоть сколько-нибудь объективными. Нет милости для потерявшего былую военную силу, не заслуживает снисхождения тот, кто утратил политическую власть и влияние, особенно если оказывается, что в общественном сознании спор старых и новых социальных смыслов не закончен и оценки сменивших друг друга государственных режимов продолжают идеологически конкурировать.
Победный обман может продолжаться долго, но и он имеет свои пределы. Наши потомки, которые через много лет будут изучать историю Октябрьской революции и советского социализма, обретут, надо думать, устойчивую объективность взгляда, психологически трудно достижимую сегодня, как сторонниками социализма, так и его оппонентами. Пока же большие усилия затрачиваются на то, чтобы внести в массовое сознание утверждение, согласно которому не было никаких исторически раздирающих российский социум обстоятельств, которые требовали столь радикального революционного сдвига, а был авантюрный, не отвечавший ситуации в стране и чаяниям народа государственный переворот, совершенный российскими экстремистами от марксизма. Захват власти большевиками, согласно такому представлению, стал проклятьем для исторической России, подорвав ее материальные и духовные силы. Россия потеряла ХХ век, пропагандистки броско объявит свой уничижительный итоговый вердикт периоду Советской власти, начатому Октябрьской революцией, официально почитаемый ныне А. Солженицын.
Но если кто-то теряет, то кто-то другой, обдуманно указавший на заведомо спорную потерю, стремится в этом для себя что-то найти, тут всегда не без выгоды. Так и случилось. На теме «пропустившей ХХ век России», ставшей выигрышной в силу развернувшейся «холодной войны», которая сделала первым делом и первым удовольствием заинтересованных лиц, яростную и безапелляционную критику всего советского, А. Солженицын, в порядке компенсации, приобрел всю свою политико-литературную известность. Но разве такой сознательно усеченный способ обретения исторической истины, когда громкие публичные эффекты ставятся выше реальных фактов, давал хотя бы гипотетическую возможность сказать всю правду о России ХХ-го столетия? Правды, не предусматривающей аплодисменты Запада и выплаты им комиссионных? А она бесспорна в том, что Россия, как бы там ни было, вовсе не потеряла ХХ век и не потерялась в нем. В минувшем веке истории земной цивилизации абсолютно ничего нельзя понять без России, всего происшедшего с ней и в ней. В самом деле, могла ли страна, которая столетие потерянно стояла в стороне от развернувшегося в мире небывалого научно-технического прогресса, одержать великую победу в навязанной ей фашистской Германией, войне. Быстро затем восстановить разрушенное народное хозяйство и первой отправить человека в космос. У. Черчилль, блиставший умением выражаться публицистически точно и ярко, при всей своей, мягко говоря, традиционной для англосакса не любви к нашему отечеству, как известно, увидел в России ХХ века страну, проделавшую путь от сохи до атомной бомбы, государственное образование, которое не только не потеряло для собственного возвышения судьбоносный век, а, напротив, прожило его необыкновенно динамично и плодотворно, несмотря на суровые времена, лишения и утраты. В то же время, разве сегодня для России не реальнее, чем раньше, опасность потерять не ушедший век, чего как раз не случилось благодаря мерам, своевременно принятым большевиками, а текущий век и себя в нем ввиду реальной опасности утратить тот необходимый уровень защиты суверенитета, который успешно обеспечивала Советская власть и социалистическая идеология, а до этого самодержавие.
В бедах России ныне модно винить Октябрьскую революцию, оставляя в ее тени события февраля 1917 г. и все, что неизбежно и неумолимо подводило к ним. Но эти два процесса связаны неразрывно. Только взятые вместе, в своем взаимодействии они объясняют сдвиг траектории движения страны к социализму. Будучи радикально противоположными по составу участников, своим движущим силам и социально-политическим последствиям октябрьский процесс вырастал из результатов февральского, организованного кадетами и октябристами (либералами того периода времени) в союзе с эсерами и меньшевиками. При этом ключевым событием здесь является не только свержение самодержавия. Не менее важно учесть тот редко упоминаемый факт, что страна оказалась единой в стремлении к социализму! Символом февральской революции был отнюдь не триколор, а красный флаг и красный бант. На выборах в Учредительное собрание более 90% голосов получили социалистические партии! Они принципиально расходились между собой в том, каким им видится социализм и по какому пути следует к нему идти. Тем не менее, итоги выборов красноречиво говорили о том, что в силу своего исторически сложившегося менталитета, социально-экономических условий жизни, обстановки, возникшей в связи с падением монархии и ведущейся маловразумительной тяжелейшей войны, общественное мнение России развернулось в сторону социализма, оказавшись в этом отношении впереди европейских стран. Отставая от этих стран в темпах политического развития на огромный исторический отрезок16, Россия в ХХ веке стала лидером в стремлении общества к обретению социальной справедливости. Как и Франция до нее, она в свою очередь опровергла убеждение В. Карамзина о том, что «История принадлежит царям», ясно показав, что, в конце концов, «История принадлежит народам», в чем глубоко были убеждены уже декабристы.
Социалистически ориентированные на момент февраля 1917 года массовые настроения населения России, столетиями мирившегося с диктатом монархии, для западного человека из категории «умом Россию не понять». Но в этом суть ее загадочного социума, «зараженного» неискоренимой тягой к справедливости, которая раньше или позже, но неизбежно выплескивается на поверхность общественной жизни и заставляет с собой считаться. Вопрос лишь в том, есть ли политическая сила, сознательно готовая стать последовательным выразителем и ответственным представителем этих настроений перед обществом.
Именно в «февральском безумии 1917 года», чем со стороны казались события того времени, следует видеть исходный пункт всего происшедшего с Россией в ХХ веке. Взяв государственную власть после свержения монархии, респектабельные, самоуверенные и амбициозные лидеры оппозиции проявили полную беспомощность в организации практического управления страной. Распад устоявшейся монархической государственности в обстановке участия России в 1-й Мировой войне именно тогда, когда потребовалась созидательная государственная работа, вызвал у них растерянность перед начавшимся в стране разложением всех социальных институтов, действием непонятных им сил, таившихся в самой нации. Они были талантливы и удачливы в борьбе с домом Романовых, но оказались не готовы ни идейно, ни организационно, ни в кадровом отношении к управлению такой сложной страной как Россия, пораженной в тот период всеобщим недовольством и торжествующей анархией. Помимо прочего, сказалась слабость и недоразвитость российского капитализма, в том числе из-за краткости периода его существования, которая естественным образом порождала отсутствие опыта государственного управления новой Россией и, как следствие, неумение буржуазных сил, пришедших к власти, организовать необходимую созидательную работу. В тот момент ситуацию могла спасти только сила, способная обратиться к широким массам, сплотить их, повести за собой и тем самым остановить распад. Все три Временных правительства, несмотря на свои чрезвычайные полномочия, не только не стабилизировали социально-политическую ситуацию, а лишь усугубляли ее, в том числе развязывая руки местническим и националистическим силам, начавшим выходить со своими территориями из состава российской империи.
Революционный этап в жизни общества всегда возникает как следствие устранения созревшего и, как правило, перезревшего глубокого социально-экономического основания, в качестве решающего условия дальнейшего общественного прогресса. Было ли такое фундаментальное основание в российской действительности, подспудно подводившее к двум революциям 17 года? Можно говорить, и вполне обоснованно, о действии совокупности различных обстоятельств: о слабости Николая Второго, как венценосца и правителя, роли политической конкуренции, внутренних заговорах и заговорах иностранных держав, и многом другом, действительно имевшем место и оказавшем свое ощутимое влияние на политическую жизнь. Но все эти и другие подобного рода обстоятельства, воздействуя лишь на верхушечные, внутриэлитные процессы, не могли бы ни создать устойчивого революционного настроения масс, ни объяснить характер их ожиданий и требований к власти. Радикализировать ситуацию до ее высшего напряжения, втянув в нее все слои населения, может только обязательное наличие судьбоносного для страны вопроса, решение которого давно назрело, но затягивается. Этот вопрос напрямую может не присутствовать непосредственно в каждом конкретном событии политической жизни, но именно он, явным и не явным образом, в конце концов, образует общую линию развития социально-политической обстановки. Наличие такого вопроса и характер его разрешения – дают закономерность в истории, которая пробивает себе дорогу, несмотря на сдерживающие и противодействующие обстоятельства. В социальной истории России таким ключевым вопросом ее жизни стал вопрос о земле, сомкнувшийся к 17 году во всей своей остроте с вопросом о мире. Ставшее неизбежным изменение правовых основ землепользования в любом его варианте означало ломку сложившейся социально-классовой структуры российского общества, и было, как для царского правительства, так и возникших в начале ХХ века представительных органов сложной проблемой.
История не имеет сослагательного наклонения. Она по определению состоявшийся факт, который не может быть прожит иначе, чем это уже случилось. Время вспять не воротить. В то же время понимание истории, пути по которому она пошла без сослагательного наклонения невозможно. Это как школьная работа над ошибками: проанализировать их можно и нужно, а изменить написанный диктант – нельзя. Сослагательное наклонение в истории – не что иное, как фактическое исследование предыстории, ставшей историей. В этом отношении сослагательное наклонение актуально для истории и отрицать его бессмысленно, поскольку анализ происшедших событий все равно, так или иначе, ведется.
Понимая это, предположим, что Февральская революция не увенчалась бы свержением монархии, а Октябрьское вооруженное восстание вообще не состоялось или было бы подавлено. В этом случае в стране, скорее всего, установилась бы буржуазная республика, возможно, в соответствии с той, парламентской в своей основе моделью, которая в 1915 г. предлагалась Государственной думой, но была, в конце концов, отвергнута Николаем Вторым. В этом пункте тоже есть подлежащая теоретическому рассмотрению развилка сослагательного характера. Ведь царь мог и согласиться на конституционную монархию, уменьшив в значительной мере нарастание антидинастических настроений и давление на него укрепляющихся оппозиционных политических сил, считающих, что монархия себя уже полностью изжила, и потому готовых использовать в своей борьбе все доступные средства, включая заговоры и раздуваемый феномен влияния Распутина на поведение царицы и решения царя. Но была бы при любом из указанных вариантов достигнута консолидация общества, испытывающего в тот момент еще и тяжелое воздействие участия страны в Первой мировой войне? Ведь принципиальные различия в подходе самодержавия и думцев к земельному вопросу хотя и существовали (взять хотя бы программу эсеров), но обе стороны не считали его решение экстренно необходимым, сверхнасущным и сверхнеотложным, а значит, за пределами политического умиротворения находился бы самый многочисленный класс России – крестьянство, который нес, к тому же, основную тяжесть участия страны в войне, не понимая и не обнаруживая ее связи со своими давно требующими учета интересами. Победа России в войне ничего крестьянам не обещала и никаких послаблений не гарантировала, подвигая к насильственному переделу земельной собственности, который стал происходить уже и практически. Непонимание этого было обстоятельством, обрекающим на поражение, как самодержавие, так и его буржуазных и около социалистических критиков.
Снять остроту этой проблемы можно было бы только серьезными и понятными крестьянству шагами, которые бы оно восприняло как, в той или иной мере, достаточные и удовлетворяющие его. Но даже в политически острейший момент, когда цена земельного вопроса поднялась до уровня критерия легитимности власти, Учредительное собрание не спешило заняться его решением. План рассмотрения аграрной реформы отсутствовал и, стало быть, в лучшем случае, отодвигался на будущее, в то время как градус крестьянского недовольства уже зашкаливал и, как было отмечено выше, самозахват земли, ее «черный передел», реально уже шел. Вот по этой линии глубочайшего политического разлома в российском обществе Октябрь – прямое следствие февраля, итог нерешенности назревших вопросов, прежде всего аграрного, и производных от него – социально-экономического разрыва города и деревни, несоответствия между нарастающими потребностями индустриального развития и обеспеченности этого развития трудовыми ресурсами. Чтобы понять, почему дорогу именно к социализму выбрала измученная страна, нужно понять, что по большей части внутри нее заставляло и определяло выбирать именно эту дорогу.
В данном отношении принципиально значимо то, что совершенно надоевший всем слоям российского общества, измучивший и обозливший крестьянство, породивший массовые, пользующиеся широкой поддержкой интеллигенции радикальные антиправительственные политические течения земельный вопрос, решительно и без промедления был снят с политической повестки жизни страны именно революционными актами новой власти, за которые прежняя власть отказывалась голосовать. Эти действия, отвечавшие сокровенным чаяниям подавляющей части народа, привлекли в ряды Красной Армии миллионы крестьян что, в итоге, обеспечило военный перевес большевиков в Гражданской войне.
Отвечало ли это задачам развития российской государственности? В полной мере. Именно «большевики смогли собрать в горниле кровавой Гражданской войны растерзанную историческую Россию и предложить ей „советский проект“, истинный смысл, величие и предназначение которого многим непонятны до сих пор. А ведь видный русский философ Александр Зиновьев был абсолютно прав, когда сказал, что „советский проект“, воплощенный в СССР, был вершиной российской цивилизации». В этом состоит исторический факт, с которым не поспоришь. Впрочем, желающие, конечно, найдутся. Октябрьская революция и СССР породили немало недоброжелателей. Возникшее государство нового типа взяло на себя миссию спасения исторической России. Значительная часть царских генералов, включая знаменитого Брусилова и двух бывших министров обороны империи перешли к большевикам, они понимали, что только большевики способны восстановить Россию в ее исторических границах и в присущей ей политической значимости. Постсоветская власть, напротив, для своего утверждения инициировала распад российской державы, с легкостью расставшись даже с ее исконными славянскими территориями (Украиной и Белоруссией) с генетически идентичным (кроме жителей Галиции) населением.
Критики Октябрьской революции полагают, что причины крушения советского социализма были предопределены тем, какой по своему смыслу была эта революция и тем, в руках какой политической силы и ее конкретных субъектов оказалась государственная власть. В победе большевистской революции они видят изначально «порочное зачатие», которое генетически предопределило неизбежное возникновение государственного тоталитарного режима, а в силу этого преопределенную пагубность революции и отсутствие у нее жизненной перспективы. Тем самым всякая практическая попытка начать движение к действительно справедливому, а значит, бесклассовому обществу (другой формы последовательной социальной справедливости просто не существует) изначально трактуется как вредная для государства и общества, губительная для них. Не сложно увидеть в таком подходе апологию капитализма, признание его вечным и обеспечивающим предельно достижимую в человеческом обществе справедливость. В рамках таких суждений каждый, кто думает иначе и готов это теоретически отстаивать, уже не ученый, а социальный недоумок.
Разделение общественного мнения на сталинистов и антисталинистов, предполагает фиксированный выбор: И. В. Сталин либо икона, либо кровавый тиран, иного не дано. Но ведь есть еще и реалисты, которые считают необходимым исходить из полноты всей картины жизни страны и пройденного ею пути. Они нисколько не менее гуманны и нравственны, чем антисталинисты, решительно осуждают И. В. Сталина за массовые репрессии против не виновных, тех, кто просто попадал под горячую руку, оказался не в том месте и не в то время. Жить в эпоху больших перемен всегда трудно и порой опасно. Но, реалисты, причем вовсе не в силу идеологической зашоренности, а по объективным основаниям, видят в И. В. Сталине то, что не видеть нельзя, как бы этого не хотелось, – крупнейшего государственного деятеля, обеспечившего сохранение исторической России, и ее превращение в великую мировую державу. В этом «тайна» сохраняющейся популярности Сталина в общественном мнении при всех его опросах
Правила, отражающие установочные законы общественного развития, не пишутся для каждого особого случая. Это бессмысленно, поскольку заранее неизвестно, когда, где и какой случай может случиться. Научно обоснованные правила пишутся для общего случая, уже наметившегося, массового, с четко обозначившимися объективно действующими социально-экономическими тенденциями будущего в существующем настоящем. Марксистская теория социальной революции была такого рода общим, и в силу этого классическим, правилом, отразившим именно западноевропейскую действительность 19 века. Именно это знание существует в качестве ортодоксальной части учения Маркса. Из этой же конкретной действительности вытекали совсем не многочисленные, хотя и ключевого свойства, положения Маркса и Энгельса относительно устройства жизни в социалистическом обществе. Сколь-нибудь развернутых решений по этому вопросу найти у классиков социализма нельзя, о чем они открыто поставили в известность своих сторонников, полагая, что те, кому доведется строить реальный социализм, окажутся не глупее их в качестве основателей революционной теории. Зная об этом, Ленин, начав управлять Россией, «завоеванной у богатых для бедных», отмечал, что «нам надо выкарабкиваться самим» [20, с. 228].
Но революция предложила российскому обществу и всему миру как раз альтернативный антикапиталистический социальный проект, общий смысл которого (но не более того) был научно обоснован и предложен марксизмом. В этом проекте не было ничего, что с абсолютной неизбежностью предопределяло бы возникновение долгой и масштабной гражданской войны в России, быстрое поражение начавшихся европейских революций.
Большевики призвали к социалистической революции в России, где сельское население составляло 80%, и страна страдала от недоразвитости, слабости, капитализма. В такой стране, согласно общепризнанному в марксистской среде пониманию, победоносная социалистическая революция объективно не обоснована, стране требуется прежде пройти через буржуазно-демократический этап, сказать своего рода «прощальное спасибо» зрелому капитализму перед расставанием с ним. В данном пункте ввиду провозглашенного социалистического характера российской революции возникло первое в советской истории (дальше будут и другие) столкновение ортодоксального марксизма с тем, что можно было бы назвать ортодоксальным большевизмом – острое расхождение известных правил марксистской теории в отношении социальной революции с теми условиями, в которых эта революция протекала в России – разделение большевиков на сторонников духа и буквы марксизма. Дело в том, что для России в существовании большой массы крестьянского населения был не только минус, исключающий пролетарскую революцию, как совершенно преждевременную, но и уникальный политико-экономический плюс, – исключительно российский шанс в виде сельской общины. Как это ни парадоксально для почитателей книжного марксизма, на него указал никто иной как сам Маркс, начав заниматься российской общинным строем. Это был марксизм, но уже не догматический, а творческий, вырастающий из методологии марксизма, всегда находящейся в соединении с жизнью. Из-за неожиданности вывода это выглядело как столкновение западноевропейской, по своему происхождению, буквы марксизма, с его революционным духом, проявившимся на российской почве. Оценивая влияние этого события на развитие представлений о социализме, нужно констатировать, что вся дальнейшая теория и практика строительства социализма представляла собой обратный процесс – превращения, творчески истолкованного на стадии революции духа марксизма в его ортодоксальную букву, закрепленную в советской философии и политэкономии. Происходило это не случайно, к такому положению подталкивали обстоятельства, в которых оказалась страна победившей социалистической революции в России. Именно этот непредвиденный и новаторский с точки зрения марксизма вариант повлек за собой объективно вынужденные политико-экономические формы и административные меры становления социализма в СССР и высокозатратные усилия по его военно-политической защите. Весь дальнейший путь советского социализма с конца 50-х гг. осуществлялся и на практике, и в общественной науке по инерции, созданной предшествующим героическим, жертвенным и победным путем. Все попытки выскочить из наезженной колеи теории и практики сталинского времени результатов не дали.
При желании не сложно обнаружить отсутствие логической связи идей Октябрьской революции с событиями, возникшими после нее, и во многом сформировавшими всю последующую конкретную ситуацию: скачкообразный рост германского милитаризма, сверхсрочную необходимость индустриального подъема СССР, разрушительнейшую Отечественную войну, как составную часть мировой, а затем и холодную войну, ставшую тяжелым бременем для экономики и обустройства социальной жизни. Если убрать эти события, то не остается никаких оснований для логической увязки смысла революции и социально-политического устройства СССР: революция никоим образом именно этого не предполагала. Как не предполагала она ничего заранее положенного в его конкретности: актуальные социально-экономические формы предстояло найти, открыть, постоянно подвергая их критическому осмыслению, при этом, не теряя из виду траекторию общественного движения к справедливому обществу, в чем, как было показано выше, состоял подход Ленина к строительству социализма. Через сто лет после Октябрьской революции ситуация, конечно, уже другая. Появился бесценный практический опыт – «действительно сын ошибок трудных».
Борьба за выживание: возникновение мобилизационного социально-экономического уклада как способа утверждения социализма с российской спецификой
Совершенно определенно концепция построения социализма в одной, отдельно взятой стране не была исходным намерением большевиков. Вопросы роли крестьянства и невысокого уровня развития капитализма как обременения социалистической революции и последующего строительства нового мира широко дискутировались. Но вариант длительного существования какой-либо одной страны, реально сориентированной своим социально-экономическим курсом на социализм, в окружении недружественных стран с иным политическим строем, классическим марксизмом не рассматривался вообще, поскольку был лишен какой-либо политической реальности. Это просто не соответствовало базовым марксистским представлениям, которые были для большевиков путеводной звездой. Тем более, если вести речь о странах слабо и среднеразвитого капитализма с преимущественно сельским населением. Какое-то время новая власть возлагала свои надежды на грядущую поддержку европейских революций, и в 1920 г. даже втянулась в войну с Польшей, рассчитывая на солидарную поддержку рабочего класса всей Европы. Однако вместо разбуженности широких слоев пролетариата бедствиями Первой Мировой войны с обращением праведного гнева против ее виновников – правящей буржуазии своих стран, доминирующим стало настроение усталости, нежелания новых потрясений, тем более предполагающих изменение коренных устоев жизни. Вместо революционной радикализации общественных настроений, напротив, после окончания Первой мировой войны началась консолидация национальных политических сил, затронувшая и социал-демократов. Можно сказать, что мир вступил в эпоху, когда национальное единство одержало верх над классовым сознанием и солидарностью.
Возникшая ситуация вызвала раскол в большевистской партии на государственников и интернационалистов. Государственники, среди которых со второй половины 20-х гг. политический вес начал набирать И. В. Сталин, а альтернативные, интернационалистские, взгляды активно продвигал Л. Д. Троцкий считали, что в сложившихся исторических обстоятельствах усталости пролетариата от Первой мировой войны и, связанного с этим спада его революционной активности, планетарная победа социализма откладывается на неопределенный срок. В силу этого, как полагали государственники, не было оснований рассматривать Октябрьскую революцию как сформировавшееся ядро начавшегося непрерывного процесса развертывания мировой социалистической революции. Неравномерность социально-экономического развития капитализма, аргументировали они, предполагает не только подъемы, но и спады в революционной активности масс, что не позволяет характеризовать эту активность как протекающую непрерывно, по терминологии Л. Троцкого, перманентно [См.: 53, с. 54, 260]. Сосредотачиваться нужно на строительстве социализма в одной, отдельно взятой, стране, а не тратить все силы на борьбу за «мировую республику» при отсутствии ближайшей перспективы. Можно сказать, что интернационалисты были радикальными идеалистами от марксизма, а государственники отчаянными практиками, начавшими строительство социализма, не считаясь с состоянием народного хозяйства и враждебным окружением. И те, и другие свято верили в идеи революции. Но разделяла их борьба за стратегический выбор модели организации послереволюционной жизни и понимание насущных практических задач переживаемого момента.
После успешной Октябрьской революции и победы в Гражданской войне, переступить через себя, через то, что за годы подполья, арестов и непрерывной борьбы стало их жизненным кредо, интернационалисты не могли. Строить социализм в одной, отдельно взятой стране, казалось им изменой марксизму, отказом от идеалов Октябрьской революции, ее контрреволюционным перерождением. Сосредоточиться на строительстве системы партийно-государственного и хозяйственного управления страной сторонники Л. Троцкого считали заведомо бюрократической и антидемократической процедурой, порождающей капиталистическое отчуждение работника от средств производства и ограничение личной свободы. Ввиду этого столкновение интернационалистов и государственников приобрело непримиримый характер, и стало, как сейчас считает большинство исследователей периода раннего СССР, внутренним стержнем раскручивания репрессий 1936—1939 гг., настоящей драмой «самоуничтожения17. Начавшись, как партийная чистка от противников строительства социализма в одной отдельно взятой стране, эти репрессии вышли за пределы столкновения интернационалистов и государственников, приняли широкий характер, исковеркав судьбы многих людей. Данное столкновение не имело бы под собой реальной почвы, если бы переход к социализму в России, несмотря на все ее масштабные недостатки цивилизационного плана, складывался в соответствии с теорией классического марксизма, внутри общего движения развитых капиталистических стран к новому обществу. Для разделения на интернационалистов и государственников в этом случае не было бы практической почвы. По данному основанию не было бы репрессий, которые оставили тяжелый, незабываемый след в истории советского социализма, сыграли разрушительную роль в годы перестройки и продолжают раскалывать общество в постсоветский период.
Внутри России политическую победу по вопросу строительства социализма в отдельно взятой стране, т. е. по вопросу можно ли оставаться марксистом, решительно отступая от буквы марксизма, одержали большевики. С этого момента начинается история становления советского варианта социализма, ставшего с конца 20-х гг., оправданно будет сказать, сталинским. Именно советского в силу его неизбежных специфических особенностей и, соответственно, принципиальных отличий от классических марксистских представлений, сформированных западноевропейским театром истории: страна крестьянская, индустрия слабая, внешнее окружение враждебное. Вопрос в том, как эти объективные и критичные для судьбы нарождающегося социализма особенности отражались на мерах экономической и социальной политики, жизненных самоощущениях людей, на их отношении к партии, государству, власти?
С началом Гражданской войны выбора у большевиков в том, как управлять Россией, отвоеванной, по В. Ленину, повторим это, «у богатых для бедных» уже не было. Система мер под названием «военного коммунизма» была единственно возможной для того, чтобы поддерживать жизнь населения городов и обеспечивать воюющую армию продовольствием. Эта «красногвардейская атака на капитал» не была исключительным порождением именно большевиков. Она включала в себя меры, предпринятые правительствами многих воюющих стран, в том числе царским правительством в условиях Первой мировой войны. Среди этих экстремальных мер были продразверстка и распределение основной массы продовольствия в нетоварной форме, по карточкам. В 1921 г. продразверстка была отменена, и ее место занял продналог. Большевикам, однако, виделось в этом и социалистическое содержание – непосредственно-общественные, внерыночные формы экономических отношений, которые являются классической марксистской характеристикой социализма наряду с общественной собственностью. В силу этого на какой-то момент показалось, что социалистические отношения могут быть быстро введены велениями Советской власти, и значит, переход от капитализма к социализму надолго не затянется.
Коррективы в это понимание внес нэп. Учитывая реальный контекст того времени, Л. Никифоров, думается, не прав, полагая, что субъективные действия большевиков (любая власть проявляет себя субъектно) были свободны от обязывающих объективных ограничений. Размашисто, на наш взгляд, выдвигая политические доводы против действий большевистской власти, он утверждает, что «новое общественное устройство в прямом смысле создавалось по велениям и решениям партии и государства, точнее преобладавших в них политических и идеологических сил». Но в чем Н. Никифоров, несомненно, прав, так это в том, что властные «… силы отождествляли собственные представления о социализме и путях его развития с закономерным, единственно верным вариантом его становления» [60, с. 7], соответствующим марксистской теории.
Получилось так, что Россия, вооружившись европейской теорией социализма, но перетолковав ее на свой, отвечающий сложившейся ситуации лад, начала создавать у себя новый тип государства. Социализм предложил перспективу построения справедливого, социально-равноправного общества. В этом была его вдохновляющая массовые низы и немалую часть интеллигенции сила. Но была и слабость – новое общество только предстояло построить, на практике оправдать надежды и доверие. А это, как показало дальнейшее развитие событий, оказалось сложнее, чем завоевать власть.
К сказанному надо добавить, что для большевиков сложились исключительные возможности формирования системы государственной власти. Изнурительная Гражданская война, выросшая из первоначально почти бескровного октябрьского революционного переворота, закончилась не перемирием враждующих сторон, не их взаимным согласием относительно устройства и разделения власти в послевоенный период, а полной и безоговорочной победой большевиков на подконтрольном географическом пространстве. Таким образом, монополия на власть была не узурпирована большевистской партией в результате политических интриг или выборных технологий, а обеспечена победой в открытой войне при отсутствии системных союзников от других организованных политических сил (временные, ситуационные союзники на конечный результат не влияли). Это придало легитимность существования возникшей сразу однопартийной системы, возможность полного влияния партии большевиков на социально-экономическую и политическую жизнь страны, что впоследствии было конституционно зафиксировано в качестве руководящей роли компартии. Вместе с возможностью быстро готовить и принимать решения, обеспечивать за счет строгой партийной дисциплины и жесткой персональной ответственности их безусловное исполнение, пришла вполне себя проявившая с первых дней опасность навязывания стране должностной партийно-государственной верхушкой особой точки зрения на развивающиеся в стране процессы и требуемые социально-экономические изменения, то, что в последствии было справедливо названо субъективизмом и волюнтаризмом, приводящим к различного рода социально-политическим, экономическим и административным перекосам, а в итоге к эрозии социалистического идеала и неверию в его достижимость.
Из опыта и результатов Гражданской войны выросла вся централизованная модель политической власти и хозяйственного управления страной, с руководящей ролью партии большевиков. Эта модель, по сути, осталась неизменной вплоть до крушения советского социализма. В рамках этой модели КПСС стала больше, чем политическая партия, функционально важнее, чем «руководящая и направляющая сила». Это был всеобъемлющий государственный орган, который держал в руках все нити управления страной. Система Советов, эта основная идея новой власти, существовала, но играла подчиненную роль. Отсюда ясно, какой тяжелый удар по управлению страной нанес М. Горбачев, когда была отменена 6-я статья Конституции СССР, не выдвигая ничего взамен.
К концу 20-х гг. основным следствием перехода к построению социализма в одной стране стала объективная необходимость формирования мобилизационного уклада жизни общества с соответствующим такому укладу характером системы власти, организации экономики и общественно-политической жизни. Мобилизационный, – значит, в зависимости от жесткости системы военный или полувоенный характер построения отношений государства, общества и отдельной личности, централизация и концентрация всех имеющихся ресурсов на решении крупной судьбоносной задачи, ограничением индивидуального потребления. Отсюда командный, административный, директивный тип отношений, который в наибольшей степени соответствовал контексту этого времени: необходимости в кратчайшие сроки достигнуть экономической независимости и обеспечить надежную обороноспособность. Такая система требовала в качестве своего обязательного условия наличия вертикально соподчиненных штабов реализации решений верховной власти и несения ответственности перед ней, чем, естественно, стали партийные комитеты различных уровней.
Мобилизационное построение общественной жизни с неизбежностью тяготеет к армейскому порядку вещей, где нет коллективного руководства, поскольку это наилучшим образом обеспечивает единство действий в достижении поставленной цели. Здесь область господства принципа «одна голова хорошо, а две хуже». Демократизм общества, его территориальное и производственное самоуправление при таких обстоятельствах неизбежно ограничиваются. Соответственно этому формировался общественно-политический заказ на основные личностные качества руководителей штабов, в том числе и высшего руководителя – политического главнокомандующего. Все это открывало дорогу к вершинам власти личностям, склонным к авторитаризму, особенно когда им была присуща огромная воля, организаторский талант, целеустремленность и настойчивость, умение организовать и дисциплинировать людей, идейная убежденность и политическая прозорливость, как это было в случае с И. В. Сталиным. Поэтому искушение впасть в «детскую болезнь левизны», сосредоточиться на негативном отрицании капитализма, и в возможности быстрого достижения этого увидеть построенный в основном социализм, нельзя не принимать во внимание. Особенно, если ввести в это предположение категорический характер Сталина и во многом авторитарный стиль его руководства: похоже он был несокрушимо уверен, что ему дано было знать, как выглядит построенный социализм. Характерный штрих в этом отношении. Когда Жуков в ответ на грубую критику Сталиным его действий в качестве начальника Генерального штаба, ответил, что просит отстранить его от этой работы, поскольку он лишь способен молоть чепуху, Сталин ответил: «Мы без Ленина обошлись, а без вас тем более обойдемся… Идите, работайте, мы тут посоветуемся и тогда вызовем вас».
Складывающийся мобилизационный, неизбежно бюрократизированный насквозь уклад, ограничивал не только простого человека, но и всю служебную иерархическую систему управления в творческих проявлениях. В то же время он значительно выигрывал в ответственности за порученное дело и в исполнительской дисциплине, что являлось важным приоритетом того времени. Мобилизационному укладу нужны были люди подобные И. В. Сталину. И страна их получила. Время всегда дает шанс, выталкивает вперед наиболее соответствующий ему человеческий тип, который по своим личностным качествам отвечает драматическим обстоятельствам текущего времени. Кадры решают все, не только в низшем и среднем звене, что отражал известный пропагандистский лозунг, но, прежде всего, на самом высшем.
Как видим, важнейшие характеристики советского социализма закладывались под влиянием не столько злой или доброй воли руководителей, сколько под воздействием объективно насущных обстоятельств18, которые готовы учитывать далеко не все, берущиеся судить об истории советского социализма
С этим связано многое, кажущееся сегодня совсем странным, когда события рассматриваются исключительно с позиций национальных интересов современной России, вместо фактического доминирования интернациональных интересов особенно в самый первый период после революции. В их числе тезис об отсутствии у пролетариата отечества, и идея взятия власти не в самой экономически передовой стране, Брестский мир, отчасти НЭП и национальная политика Ленина, положенная в основание образования СССР (об особом историческом контексте которой напрочь забывают критики ее федеративной конструкции), которая предлагалась всем странам и народам как образец для решения национального вопроса, а применительно к России была необходима еще и для ее восстановления в сложившихся границах. Сюда же следует отнести и редко упоминаемую попытку перевести на латиницу сначала языки тюркских народов СССР, цивилизационно смыкая их с языками народов мира (латинские алфавиты были разработаны более чем для 52-х языков при общей их численности равной 74) для создания условий, обеспечивающих «универсальное общение людей», когда «наконец, местно-ограниченные индивиды сменяются индивидами всемирно-историческими, эмпирически универсальными» [31,с.33—34]. Переход на латиницу готовился и для русского языка, что с позиций сегодняшнего времени однозначно воспринимается как «ужас – ужас». В то постреволюционное время В. И. Ленин благосклонно относился к подобной затее, усматривая в данном обстоятельстве интернациональное единение всех народов мира необходимое для победы того, что было поставлено им во главу угла – мировой революции. Это была идея интернационального, планетарного свойства. Ее применимость предполагала состоявшуюся победу мирового социализма и наступление новой исторической эпохи, которая в первые послеоктябрьские годы большинству активных революционеров казалась вполне достижимой. Идеи такого рода были направлены на устранение многочисленных оснований для политико-экономических противоречий и национальной розни между странами, имели целью сближение наций, вместо их постоянного и кровавого противостояния в истории. Суверенитет России при этом не нарушался, поскольку, включившись в социалистический мировой процесс, она не становилась от этого немецкой, британской или какой-либо еще. Этот способ единения народов исключал посягательство на чей-нибудь суверенитет и снимал саму эту проблему с повестки мирового развития. Другое решение этой проблемы означает ущемление чужого суверенитета по праву сильного с неизбежным доведением этого посягательства до применения военной силы со встречными действиями противоборствующей стороны, если она не согласна на внешний диктат. Только с учетом этого обстоятельства ленинское интернациональное понимание отношений между народами может быть адекватно понято и критически осмыслено сегодня.
Переход к социализму по классическому предвидению в качестве всемирного явления совершенно исключал бы, случись такое, необходимость мобилизационного плана действий, резких и жестко проводимых структурных сдвигов в экономике и внутренней политике (о чем велись жаркие споры в партийно-государственной и научной среде), которые стали необходимыми при построении социализма в одной отдельно взятой стране, да еще находящейся в окружении недоброжелателей. В иных обстоятельствах оказалась бы и теоретическая мысль, поставленная перед необходимостью защищать тот социализм, который фактически складывался под давлением фатальных обстоятельств, находя себе оправдание в том, что историческое развитие пошло не совсем так, как предполагал К. Маркс, и поэтому, в данном конкретном случае, руководствоваться следует не буквой, а духом марксизма.
В связи с тем, что пошаговая инструкция социалистических преобразований отсутствовала и отсутствует, поскольку, оставаясь на научной почве, она просто не могла быть написана ни Марксом, ни кем-либо еще, перед взявшими власть большевиками, во весь рост встал одновременно и ответственнейший, и тяжелейший вопрос, что и как делать? Тут затаилась настоящая «ловушка» для революционеров: надо действовать, время не ждет, а нет ни рекомендаций, ни опыта, риск неверных решений огромен.
Представления К. Маркса о хозяйственном устройстве социализма полностью теоретически выводились им из закономерностей развития рыночной системы хозяйства и капиталистических отношений собственности, с преодолением которых социализм в силу этого неразрывно связан. При этом К. Маркс не дал ничего, что могло бы называться моделью или проектом производственных отношений социализма, ничего, что указывало, хотя бы на попытку прописать что-либо детальнее, чем это требовалось для выражения самой общей, но принципиальной идеи: социализм – система, отрицающая частную собственность, рынок как экономическое условие ее воспроизводства, эксплуатацию человека человеком; социализм – сознательное и в связи с этим плановое хозяйствование, что возможно лишь в условиях общественной собственности на средства производства. Нигде в работах К. Маркса не указывается, в каких реальных формах и как практически следует осуществлять совместное владение средствами производства и совместный контроль над ними, какова в деталях должна быть социальная организация общества, со своей стороны обеспечивающая такую возможность.
Все, кто знаком или захотят познакомиться с текстами К. Маркса и Ф. Энгельса, затрагивающими данный вопрос, при буквальном прочтении этих текстов, без субъективных попыток прочитать что-нибудь «между строк» или «за текстом» и затем вменить почерпнутые таким образом собственные мысли и чувства взглядам К. Маркса, не смогут извлечь из них больше указанного выше содержания. В рецензии в связи с публикацией 1-го тома «Капитала» Ф. Энгельс указал, что К. Маркс рассматривает в «Капитале» будущее общество «лишь в самых общих чертах» [32, с. 221]. Это свойство взглядов К. Маркса на социализм он подчеркивал и в дальнейшем: «…Все миропонимание (Auffassungsweise) Маркса – это не доктрина, а метод. Оно дает не готовые догмы, а отправные пункты для дальнейшего исследования и метод для этого исследования» [41, с. 352]. Поэтому необоснованно видеть в высказываниях К. Маркса больше того, к чему эти высказывания относились и для чего они предназначались их автором: конкретно-исторический метод К. Маркса отрицал научность любых суждений о деталях той общественной жизни, которой предстояло возникнуть в неопределенном будущем и, следовательно, в не до конца известных развивающихся и изменяющихся формах.
Теория социализма Маркса – это взаимосвязанная совокупность научно поставленных вопросов о социализме. Но не теория их конкретного решения на практике в реальном историческом процессе. Когда Маркса просили назвать конкретные пути перехода к будущему обществу, он, учитывая тщетность попыток предвосхитить всю совокупность возможных обстоятельств, отвечал: «Мне кажется, что „вопрос“ … поставлен неправильно: что следует делать непосредственно, конечно же, зависит от данных исторических условий, в которых придется действовать. Но в данном случае вопрос поставлен совершенно отвлеченно, представляет собой фантастическую картину и единственным ответом на него должна быть критика самого вопроса. Мы не можем решать уравнение, не содержащее в своих данных элементов своего решения» [41, с.132]. Развернутое суждение о социализме, который должен возникнуть в неопределенный по времени момент в будущем, могло быть только застывшей доктриной, а не научной теорией.
Практика социалистического строительства в СССР не могла не воплотиться в каком-то конкретном виде, и, в связи с этим самим своим фактом действительно вылилась в определенную модель и, соответственно, в ее теоретическое обоснование. Но был ли К. Маркс автором этой модели, или в ее появлении он оказался без вины виноватым?19 Ответ на этот вопрос содержится в анализе того, в каких случаях, на каком теоретическом основании и в связи с чем К. Марксом были выдвинуты крайне немногочисленные, поразительно осторожные и абсолютно ограниченные лишь выражением общей идеи замечания относительно социализма.
Делалось это в двух принципиального свойства случаях.
Во-первых, суждения К. Маркса о социализме появлялись в связи с оценкой глубинных, сущностных черт капиталистического производства в «Капитале», которые остаются неизменными на любой стадии его развития. Социализм в этом случае выдвигался как антипод сущности капиталистического устройства жизни. Поэтому дальнейшее развитие капитализма, сохраняя эти родовые черты, не только ничего не меняет в характеристиках сущности буржуазного строя, а, напротив, делает их еще более определенными. В связи с этим не имеет никакого отношения к действительным взглядам К. Маркса критика этих взглядов за недооценку социально-экономического потенциала современного ему западного капитализма, обеспечившего в ходе поступательного развития в ХХ веке высокий жизненный уровень для наемных работников. С точки зрения классического марксизма капитализм закономерный исторически преходящий способ производства, сколь неопределенно долго он бы не сохранялся. Но, чем дольше это происходит, тем более зрелыми оказываются предпосылки социализма, полнее его социально-экономическая и политическая подготовка: раньше или позже на выходе этого процесса возникнет общественное владение средствами производства и общественный контроль над ними.
Во-вторых, характеристики социализма давались К. Марксом в ходе его противодействия распространению вульгарных представлений о социализме, требующих их критики с позиций развиваемой им науки. Этим объясняется то, что наиболее развернутые положения о двух фазах коммунистического производства содержатся в частном письме К. Маркса руководителям немецких рабочих партий к объединительному съезду в Готе в связи с принимаемой программой, в основу которой была положена возмутившая К. Маркса «догма Лассаля» о «справедливом» распределении «неурезанного трудового дохода». Этот документ был после смерти К. Маркса опубликован Ф. Энгельсом и стал известен как «Критика Готской программы».
Исследователи, которые сегодня обращаются к высказываниям К. Маркса, нередко движимые возникшей модой на его критику, не проявляют должной внимательности и осмотрительности, оценивая взгляды К. Маркса на социализм. К этому ряду необоснованных оценок относятся, в том числе, утверждения Ю. Голанд и Ф. Никипелова, исходя из которых в «Российском экономическом журнале» была объявлена дискуссия относительно существования у К. Маркса «Социалистического проекта», модели, замысла [3, с.44—47], где, во-первых, «в рамках сформулированной классиками марксизма модели социализма… нет места коллективным (групповым) субъектам экономических отношений. Все общество становится единой фабрикой» и, во-вторых, что у К. Маркса «неприятие рынка носило прежде всего моральный характер…» [3, с. 45, 46]. Авторы этих суждений, однако, явно ошиблись адресом, указывая на К. Маркса как на автора субъективных, морализаторских взглядов, починяющих себе объективное суждение. Действительная позиция К. Маркса заключалась в том, что «все революционное движение находит себе как эмпирическую, так и теоретическую основу в движении частной собственности…» [42, с. 117]. Для К. Маркса дело заключалось как раз в самой действительности, а не в праведном, но независимом от осмысления этой действительности, негодовании. Как и о любом человеке, о К. Марксе можно говорить много разного за исключением, однако, того, что он отвергал рыночное хозяйство и капитализм не в силу объективных закономерностей их развития (которые он сам же и установил), а в духе социалистов-утопистов исключительно по моральным соображениям, ввиду чего групповые субъекты и рынок, по основаниям совсем не научного свойства, были лишены им своего законного места в теории социализма.
Моральные соображения как основание для установления закономерностей общественного развития – это взгляд на историю совсем с другого, радикально противоположного марксизму «берега»20. В противовес К. Марксу и всем социалистам корифей либерализма Ф. А. Хайек, «посвятивший жизнь борьбе с социализмом во всевозможных его проявлениях» [56, с. 15], в первую очередь, именно по моральным соображениям, не принимал социализм21 и вообще все то, что может трактоваться как «социальная справедливость»22.
Суждения Ю. Голанд и А. Никипелова об «известной конфликтности коллективистских отношений» плод авторской интерпретации текстов К. Маркса, которая никакого отношения к этим текстам не имеет. Не обнаруживая в мыслях К. Маркса о социализме упоминания о коллективных субъектах хозяйствования, авторы указывают на «чрезмерное упрощение» им научного предвидения будущего, «недостатки этого предвидения», среди которых «пожалуй, главным недостатком… представлений о будущем устройстве экономики являлось неприятие рыночных отношений» [3, с. 44].
Рынок, а не план как основа социалистического хозяйства, сочетание плана и рынка – в любой из этих (и других с набором данных элементов) словесных конструкций, появившихся в ходе обсуждения экономических проблем СССР и других стран советского блока, присутствует явная или скрытая неудовлетворенность, несогласие со взглядами К. Маркса на социализм. Так происходит исключительно потому, что эти взгляды напрямую в той или иной мере отождествляются с обнаружившимися проблемами и неудачами практики осуществления социализма, выявившей роль коллективных интересов и рыночных факторов в повышении производительности труда, сбережении ресурсов, обеспечении народнохозяйственной пропорциональности, приведение в соответствие структуры потребительских товаров со структурой потребностей населения.
Но почитание К. Маркса, возведенное в абсолют в странах социализма, вовсе не означает, что его теоретические взгляды были восприняты аутентично. К оценке взглядов К. Маркса на социализм нужно подходить не с позиций сложившейся практики, не исходя из того, что получило название «социализм» по образцу СССР, как это делают, в том числе Ю. Голанд и А. Никипелов, а, напротив, с позиций марксистской классики давать оценку тому, насколько им соответствует тот социализм, который исторически возник, стал ли он не только отрицательным, но и «положительным упразднением капитализма» [42, с. 117,127, 131, 169].
У К. Маркса нет ни одного суждения, в котором он бы утверждал, что в обществе, организованном как сознательная планомерная ассоциация «нет места коллективным (групповым) субъектам экономических отношений». Нет просто потому, что он никогда не ставил проблему механизма функционирования такой ассоциации, тем более что теоретически ни из чего не следует возможность для коллективных субъектов реализовать себя исключительно в рыночной системе. Так ведь и распределение по труду можно признать (и это делалось) исключительно рыночным феноменом.
И тем более в теоретическом наследии К. Маркса нет приписываемого ему положения, которое является едва ли не общепризнанным, о том, что социалистическое общество становится «единой фабрикой». «Буржуазное сознание, – писал по этому поводу К. Маркс, – с одинаковой горячностью поносит всякий общественный контроль и регулирование общественного производства как покушение на неприкосновенные права собственности, свободы и самоопределяющего „гения“ индивидуального капиталиста» [36, с. 369]. При этом, продолжает К. Маркс, «весьма характерно, что вдохновенные апологеты фабричной систем не находят против всеобщей организации общественного труда возражения более сильного, чем указания, что такая организация превратила бы все общество в фабрику» [36, с. 369].
Система всеобщей организации общественного труда, включающая в себя общественный контроль и регулирование общественного производства, является антиподом «единой фабрики», так же как всеобщая планомерность является антиподом рынка. Фабрика в любом ее виде: от микро- до макроуровня это лишь технологические, математически просчитанные сопряжения различных звеньев и элементов производственного процесса, что исключает любые общественные формы, опосредующие пропорции этих сопряжений. Критики социализма как «единой фабрики» рассматривают в качестве краеугольной истины марксизма собственную выдумку – отрицание К. Марксом обстоятельств, которые в действительности являлись для него ключевыми в понимании социализма. Запущенный еще во второй половине Х1Х века, направленный против воззрений К. Маркса на социализм и «убитый» им аргумент о «единой фабрике», в своей исторической эволюции, в том числе не без влияния (пусть и невольного) практики строго централизованного директивного планирования в СССР, превратился в положение, якобы выдвинутое самим К. Марксом.
Таким же приписыванием К. Марксу чужих мыслей и дел является убеждение Ю. Голанд и А. Никипелова, согласно которому К. Маркс предложил «механизм реализации» принципа распределения по труду [См.: 3, с. 45]. Однако К. Маркс будучи последовательным в своей позиции прогнозировать в отношении социализма только то, что касается его противостоящей капитализму сути, позволил себе высказываться только о «принципе», в данном случае – принципе распределения по труду, при котором «каждый отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько сам дает ему» [34, с. 18], пояснив, что этот принцип содержательно и по форме будет отличаться от обмена равных стоимостей: «Производители могут, пожалуй, получать бумажные удостоверения, по которым они извлекают из общественных запасов предметов потребления то количество, которое соответствует времени их труда. Эти удостоверения не деньги» [33, с. 402].
Конечно, тот высочайший пиетет, с которым советская общественная наука привычно относилась к К. Марксу, вводит в искус увидеть в данном и других высказываниях основоположника социалистической теории механизм, проект, модель, что-то достаточно проработанное хотя бы в первом приближении. Но «почетную» честь представить его пророком всеобщего пути, «по которому роковым образом обречены идти все народы, каковы бы ни были исторические условия, в которых они оказываются» [43, с. 45]. К. Маркс решительно отвергал. «Это было бы, – подчеркивал он, – и слишком лестно и слишком постыдно для меня» [43, с. 45].
Неизбежность переходных форм в ходе становления социализма
Еще одна особенность суждений К. Маркса о социализме заключается в том, что объективное основание для своих высказываний К. Маркс усматривал в появлении при капитализме переходных форм. В ХIХ веке велась жаркая полемика вокруг проблем теории развития, связанная, прежде всего, с именами Ж. Ламарка и Ч. Дарвина. К. Маркс живо интересовался этим вопросом, создавая теорию развития общества, основание которой составляет развитие экономических отношений. Ему было хорошо известно о содержании и использовании понятия «переходная форма» в эволюционном учении. Поэтому появление в «Капитале» словосочетания «переходная экономическая форма» не было случайно и условно примененным понятием, а явилось непосредственной реакцией К. Маркса на подобного рода проблемы в социологии. Научно обосновывая, что в условиях капитализма социалистические отношения возникнуть не могут, он, однако, считал оправданным использование понятия «переходная форма» для обоснования социалистических взглядов.
Конкретность суждений К. Маркса относительно возникающих переходных форм резко различается в зависимости от степени вероятности их возникновения. Когда речь идет о переходных формах к новому способу производства, возникающих в недрах капитализма суждения абсолютно конкретны. К. Маркс считал принципиально важным с точки зрения исторической логики «Капитала» подчеркнуть: банковско-кредитная система, акционерная форма капитала и кооперативные общества составляют переходные к социализму экономические формы. Подобная определенность – прямой результат существования этих форм в капиталистической реальности. Здесь К. Маркс совершенно точен, ничего не оставляет «на потом».
Также определенно, хотя уже как о вероятном событии, К. Маркс говорит о переходных формах революционной переделки капитализма, включая сюда кооперативы, аренду, земельную ренту, кредит. В данном случае вероятность применения всего набора данных переходных форм или определенной их части уже относительна (что-то может понадобиться, а что-то нет), но она, все же, достаточно высока, поскольку выводы опираются на то, что уже сформировалась, реально существует перед глазами вдумчивого исследователя. Именно в отношении этих процессов В. И. Ленин писал, что «У Маркса нет и капельки утопизма в том смысле, чтобы он сочинял, сфантазировал „новое“ общество. Нет, он изучает как естественно-исторический процесс рождение нового общества из старого, переходные формы от второго к первому» [17, с. 48].
Конкретизация элементов общественной жизни у Маркса оказывается еще более за пределами предсказуемой реальности, когда ставится вопрос не о переходе к будущему обществу, а о том, каким ему быть. «Заранее готовые мнения относительно деталей организации будущего общества? – повторял Ф. Энгельс, заданный ему вопрос, и отвечал: – Вы и намека на них не найдете у нас» [35, с. 563].
С этим обстоятельством связана странность, которую нельзя не заметить: при полном внимании к вопросам экономической подготовки социализма в недрах капитализма, анализа с этих позиций его новой монополистической стадии, выводящей сознательное хозяйствование и планомерность, как и предвидел К. Маркс, за пределы отдельных хозяйственных единиц, никаких разработок проектов организации хозяйственной жизни в будущем обществе в дореволюционной отечественной и зарубежной марксистской литературе так и не появилось.
Подводя краткий итог, можно сказать, что взгляды К. Маркса на социализм определяются тремя принципиальными моментами.
Первый, объективным основанием закономерной смены капитализма социализмом являются возникающие в ходе развития капитализма предпосылки социализма в виде переходных форм к новому строю23. С большей или меньшей полнотой, но данное, указанное К. Марксом обстоятельство, было воспринято всей социалистической мыслью: и ее революционным крылом, и крылом реформистским. Факт наличия переходных форм не отрицался, разными были выводы из данного факта.
Второй момент заключается в том, что априорно, основываясь лишь на закономерной эволюции капиталистического строя, может быть определена только концентрированная суть социализма, то, что он будет представлять собой в конечном итоге в качестве исторической противоположности общества, которое его подготовляет. Конкретнее ничего сказано быть не может, поскольку реальные формы людям предстоит выработать самим на пути к этой конечной цели. Такова эта конечная цель, что ничто не может быть навязано ей заранее. Поэтому К. Маркс, предвидел, что преобразование общества «в действительности весьма трудный и длительный процесс» [42, с. 136], проходящий, добавим, не иначе, как через переходные формы.
Третий момент состоит в том, что переходные формы непосредственных социалистических преобразований в их конкретности не могут быть предсказаны заранее: они продукт складывающихся обстоятельств и, следовательно, должны вытекать из этих обстоятельств и соответствовать их требованиям, никогда, при этом, не теряя из виду конечную цель.
Наконец, четвертый, момент затрагивает судьбу социалистической теории после Октября 1917 г. Он указывает на то, что она обретает конкретность только через практику становления социализма, совершенствуется, уточняется и исправляется на ее основе. Никак иначе. Умозрительным путем, она развиваться не может.
Понимая, что учебника по осуществлению непосредственных социалистических преобразований нет, Ленин ясно видел необходимость «выкарабкиваться самим» [20, с. 22]. Но как, в какую сторону выкарабкиваться, оставаясь на реалистичной почве? Ответ Ленина был в русле марксистской естественно-исторической традиции. «В процессе социалистического строительства, – указывал он, – как и во всем историческом творчестве, пролетариат берет свое оружие у капитализма, а не „выдумывает“, не „создает“ из ничего» [17, с. 310]. Принципиальная установка, которой Ленин, в связи с этим руководствовался, заключалась в том, что «Всеми и всяческими экономически-переходными формами позволительно пользоваться и надо уметь пользоваться, раз является в том надобность…» [20, c. 227—228] «Искать переходные меры, – писал он в этой связи, – задача очень трудная. Не удалось быстро и прямолинейно это сделать, мы духом не упадем, мы свое возьмем» [19, с. 72].
В пределах небольшого послереволюционного времени, отведенного Ленину судьбой, им был обоснован ряд ключевых для жизни страны переходов: к продналогу, от него к продразверстке и затем к нэпу. Кто знает, какие еще формы организации хозяйственной жизни страны, которая хотела быть социалистической не только по названию, Ленин, именно в силу своего понимания теоретических позиций Маркса, мог бы в последующем открыть для себя и предложить стране? Самые первые, неотложные меры перехода к социализму или подхода к нему, указанные Лениным, такие как общегосударственный контроль за производством и потреблением, регулирование потребления, национализация банков, синдикатов, образование единого государственного банка, объединение в союзы, наконец, государственный капитализм во всем многообразии его форм – это все явления которые «подсказаны» капитализмом, будучи в определенной мере им созданы, так что необходимым является их развитие и наполнение содержанием, требуемым для социалистических преобразований.
С окончанием Гражданской войны закончилась и безвозмездная крестьянская поддержка. На этой почве при невозможности дать крестьянам взамен хлеба нужные им товары промышленности начались волнения и мятежи, бунты трудовых армий – воинских частей, не распущенных после окончания боевых действий и направленных на хозяйственные работы. Отдавать кому-либо завоеванную власть и сдаваться большевики, естественно, не собирались. После октябрьского вооруженного восстания и кровопролитной Гражданской войны дороги назад для них не было. И не только для них, но и для поддержавших революцию широких слоев общества.
В. И. Ленин нашел выход из тяжелого кризиса в виде новой экономической политики, восстановившей отрытый товарооборот, как он полагал «всерьез и надолго». Для многих большевиков, пришедших с Гражданской войны, нэп казался тяжелым поражением революции, откатом ее назад, предательством партийных руководителей. Переход к нэпу заставил В. И. Ленин поставить вопрос о необходимости «признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм» [15, с. 376]. В перестроечное и постперестроечное время такого рода перемену стали напрямую связывать с тем, что практика строительства социализма привела теоретика и вождя революции к мысли о необходимости товарного производства при социализме. А значит, к фактическому признанию того, что Маркс ошибся в своем теоретическом предвидении, считая, что социалистическое общество, обеспечивающее равенство и свободное развитие каждого индивида, исключает в целях достижения этого товарное хозяйство, как неустранимый источник социально-экономического неравенства. Но нэп – это не социализм, и даже не его близкий пролог. Это ранняя переходная экономическая форма, которая, по мысли Ленина, как оружие, берется на время у капитализма для грядущей победы над ним, чтобы из нэпа, с его помощью вырастал бы социализм. Смысл нэпа был сформулирован В. Лениным в предельно ясной фразе: «Из России нэповской будет Россия социалистическая» [21, с. 309].
Поэтому объявленная В. И. Лениным в ходе нэпа перемена точки зрения на социализм совершенно не относилась к критике классической теории нового общества на основе практики его создания, которая потребовала реанимировать товарный оборот. Все дело заключалось в ясном осознании того, что быстро, путем лихой «кавалеристской атаки» к социализму не придешь. Новое общество должно строиться долго, настойчиво, терпеливо и, обязательно грамотно. Введение В. И. Лениным в теорию становления социализма исторического момента, естественно-эволюционного развития его форм, не только не закрывало вопрос об использовании товарно-денежных отношений в деле строительства социализма, а напротив, указывало на эти отношения как на важную необходимость, к использованию которой надо подходить осознанно.
Как показано выше, В. И. Ленин не находил у К. Маркса модели социализма: он действительно был марксистом и по своей мировоззренческой ориентации, и по духу. Чтобы мы сейчас знали, как будет выглядеть законченный социализм, писал он после революции, мы этого не знаем, нет еще для его характеристики материалов. Но после смерти В. И. Ленина, со второй четверти ХХ века, теоретическая мысль, за исключением некоторых научных направлений в философии и политической экономии, стала отводить учению К. Маркса о социализме противоестественную его мировоззрению честь быть пророком, а не ученым. Идейные последователи К. Маркса, так же, как и противники марксизма, каждый по своим причинам, утвердились в вульгаризирующей марксизм ошибке, полагая, что в трудах К. Маркса даны ответы на вопросы, которые рождались непрогнозируемым сплетением многочисленных экономических, политических и социальных обстоятельств в далеком от него будущем. Приняв это за непреложный факт, легко становится говорить о созданной К. Марксом модели социализма, об утопических, не подтвердившихся со временем чертах классического социализма, обнаруживать в нем недооценку возможностей капитализма, товарно-денежных отношений, «доктринальные» корни сталинизма. И, как следствие, связывать с именем К. Маркса и возлагать на него ответственность за чужие, конкретные уже модели и проекты, якобы родившиеся на основе моделей и проектов, подготовленных им самим.
Конечно, прав замечательный философ-марксист М. А. Лифшиц, пафос многих произведений которого состоит в том, что марксизм не отвечает за мысли и дела его негодных интерпретаторов [см.: 23, с. 34]. Однако, рассматривая эту проблему, приходится, как это ни парадоксально, признавать невольную причастность к ее появлению… самого К. Маркса. Высочайшая, уникальная научная культура его произведений, создала немалые трудности для их адекватного восприятия и широкий простор для невольных и сознательных вульгарных интерпретаций, для постановки знака равенства между действительным содержанием этих произведений и тем, что позднее стало называться марксизмом. Такое отождествление даже заставило Маркса однажды заявить: «Я знаю только, что сам я не марксист» [34, с. 324].
Чем значительнее научная теория, неважно из какой она области знаний, чем больше у нее сторонников, комментаторов и пропагандистов, старающихся «облегчить» ее понимание, с легкостью и без специальной подготовки берущихся популярно разъяснять любые трудные места, тем в большей опасности находится эта теория и, прежде всего, ее фундамент – методология: философские основания, историзм, объективные границы применения. Все это относится как к профессиональным в данной научной области людям, так и, тем более, к простым поклонникам общего смысла теории, способным незаметно для себя разрушать и дискредитировать то, что создано научным гением. Немало таких псевдомарксистских представлений в ХХ веке опорочило и замарало, в том числе и кроваво, идею социализма, нанеся ей тяжелый урон.
Для последователей К. Маркса ошибка в трактовке социализма приобрела фатальный характер. Она исказила теоретическое осмысление практики социализма и само понимание того, какой должна быть эта практика, сведя сложнейшее по своей внутренней организации явление общественного контроля за производством и потреблением, о котором говорил К. Маркс, лишь к быстро достижимой простоте: утверждению государственной собственности и введению директивного планирования.
Никто не оспаривает справедливость слов И. В. Сталина о суровой необходимости за 10 лет сделать экономический рывок, чтобы предохранить страну от неизбежного поражения в надвигающейся войне [см.: 50, с. 423]. Причем этот вопрос касался не только защиты социализма, но ровно в той же мере и сохранения исторической России, поскольку территории СССР и бывшей российской империи во многом совпадают. События показали, что сталинская оценка почти точно совпала со временем, отпущенным стране объективным ходом мировой истории. Получатся, что две с половиной советские предвоенные пятилетки спасли Россию, переведя ее экономику на современную во многом конкурентоспособную индустриальную основу.
До ХУ1 съезда ВКП (б) (1930 г.) в нашей стране в обстановке острой идейной борьбы выдвигались и обсуждались разные пути дальнейшего социально-экономического развития, подходы к созданию основ социалистического хозяйства, создавая возможность выбора из ряда альтернатив. При прочих равных условиях это, несомненно, стимулировало развитие теоретической мысли, повышало требования к уровню объективности и критичности научных выводов. После указанного съезда стал быстро утверждаться единый взгляд на основные экономические черты социализма в качестве единственно возможного, бесспорно правильного и безупречного. Процесс развития социально-экономических наук в этих условиях стал в значительной мере утрачивать свою интеллектуальную самостоятельность и творческую свободу24.
В посленэповский период своей истории СССР вернулся к доминированию непосредственно-общественных отношений, построению планово-директивной экономики, осуществил кооперирование сельского хозяйства и индустриализацию, став в итоге пятой державой мира. Все произошедшее в СССР с момента прекращения нэпа до периода послевоенного восстановления страны и смерти И. В. Сталина в 1953 г., как показывают события, результат реакции власти на объективные, прежде всего, внешние и внутренние экономические обстоятельства, в отношении которых, советский социализм был принципиально уязвим. Но в итоге страна сошла с траектории эволюционного развития через закономерные переходные формы, необходимость вернуться на которую она ощущала, но так и не смогла. Внятного плана этого разработано не было: не гарантированного плана выхода на данную траекторию, а хотя бы мыслимого.
За все достигнутое: успех Революции и победу в Гражданской войне, коллективизацию, индустриализацию, разгром фашизма, послевоенное восстановление народного хозяйства, гонку вооружений, вынужденное участие в холодной войне, т. е. за многие десятилетия сверх напряженного строительства сильной, ставшей второй в мире, экономики в условиях постоянного противостояния недружескому миру, приходилось всякий раз платить. Платить длительным мобилизационным периодом существования страны и жизни населения в режиме «победить или умереть» с неизбежными социально-экономическими особенностями государственного устройства, большими жертвами и серьезными бытовыми лишениями. И с зарубками, остающимися в исторической памяти.
Анализируя эти события с холодной беспристрастностью отдалившегося времени, можно было бы сказать, что заплаченная цена могла быть и меньше. Вокруг этого вопроса сложилась напряженная полемика в связи с тем, что под сомнение ставится целый ряд узловых фактов истории СССР. Но, во-первых, далеко не все здесь зависело от Советской власти. Огромное значение имел фактор времени сила сопротивления социалистическому переустройству, напор врага, угрожающий существованию исторической России, международная обстановка.
Революций и войн на полное уничтожение противника не бывает без страсти. А это особое состояние чувств и действий. Поэтому, когда вопрос возникал в той исключительной остроте, в какой он едва ли не всякий раз возникал в критический момент: победить, защищая Отечество, или умереть вместе с ним, в этом судьбоносном случае включался другой, высший, моральный принцип: «за ценой не постоим». Это потом, после победы нужен военно-исторический разбор «полетов» и документальный анализ обоснованности потерь. Но результат этого анализа, как бы ни был горек его конечный итог, не может служить доказательством необходимости прекращения борьбы, если она потребовала жертв больше кем-то определенной величины. Героическая оборона блокадного Ленинграда ближайший, осмысливаемый до сих пор, пример такого рода нашей истории. На личном уровне подобным образом ставил вопрос и В. Путин. «Я решил для себя, сказал он в 2007 году, – что готов для восстановления своей страны на все, на любые жертвы, то есть я для себя определил это как главный смысл всей моей жизни».
Но, ни в коей мере не оправдывая эксцессы, которые принес мобилизационный период жизни страны, нельзя, однако не видеть, как сильно сжатое суровыми геополитическими обстоятельствами время, отведенное стране на экономический подъем, объективно давило на всю ситуацию, дополнительно ускоряя введение колхозного строя, провоцируя всякого рода «перегибы», в том числе неоправданный произвол и насилие. Коллективизация ведь не была отдельной, изолированной мерой. Она была системной мерой, необходимой предпосылкой, подготовительной ступенью к будущей и уже намеченной индустриализации, ее трудовым, материальным и финансовым ресурсом.
Исчерпание возможностей мобилизационного уклада. Критическое накопление негативного социального потенциала
Оценивая путь, пройденный СССР, существенно важно принять во внимание общественные последствия, которые вызвал к жизни мобилизационный уклад. Именно в пределах его и в связи с ним сформировались такие ключевые политико-экономические черты, как особый характер государственной и партийной власти, характерный способ формирования органов власти, в частности всеобщие, ступенчатые и безальтернативные выборы, ведущая роль СССР в геополитике, разрушении колониальных порядков, система централизованного планового руководства, избыточный военно-промышленный комплекс, отраслевой принцип управления народным хозяйством. Сложился менталитет советского человека. Возник особый идеологический, политический, экономический и социально-культурный облик советского социализма, его восприятие в мире. Именно этот конкретный и, неизбежно специфический облик, получил теоретическое выражение в общественных науках в виде научного социализма. В силу своей практической успешности и мировой единственности он был канонизирован советским обществоведением в качестве реального классического марксистского образца, подлежащего распространению. Фактически, однако, он лишь аккумулировал исключительно особый и неповторимый опыт строительства социализма в СССР, протекавший в своеобразных условиях бывшей российской империи. Конечно, это суживало, деформировало и загоняла в тупик реальное теоретическое пространство социалистической мысли, а с этим и ее прикладные возможности.
Как это ни парадоксально, но, именно благодаря мобилизационному укладу и завоеванной посредством его абсолютной суверенности существования СССР (атомный паритет с США), время социально-экономической мобилизации общества в качестве вынужденного способа выживания советской власти стало утрачивать свой прогрессивный смысл, пусть даже это был прогресс в ограниченно демократической форме. Вместе с этим позитивный потенциал мобилизационной идеи, ярко проявившей себя на российской почве, начал иссякать. Стал нужен переход к новому укладу, ориентированному не на экстенсивный, а на интенсивный экономический рост с отказом от искажающего цель социализма приоритета производства средств производства при определении плановых показателей развития в пользу производства потребительских товаров и увеличения их импорта по ряду важных товарных групп. Тем не менее, в отвоеванном потом и кровью праве на мирную и спокойную жизнь, в бесклассовом обществе продолжали действовать в политическом устройстве и в экономической жизни, пусть и в смягченном виде, основные приемы мобилизационного уклада, сохранившиеся из времени, альтернативой которого было «победить или умереть». Людям, однако, оправданно хотелось более свободной и обеспеченной жизни.
Со второй половины 50-х гг. темпы экономического роста СССР стали затухать. А в последнее десятилетие своего существования советская экономика отставала от своих главных конкурентов – США и других индустриальных стран уже не только по абсолютному уровню и доле национального дохода, идущего на личное потребление, но и по общим темпам роста экономики, что до этого периода выступало как зримое преимущество советской плановой системы. Фактически опять встал судьбоносный вопрос о выживаемости социализма. Только теперь это была плата не за противодействие внешней угрозе, а за нарушение исторической «очереди» – естественной и необходимой последовательности форм экономического развития, которая была нарушена мобилизационным режимом жизни страны. Настоятельно стали нужны преобразования, которые в своей общей направленности устранили бы принудительный, вызванный мобилизационным укладом, перекос в соотношении производительных сил и производственных отношений, тормозящий экономическое и социальное развитие.
Само по себе осознание этого императива произошло не на рубеже 1950-1960-х годов, как многие считают, а десятью годами раньше. По некоторым сведениям, 1951 году И. В. Сталин пригласил к себе Д. Т. Шепилова и в ходе беседы высказал то, над чем сам давно уже размышлял: «Мы думаем сейчас проводить очень крупные экономические мероприятия. Перестраивать экономику на действительно научной основе. Положение сейчас таково… либо мы подготовим кадры наших хозяйственников, руководителей экономики на основе науки, либо погибнем! Так поставлен вопрос историей» [См.: 47, с. 56]. Нет, конечно, оснований утверждать, что автор приведенного выше пассажа имел в виду перевод экономической теории социализма (и самого ее предмета) на траекторию, обозначенную классическим социализмом: набранная инерция движения по другой, охарактеризованной выше, траектории, была труднообратима. Но впечатляет драматичность постановки вопроса: с такой чрезвычайностью формулировалось лишь значение индустриализации. Значит, «допекло»! Осознание отмеченной острой необходимости вкупе с проявлением мощной политической воли, конечно, могло бы дать результат. Однако ничего существенного из того, что требовала практика и что в той или иной мере сознавалось теорией, к глубокому сожалению, не последовало ни при жизни Сталина, ни впоследствии, в том числе в ходе косыгинских реформ. Сложившаяся, и во многом адекватная чрезвычайным обстоятельствам времени своего возникновения, но неверная для периода, когда эти обстоятельства ушли в историю, теория стояла на пути перемен несокрушимой стеной.
В теории и на практике требовался сложный маневр – своеобразное отступление в будущее – от последовательно централизованной плановой экономики к планово-рыночной (определения могут быть и другие). И при этом не скатиться в рыночной социализм. Конкретные формы должны были бы, прежде всего, вырастать из опыта, базироваться на нем. В любом случае это должна быть смешанная, многоукладная экономика, сохраняющая социалистические цели и принципы развития: стратегический контур общенародной собственности, базовое распределение доходов государства в пользу всех и каждого, дополнительное распределение по критерию рентабельности. При этом должно сохраняться сильное политическое влияние идейно здоровой, преданной принципам социализма компартии, способной обеспечить движение к социалистическим целям в направлении социальной справедливости и равенства. В условиях отсутствия такого влияния перерождение советского социализма в капитализм стало только вопросом времени.
С неизбежностью «забегая» вперед при осуществлении негативного отрицания капитализма, необходим затем разумный «отход» назад, но не в качестве признания совершенной ошибки, а для, чтобы, как разъяснял В. Ленин, старые формы сделать орудием полной и окончательной, решительной и бесповоротной победы. Но, как же, до невозможности, психологически труден после всех достижений и жертв предшествующего драматического, но победного этапа, этот шаг назад. В отсутствие соответствующей теории он становится вообще не реален, что и подтвердил опыт СССР. В 80-х гг. конкурирующими стали два варианта: либо новая попытка реформировать существующую экономическую систему с сохранением ее родовых свойств, бесполезность чего показали послевоенные годы, либо, как бы это словесно не камуфлировалось, фактический отказ от марксистского социализма. Вариант, снижающий планку признания нашего общества как уже реально социалистического и включающий переходные формы для достижения такого состояния, отсутствовал. А именно в нем был исторический шанс для СССР.
Строительство социализма в отдельной стране и первоначальная экономическая слабость, которую пришлось преодолевать стремительным рывком, привели СССР к построению мобилизационной системы общественных отношений, а экономическое соревнование двух разных миров в купе с потребительскими склонностями на фоне буржуазного изобилия к потере авторитета плановой системой. Кризис мобилизационного уклада сделал ключевым вопросом социально-экономической повестки дня соотношение централизма и самостоятельности предприятий в управлении народным хозяйством, директивного плана и рынка. Уже начиная с 1950-х гг., в стране стал обсуждаться тезис о децентрализации системы управления. При этом большинство научных работников и практиков полагали необходимым всемерное развитие самостоятельности отдельных предприятий. С середины 60-х гг. акцент в этой теме был перенесен на вопрос о природе, месте и роли товарно-денежных отношениях в социалистическом обществе. Отсутствие рыночного саморегулирования стало рассматриваться, как главная причина падения эффективности советской экономики, и социальной неудовлетворенности населения существующим положением: скудностью предлагаемых потребительских благ и их низкой доступностью, особенно по товарам длительного пользования. Практика централизованного планирования стала дискредитироваться не лишенными оснований обвинениями в том, что она породила «экономику дефицита и очередей». Скорейший переход к рынку представлялся в качестве неизбежного и спасительного блага. Пропаганда товарно-денежных отношений сделалась модой. Выбор, который предлагали теоретики, был между рыночным социализмом путем полного хозрасчета (и неизбежной утратой социалистических начал в процессе естественной эволюции) и совершенствованием планомерности на базе ведущихся разработок, дополненных традиционным хозрасчетом.
Бесконечные разговоры о благотворной роли товарно-денежных отношений привели к нарушению логики реформы. Она началась «снизу» – с разрешения мелкой частной и коллективной частной собственности, т.е. без подготовки необходимых условий функционирования частной собственности в одной системе с государственной собственностью. В связи с этим, прежде всего, движение реформы должно было идти «сверху»: – госсобственность, прежде всего, следовало ранжировать по степени рыночности и возможности применения планового управления от директивного уровня до индикативного. Должен был быть воссоздан оптовый рынок ресурсов со своими особыми ценами, ориентированными на рынок, система кредитования и налоговая системы, обеспечивающие пополнение государственного бюджета и покрытие бюджетных расходов, контроль наличного денежного обращения и т. п. Без этого получилось то, что и должно было получиться, – частные предприятия покупали у государственных предприятий, получивших расширенные права, ресурсы (других возможностей не было) по государственным плановым, низким, ценам. А продавали свои услуги и товары по монопольным ценам псевдорынка. Итогом стало фактически сознательное восстановление в 1987—1988 гг. теневого сектора, существующего за счет государственной собственности, разбалансированность денежного обращения, возникновение капиталов для первоначального накопления и приватизации. Не будет преувеличением признать, что самыми разрушительными и вредными для страны стали «Закон о государственном предприятии» (1987 г.) и «О кооперации в СССР» (1988 г.).
Таковы, если коротко, были общие, объективно заданные, теоретические координаты для назревшей экономической реформы, которая своими положительными результатами могла бы улучшить материальное положение советских людей, а с этим начавшие скисать общественные настроения. Но власть испугалась сложившейся не идеальности социалистического идеала. Остановившись в экономическом его продвижении, она оказалась в тупике. Имеющие идеологические приемы начинали восприниматься населением как ложные. Уже к середине 1970-х гг. КПСС превратилась из единой «направляющей и руководящей силы» в рыхлую, целиком зависимую от партаппарата структуру. Партия как творческая сила строительства социализма начала умирать. Происходил фактический разгром КПСС под руководством КПСС. В конце концов, это привело к отмене 6-й статьи Конституции СССР и далее к поражению коммунистического проекта в стране и в мире. Внутриполитические факторы стали сказываться все более деструктивно, возникла идейная слабость и вялость власти, которую с приходом Ю. Андропова пытались усилить дисциплинарно воспитательными и административными методами.
Концепция советского социализма – возможность его осуществления в отдельно взятой стране, содержала в себе капитальное и опасное противоречие, разрешить которое СССР оказался не в состоянии. Решая задачу надежного обеспечения независимости страны, Советский Союз не смог сделать конкурентноспособным свой общественно-политический строй в условиях жесткой военной, экономической и идеологической конкуренции двух мировых систем. Это противоречие в полной мере созрело к середине 70-х годов, став через небольшое время причиной его гибели. То, что необходимо было делать в условиях существующего в России хозяйственного уклада и сжатых границах отпущенного исторического времени для обеспечения суверенитета страны, методы, которыми это могло быть достигнуто, по своей сути не могли быть вполне социалистическими, ибо требовали активного принуждения населения, его особой полувоенной организации, пусть и сознательной, массовой, вдохновенной, но жертвенности. Это не могло быть устойчивой практикой социализма, как это допускала его сталинская трактовка. Социализм, который еще предстояло достроить, по определению не должен лишать людей ни свободы выбора, ни возможности самовыражения, если претензии на это не носят асоциального характера и не задевают общественную нравственность. Командовать в этой сфере, значит, опускать планку самореализации индивида ниже того уровня, которого она достигает при капитализме. Все это должно было быть сохранено и переведено в реальную плоскость в системе так или иначе планового производства и распределения. Но советское плановое хозяйство постоянно вызывало погашение личностного самовыражения. В итоге при Н. Хрущеве начали угасать искренние проявления советского патриотизма, люди начали терять жизненные ориентиры. Застой стал образовываться, прежде всего, не в экономике и уровне жизни, а в идейно-моральном климате общества. Все это происходило при активной помощи науки, вставшей на путь идеализации сложившегося в СССР социализма. В конце 80-х гг. вполне проявившими себя результатами указанного противоречия воспользовались противники всего советского, в союзе с противниками России.
В том социализме, который был, всем, конечно, хотелось жить лучше. Но это казалось делом времени. В СССР не только партийно-идеологический аппарат, но и вся имеющаяся группа общественных наук не подвергала сомнению тот, казалось бы, эмпирический факт, что советское общество – это общество, если не во всем, то почти во всем – социалистическое. Начавшаяся создаваться в начале 50-х гг. политическая экономия социализма возникла из такого безоговорочного признания и исходила из него все годы советского периода. Эта позиция была общей для всех сформировавшихся позднее направлений в данной теоретической дисциплине, адресующейся именно к сложившейся в основном системе социалистического хозяйствования как своему объекту. «Основная трудность заключалась не в репрессивном режиме (это лишь внешний фактор), – отмечает в данной связи М. Воейков, – а в том, что сами ученые находились в ловушке сталинской методологии. То есть авторы считали и верили, что живут при социализме (с любыми эпитетами, не в этом дело) и пытались на основе марксистской методологии объяснить это общество. Последовательное уточнение какого-либо официального идеологического положения приводило, в конце концов, или к отрицанию социалистического характера общества, или к отрицанию соответствующего положения марксизму» [60, с.143].
В социальной жизни, как и в любой деятельности, не бывает так, чтобы высокий результат достигался без чувствительных потерь и немалых негативных следствий. Эпохальные достижениями СССР доказывали, как действенность социалистической организации жизни и силу вдохновляющего эту жизнь коммунистического идеала. Одновременно, в то же самое время, огромные жизненные трудности на пути к осуществлению социалистических задач не могли не порождать негативный общественный фон. До поры до времени, несмотря на мобилизационный (со многими административными ограничениями и бытовой неустроенностью) уклад жизни, точки социального напряжения купировались доминирующим позитивным общественным настроением, которые подпитывались ощущением страны, энергично двигающейся вперед. Казалось бы, невозможное стало возможным, высокая идея, несмотря на очевидную нерешенность многих вопросов, навсегда соединилась с энергией и политическим сознанием масс. Ведь в самое ответственное время: в довоенный период и в годы войны, а также в течение 15 лет послевоенного восстановления народного хозяйства, увенчавшихся атомным паритетом с Америкой и космическим полетом Юрия Гагарина, социализм убедительно доказывал свои созидательные возможности.
Вопросы эффективности экономики, НТП, стимулов к труду, развития потребительского сектора действительно требовали расширения и усиления коллективной и личной материальной мотивации, которую централизованное хозяйствование ограничивало, а рыночное – стимулировало. Увлеченность стран социалистического содружества реформами товарно-денежного свойства теоретически и практически была вполне закономерной. Все они без исключения имели национализированную экономику, подчиняющуюся народнохозяйственному плану. Гипотетически можно представить рыночно реформированную советскую экономику как продолжение и развитие принципов нэпа. Но в свое время подобное не случилось. Строительство социализма в отдельной стране встретилось с такими внешними угрозами, встречный ответ на которые потребовал длительного отказа от свободы оборота и саморегулирования. Естественноисторическая линия хозяйственного развития главным образом по острой необходимости, а не по чьей-то неразумной воле, была прервана той хозяйственной системой и соответствующей ей надстройкой, которая способствовала решению задач политического момента, поставившего вопрос о выживании страны. Произошло, даже не постепенное, а залповое забегание вперед, отрыв производственных отношений от производительных сил, оказавшийся не временным, а устойчивым явлением.
Взбудораженный рыночными страстями научный мир и общественное мнение стран социалистического сектора разделилось на товарников и антитоварников. На научной конференция 27—29 января 1971 г. «Марксистско-ленинская теория развитой социалистической экономики» в качестве вершины теоретической мысли был поставлен вопрос о социализме как самостоятельном способе производства с органически присущими ему товарными отношениями. Все это выставлялось в противовес господствующей официальной точке зрения, связывающей действующую, по сути, антитоварную социально-экономическую структуру в теории и на практике с коммунизмом как его первой фазой. Утверждалось, что будущего у этой структуры нет – это тупик исторической эволюции, поскольку она не стимулирует экономического и духовного развития общества из-за отсутствия институтов политической демократии [См.:5, с.126]. Неспособность понять, что органическая необходимость товарных отношений вырастает из незрелого, переходного состояния социализма в СССР, а не из отсутствия теоретического признания его самостоятельным способом производства, привела к советской форме ревизии марксизма под флагом его творческого развития.
Социализм невозможен без государственной формы общественной собственности, без того, чтобы государство не осуществляло прямой организации решающих хозяйственных процессов. Без этой деятельности государства от первого лица движение общества к социальной справедливости пустой звук. Но тут существенно важна мера, которая определяется стадией зрелости общества, которое хочет быть социалистическим. Полный, завершенный, социализм требует всеобщих непосредственно-общественных отношений. Но это теория. На практике такого социализма еще не было. Был формальный, переходный, неполный социализм, требующий, наряду с безусловной планомерностью реальных автономных товарно-денежных отношений на базе, в том числе, негосударственной собственности. Концепция сталинского социализма этого не допускала: она исходила из необходимости так или иначе охватывать централизованным государственным регулированием всех субъектов хозяйствования.
Исчерпание возможностей мобилизационного уклада
Строительство социализма в отдельной стране и первоначальная экономическая слабость привели СССР к построению мобилизационной системы общественных отношений, а экономическое соревнование двух разных миров в купе с потребительскими склонностями на фоне буржуазного изобилия к потере авторитета плановой системой. Послевоенный советский социализм стал чувственно слишком груб для изменившегося с течением времени самоощущения людей в советском обществе. Длительное время, разрешая жизненный конфликт двух моральных систем «мое» и «наше» в пользу «наше», советский человек постепенно начал терять этот важнейший для социализма жизненный ориентир. Он начинал чувствовать, что, несмотря на все жертвы и самоотверженность, ожидаемое благополучие и обещанное царство свободы – коммунизм недостижимы. Идеал перестал подпитываться своим позитивным содержанием прекрасного будущего, его вытеснял негативный потенциал окружающей реальности. «Наше» не стало также и «моим». Советскому человеку так и не объяснили, что социализм еще не есть свобода, а лишь путь к освобождению, с траектории которого нельзя сходить. Слушая перестроечные речи о благе общечеловеческих нравственных и либеральных ценностях, которые должны заместить социалистический идеал, он, недовольный своей жизнью, и не знающий по собственному опыту капиталистическую жизнь даже поверхностно, еще не мог понять, что стоящие на трибуне новые люди могут казаться внешне хорошими, болеющими за народ либералами, но хорошего либерализма уже нет, он весь остался в прошлом, на заре капитализма, став силой враждебной историческому прогрессу. В отличие от 1917 года массовое общественное сознание было захвачено мыслью не о том, что и как будет, а мыслью о том, чтобы не было так, как есть.
С победой социалистической революции в России был запущен процесс, определяемый противоречием между конечной целью революции – построением общества социального равенства, и необходимыми социальными и научно-техническими ресурсами для этого. Был исторически выстраданный предшествующей философской и экономической научной мыслью социалистический идеал, и был в распоряжении большевиков человеческий ресурс, который, при условии своего адекватного стоящей революционной задаче развития, вполне соответствовал этой высокой цели. Оба полюса в их диалектической связке были материальной силой, которая двигала и разрешала это противоречие в интересах страны, обеспечивая ее экономическое и оборонное величие, культурный расцвет. На этом рывке к социализму ресурс веры и надежды тратился под влиянием больших трудностей и бытовых лишений, которые испытывал народ. Но он и пополнялся воодушевляющими большими и малыми победами, сохраняя в сознании людей социалистический идеал как цель. В какой-то момент, с начала 60-х гг., а с 70-х в особенности, уже совсем не в той степени, в какой расходовался и иссякал.
Наш, рожденный практикой мобилизации социализм, проигрывал в сравнении с внешней атмосферой окружающего капиталистического мира. Запад своим существованием приносил дух, основанный на культе потребления, как смысле жизни, манил безграничной индивидуальной свободой, красивой и богатой жизнью. Распространение такого мироощущения разлагающе действовало на сознание людей, ограниченных во всем этом существующей системой, правилами и традициями каждодневной жизни, естественно, не исключая членов КПСС. Страна начала скользить от духовного идеала добра и справедливого мира, которым жила прежде, к поклонению материальным благам и далее к желанию прибыли. Ощутимо стал проявляться комплекс неполноценности советского человека, потеря им самоуважения. Запрет свободного выезда за границу помимо недоумения и раздражения, обоснованной черной зависти, приводил к незнанию всей полноты капиталистической жизни, ее реальной сложности, а не только фасадного блеска. Растиражированных «Хижины дяди Тома» и «Пятнадцатилетнего капитана», включенных в школьные учебники, для такого критического знания было, естественно, недостаточно. Отсюда сомнения населения в верности избранного политического пути, претензии к власти и КПСС, любовь к острым политическим анекдотам. Не выдерживая конкуренции прямым опытом, социалистический идеал умирал, поскольку от него оставалась идеологическая форма, не имеющая под собой устойчивого материального основания. На смену ему пришел идеал рыночной экономики, который превратился в культ, исключающий разумное к себе отношение.
Жизнь рождала свою моду, свой стиль, свою атмосферу. Запад привносил совсем другой дух, своим существованием нес другую правду жизни. Безграничной индивидуальной свободы, предприимчивости. Рискованного успеха, красивой и богатой жизни. Акцент на потребительстве как смысле жизни. Манящих возможностях. Распространение такого мироощущения разлагающе действовало на сознание людей, ограниченных во всем этом существующей системой, не писанными правилами и традициями каждодневной жизни.
Власть испугалась очевидной неидеальности социалистического идеала. Остановившись в формировании материальных условий его продвижения при ослабевшем влиянии политических факторов, она оказалась в тупике. Уже к середине 1970-х гг. КПСС превратилась из единой «направляющей и руководящей силы» в рыхлую, целиком зависимую от партаппарата структуру. В конце концов, под влиянием фактически антисоветских сил, это привело к отмене 6-й статьи Конституции СССР и далее к поражению коммунистического проекта в стране и в мире. Внутриполитические факторы стали сказываться все более деструктивно, возникла идейная слабость и вялость власти, которую с приходом Ю. Андропова пытались усилить дисциплинарно воспитательными и административными методами. В этих сложных условиях партийное руководство страны стало склоняться к восприятию либеральной идеи сглаживания, преодоления размежевания двух противоборствующих мировых социально-экономических систем, их конвергенции и сближения государственных моделей капитализма и социализма. Возникла надежда на примирение в рамках мирного существования, благодаря чему СССР, как предполагалось, добьется нового экономического, научно-технического и социального прогресса. Это был первый случай, когда высшие представители советской власти теоретически стали допускать, что социализм может «подвинуться» в своем непримиримом идеологическом противостоянии с Западом, после чего отношения приобретут равноправный, партнерский характер. М. Горбачев не был первым на этом скользком пути, в конце которого неизбежным было разочарование и потеря страны. Жизнь показала, что мы не только не знали общества, в котором живем, исходили из ложного теоретического понимания его реального положения, но также лишь вчерне представляли себе и другую сторону – глубинную природу совсем не ангельского послевоенного капитализма, рассчитывая, что практическая конвергенция разных социальных систем успокоит и примирит весь неспокойный мир.
Под патронатом Ю. Андропова высшее советское руководство в интересах будущей широкой рыночной трансформации экономики и общества негласно, в стране и за рубежом, начало подготовку кадров будущих реформаторов из молодых выпускников советских вузов, в первую очередь московских и ленинградских. Существующие научные и управленческие кадры не без оснований считались не способными на крутое рыночное переустройство экономики и общества, в объективной необходимости которого сомнений уже не оставалось. Знали бы советские руководители, что своими «заботливыми» действиями по подготовке грядущей, плохо представляемой и потому идеализированной в своих прокламируемых преимуществах, рыночной реформы, главными консультантами которой стали западные специалисты, разгоняют мощную антисоветскую волну, накрывшую СССР, а затем своим безрассудством и постсоветскую Россию. Кадры, которые готовила, и на которые надеялась власть, стали ее главными ликвидаторами.
Безучастное отношение советских людей с конца 80-х гг. к своему будущему, без социалистической перспективы, складывалось на протяжении всей советской истории: день за днем, событие за событием. Во все времена существования СССР действовали объективные внутренние силы (привносимые извне антикоммунистические идеи и инициированные оттуда антисоветские действия выведем пока за скобки). Эти силы были обратной стороной напряженнейших усилий по строительству и защите социализма в отдельно взятой стране. Они действовали как своеобразная плата за достигнутый вопреки всему результат и упрямо, негативно для коммунистической идеи, давили на общественное сознание. Коренная и исчерпывающая причина существования этих сил решающим образом не в обстоятельствах субъективного толка, не в якобы дурных качествах авторитарных вождей, не в пагубной кадровой политике, не в афганской войне или в непомерных военных расходах, а в базовых, формирующих общественную атмосферу, объективных жизненных обстоятельствах, складывающихся на всем протяжении существования СССР.
Экономические проблемы позднего СССР не были фатальными для страны. Жизнь любого государства всегда состоит из разрешения возникающих проблем и преодоления неизбежных трудностей. По-другому не бывает, это нормальное явление, и социалистическое государство здесь не исключение. Весь вопрос в компетентности принимаемых решений и в их своевременности. В 90-е гг. ситуация была много хуже, чем в конце 80-х гг. Но Россия выстояла и не распалась. СССР мог бы не включаться в бессмысленную, по большому счету, борьбу за соперничество в удовлетворении «постоянно растущих духовных и материальных потребностей». Социальными и духовными целями социализма не является культ растущего потребления всего без разбору, излишнего комфорта и безграничных удовольствий как единственного выражения личной успешности. Высшими альтернативными целями СССР должно было бы стать то, что базируется на преимуществе социализма ввиду централизации средств и возможности их планового целевого использования. Имея такой экономический рычаг, на первый план должна была выступить задача достижения лучшего в мире здравоохранения с самой высокой продолжительностью жизни, лучшего в мире образования и самой здоровой экологией. Неуклонное и успешное продвижение в этих вопросах обеспечило бы высокий авторитет страны и социализма в мире независимо от степени насыщенности потребительского рынка. Последний, конечно, важен, но только не в качестве ключевой проблемы, к которой, в конце концов, практически целиком сдвинулось общественное внимание в стране.
Растерянность перед необходимостью хозяйственной реформы
Для того, чтобы прекратить хозяйственный режим нэпа и начать строить плановую экономику нужно была только политическая воля, направляемая пониманием исторической важности этого события. А вот для того, чтобы начать экономические реформы с рыночной «начинкой» одного желания совершенно недостаточно. Тем более, что требовалась реформа, которая является не продуктом эволюционного, говоря марксистским языком, естественноисторического развития, а принудительное и крутое изменение всей прежней практики. Необходимость этих изменений нарастала с конца 50-х гг. и привела в 60-х гг. к реформе Косыгина-Либермана, которая в основном касалась нижнего звена – предприятий, а не всей хозяйственной структуры, остающейся централизованно управляемой. Гипотетически можно предположить, что ее продолжение привело бы на базе учета нового опыта к нужным изменениям. Но события 1968 г. в Чехословакии остудили надежды на благотворность рыночных реформ, которые в этой стране стали способом демонтажа социализма, толкуемого по-советски.
Хозяйственная система СССР, возвысившая страну, позволившая сохранить ее в годы Великой Отечественной войны и быстро выйти из послевоенной разрухи, была во многом адекватна требованиям своего времени, которые можно было обозначить как «диктатура экономического развития». Не нужно забывать, что без экономической победы не было бы и военной победы над фашизмом. Всей этой героической и великой истории, проходящей под идейным знаменем марксистского социализма, Китай не имел. В экономическом плане, начав в 70-х гг. рыночные реформы, КНР также фактически подчинила себя «диктатуре экономического развития». Но сделано это было не в форме прямых распоряжений центральной власти, как подобное, помимо прочего, вынужден был делать СССР, а в форме императивных требований рынка, дополненных его государственным регулированием [См.: 51]. Но для этого нужны были внутренние и внешние условия, которые в отношении СССР отсутствовали.
Концепция советского социализма – возможность его осуществления в отдельно взятой стране, содержала в себе капитальное и опасное противоречие, разрешить которое СССР оказался не в состоянии. Решая задачу надежного обеспечения независимости страны, Советский Союз не смог сделать конкурентноспособным свой общественно-политический строй в условиях жесткой военной, экономической и идеологической конкуренции двух мировых систем. Это противоречие в полной мере созрело к середине 70-х годов, став через небольшое время причиной его гибели. То, что необходимо было делать в условиях существующего в России хозяйственного уклада и сжатых границах отпущенного исторического времени для обеспечения суверенитета страны, методы, которыми это могло быть достигнуто, по своей сути не могли быть вполне социалистическими, ибо требовали активного принуждения населения, его особой полувоенной организации, пусть и сознательной, массовой, вдохновенной, но жертвенности. Это не могло быть устойчивой практикой социализма, как это допускала его сталинская трактовка. Социализм, который еще предстояло достроить, по определению не должен лишать людей ни свободы выбора, ни возможности самовыражения, если претензии на это не носят асоциального характера и не задевают общественную нравственность. Командовать в этой сфере, значит, опускать планку самореализации индивида ниже того уровня, которого она достигает при капитализме. Все это должно было быть сохранено и переведено в реальную плоскость в системе так или иначе планового производства и распределения.
Успехи в социально-экономическом развитии и особенно победа в Великой Отечественной войне, пусть и в значительно ослабленном и измененном виде закрепили в общественном сознании понимание социализма как социально-политического стеснения, как подчинения себя интересам государства, власти. В итоге при Н. Хрущеве начали угасать последние искренние проявления советского патриотизма, люди начали терять жизненные ориентиры.
В историческом итоге советский социализм ушел, сохранив Великую Россию, закрыв ее как щитом в сложнейшее для нее, суровое время борьбы за существование, реализацией социалистического (антикапиталистического) проекта. Но он же, в конце концов, и заплатил этим проектом, а с ним и своим существованием, за неспособность разрешить указанное противоречие: В советский период огромные в целом цивилизационные достижения России не были гармонизированы с социальными достижениями, формальная возможность которых была создана победой Октябрьской революции. В этих обстоятельствах люди, психологически уставшие от постоянных, теперь уже ощутимо избыточных мер ограничения их жизни, стали ощущать, что социалистический идеал не стал ближе. Он, напротив, все время отдаляется, и реальная практика не подтверждает декларируемых социальных ценностей. С 60-х гг. началось постепенное, но неуклонное, изменение общественного самочувствия, которое сопровождалось критическим накоплением мировоззренческого негатива. К концу 80-х гг. социалистический идеал стал идеологическим символом, теряющим органическую связь с общественными ожиданиями.
При всей критичности в оценке экономической теории и практики советского социализма, не следует относиться к ней огульно нигилистически: эта практика должна быть исторически осмыслена и теоретически преодолена, а не механически отброшена. Особенно учитывая, что идеи и практика обогащения, как смысл жизни, доказали свою ограниченность, а идеи социальной справедливости и равенства переживают заметный ренессанс.
Библиографический список
1. Аннинский Л. Русские плюс… М., Алгоритм, 2003 г., с. 559.
2. Аннинский Л. На ветру и в прибежище. – URL.: http://almanah-dialog.ru/archiv/ archive_3—41/di 1
3. Голанд Ю, Некипелов А. «Косыгинская реформа: упущенный шанс или мираж». —Российский экономический журнал. – 2010. – №6.
4. Государственная собственность в экономике России и других стран. Вопросы истории и теории / Под ред. В. Н. Черковца. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. – 593 с.
5. Дзарасов С. С., Меньшиков С. М., Попов Г. Х. Судьба политической экономии и ее советского классика / Дзарасов С. С., Меньшиков С. М., Попов Г. Х. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 453 с.
6. Дэн Сяопин Основные вопросы современного Китая. – М.: Политиздат, 1988. – 259 с.
7. Киселев В. П. Об эволюции модели социализма // Вопросы философии. – 1989. – №10. – С. 19—34.
8. Кожинов В. Россия. Век ХХ-й (1901—1939). М., «Алгоритм». 1999. – 560 с.].
9. Корнаи Я. Дефицит. – М.: Изд-во Наука, 1990. – 607 с.
10. Кронрод Я. А. Очерки социально-экономического развития ХХ века. – М.: Наука, 1992.
11. Куликов В. О переходных формах в условиях капитализма//Вестник Московского университета. Серия Y11. Экономика. -1974.– №5.
12. Куликов В. Теоретические проблемы перехода к социализму. В кн. Проблемы дальнейшего развития теории и методологии политической экономии и задачи совершенствования подготовки специалистов по политической экономии / Под ред. Н. А. Цаголова. – Издательство МГУ,1975.
13. Куликов В. Становление социалистических производственных отношений. – М.: Издательство МГУ, 1978.
14. Куликов В. «Цаголовская школа» и ее нынешнее звучание» //Российский экономический журнал. – 2004. – №4.
15. Курс политической экономии. В 2-х т. Т. 11. Социализм. Под ред. Н. А. Цаголова. Учеб. пособие для экон. вузов и фак. Изд. 3-е, перераб, и доп. – М.: «Экономика», 1974.
16. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е издание (в 55 томах). Т. 27
17. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е издание (в 55 томах). Т. 33
18. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е издание (в 55 томах). Т. 41
19. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е издание (в 55 томах). Т. 43
20. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е издание (в 55 томах). Т. 44
21. Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е издание (в 55 томах). Т. 45
22. Лифшиц М А. Varia. – М.: ООО «Издательство Грюндриссе», 2010. —172 с.
23. Лифшиц М А. Чего не надо бояться. // Российский экономический журнал. – 2017. – №1.
24. Любинин А. Б. Классический социализм и практика социализма: непреодоленная сложность кажущейся простоты // Российский экономический журнал. – 2011. – №1. – С. 36—61.
25. Любинин А. Б. Снова к проблеме генезиса и предметного содержания «экономикс» // Российский экономический журнал. – 2016. – №2. – С. 35—66.
26. Любинин А. Б. Октябрь -17, социалистический проект и суверенитет России // Российский экономический журнал. – 2017. – №1. – С. 10—31.
27. Любинин А. Б. Спасительный «омут» индустриализации: невыученный урок 1930-х // Российский экономический журнал. – 2017. – №4. – С. 4—12.
28. Любинин А. Б. Ключевые идеи социалистического проекта и противоречия их воплощения в советской истории. Оценки 100 лет спустя (размышления по поводу двух книг, выпущенных к 100-летию Октябрьской революции). Начало // Российский экономический журнал. – 2018. – №1. – С. 108—128.
29. Любинин А. Б. Ключевые идеи социалистического проекта и противоречии их воплощения в советской истории. Оценки 100 лет спустя (размышления по поводу двух книг, выпущенных к 100-летию Октябрьской революции). Окончание // Российский экономический журнал. – 2018. – №2. – С. 88—103.
30. Любинин А. Б. О самобытности социализма современного Китая // Российский экономический журнал. – 2019. – №3. – С. 75—90.
31. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 3
32. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 12
33. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 16.
34. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 19.
35. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 22.
36. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 23.
37. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 29.
38. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 31.
39. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 33
40. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 35.
41. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 39
42. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 42
43. Маркс К., Энгельс Ф. – Соч. 2-е изд. – Т. 45
44. Мелентьев А. Ю. Тезис о «двух Лениных»: в чем смысл? // Экономические науки. – 1989. – 31. – С. 55—74.
45. Мелентьев А. Ю. Несколько соображений к статье В. Черковца о «Курсе политической экономии»// Российский экономический журнал. – 1994. – №11.
46. От Великого Октября к советскому социализму. Взгляд 100 лет спустя / Ред. Кол. П. П. Опрышко, А. П. Поляков, М. В. Романенко. – М.: Мир философии, 2017. – 495 с.
47. Прудникова Е. А. 1953. Роковой год советской истории. – М.: Яуза. 2008.– с. 354 Журнал 56
48. Розенберг Д. И. К вопросу о классификации экономических наук //Вестник Коммунистической Академии. – 1933. – №5—6.
49. Сталин И. В. Сочинения. Государственное издательство политической литературы, 1952. – Т. 7.
50. Сталин И. В. Сочинения. Государственное издательство политической литературы, 1952. – Т. 13.
51. Тавровский Ю. В. Си Цзиньпин. Новая эпоха. – Москва: Эксмо, 2018. – 384 с.
52. Товарно-денежные отношения в системе планомерно организованного социалистического производства. Издательство Московского университета. 1971. – 373 с.
53. Троцкий Л. Моя жизнь. Опыт автобиографии. Москва. Книга. 1990. Т. 2. – 342 с.
54. Уткин А. Россия над бездной (1918 г. – декабрь 1941 г. Смоленск: Русич, 2000, с. 21.
55. Фролов А. К. Последняя судорога самодержавно-помещичьей системы (преобразования П. А. Столыпина через призму ленинских оценок) // Российский экономический журнал. – 2012. – №. 3. – С. 3—15.
56. Хайек Ф. А. Пагубная самонадеянность. М. Новости. 1992. С. 15.
57. Ципко А. С. Истоки сталинизма // Наука и жизнь. – 1988. – №12. —1988—№12. – С. 40—48; 1989. – №1.; 1989. – №2. – С.53—62.
58. Ципко А. С. Истоки сталинизма // Наука и жизнь. —1989. – №1.
59. Швецов А. «Информационное общество»: теория и практика становления в мире и в России. Статья 2. Всеобщая информатизация как модернизационный проект: по плечу ли она современной России? //Российский экономический журнал. – 2010. №5. С. 17
60. Экономическая теория: феномен Я. А. Кронрода: к 100-летию со дня рождения / сост. Т. Е. Кузнецова. – СПб.: Нестор-История, 2012. – 280 с., ил.
Очерк 3. Из истории экономической теории социализма: феномен «ловушки» Сталина
В свое время политическая экономия социализма была важнейшей составной частью базового теоретико-идеологического комплекса СССР. Его, бесспорно, идеологической частью, в первую очередь. В истории формирования советской экономической науки о социализме контролируемая властью взаимосвязь идеологии и приемлемой теории очень многое объясняет, задавая твердые рамки ее научного содержания. При всем, однако, преобладающем идеологическом акценте это была экономическая теория, представленная разными (в пределах общей социалистической идеи) методологическими школами, стремящаяся, в конечном итоге, быть выразителем и направителем полезной хозяйственной практики. Прежде всего, ориентиром для государственного экономического управления и тех реформ, которых, со все более очевидной настоятельностью, требовала советская хозяйственная практика. Наиболее отчетливо это видно на примере настойчивых разработок вопросов реального централизма и эффективной планомерности в сочетании с экономической самостоятельностью хозяйственных звеньев, в активном внимании к проблемам стимулирования труда, цен, потребностей, интересов. Так что, несмотря на существующее мнение, далеко не все в экономической теории социализма следует относить к апологетике. Не нужно забывать и о том, что политэкономия была основой существования системы экономических наук о социализме25, которая включала в себя многочисленные конкретно-экономические дисциплины, начавшие формироваться с конца 30-х гг., а в 60-е гг. – развиваться особенно энергично, заняв заметное место в тематике научных учреждений и в вузовских учебных планах.
Сегодня огромные интеллектуальные усилия, по крайней мере, двух, безусловно хорошо образованных, поколений (условно – сталинское и после сталинское) отечественных политэкономов кажутся потраченными совершенно зря, а стоящие за ними непростые судьбы – прожитыми напрасно. Но, ровно по той же причине, по которой закончившееся советское семидесятилетие не вычеркнуть из истории российской государственности и жизни народов СССР, кому бы и как бы это не казалось оправданным, ровно по этой же причине советская политическая экономия социализма – особый вариант продолжения и, в итоге, наследие российской экономической мысли, а не затянувшийся на десятилетия пробел в ее развитии.
Кроме того, сколь бы не были проблематичны и казались призрачными, надежды на грядущую социалистическую перспективу мирового развития, тем более по советской модели, формирование предпосылок социализма и ряда присущих в развернутом виде только ему жизненных явлений социализации общественного устройства неуклонно и неустранимо продолжается в современном капиталистическом обществе. Объективность этого процесса служит отправной точкой для понимания того, что вопрос не в том, жива ли после крушения СССР и социалистического лагеря идея справедливого бесклассового общества, а в том, как, какими неизведанными пока путями, через какие новые формы противоречий исторического развития современного и последующих обществ, под воздействием каких массовых движущих социальных сил она будет становиться все более насущной, завоевывая умы и сердца миллионов. Сейчас уже очевидно, что капитализм, даже в его современном виде, не может обеспечить движение общества по пути социальной справедливости и равенства, даже победить бедность он не в состоянии.
Всему свое время. Неуместно, и даже опасно, бездумно его торопить, как бессмысленно, пуская в ход обе руки, со всей силой тащить цветок вверх за его стебель, понуждая расти быстрее. Марксистский, много повидавший на своем веку, философ М. Лившиц рекомендовал отучать себя «от преувеличенной веры в нашу повседневную субъективную активность» [16, с. 100]. «Бывают такие положения, – втолковывал он, – когда подобно первоначальным христианам, нужно ждать наступления критического часа». [16, с. 100]. Ждать. Не прекращая, однако, теоретическую работу.
Период социализма – выдающийся, хотя и горький, по переживаниям одних, – и закономерно не удавшийся, тупиковый, по мысли других, этап мирового общественного развития. Но этап поучительный для всех, желающих учиться не только на собственных ошибках. При этом те, кто в дальнейшем будет изучать этот вопрос, обретут, надо думать, устойчивую объективность взгляда, психологически трудно достижимую сегодня, как сторонниками социализма, так и его оппонентами.
Ныне вполне сформировались обстоятельства для теоретической оценки и осмысления, сделанного политэкономами (с участием представителей других обществоведческих наук) в экономической теории социализма, уяснения причин, в силу которых было сделано так, а не иначе. А также понять, что и почему вообще сделано не было. Использовать эти обстоятельства надо бы сейчас, пока еще не перезрели и не погашены беспощадным временем подлинные социальные, политические и духовные ощущения советской эпохи.
Во-первых, постсоветское время, агрессивно вступившее в свои права, в качестве полного отрицания и антипода времени советского, уже целиком раскрыло себя в своих основных сущностных чертах и продолжает усиливать наглядные проявления своего далекого от справедливости социального смысла. С позиций научного анализа вполне определившийся политико-экономический итог переживаемого времени является важной сравнительной базой для оценки обоснованности теоретических идей советской политической экономии, в частности в вопросе преимуществ социализма и его противоречий. Эту же фоновую роль играют и процессы, развивающиеся в современном капиталистическом мире. Кроме того, опыт функционирования советской плановой системы был бы полезен постсоветской России в решении назревших (и давно перезревших) структурных экономических задач, тем более что правовое основание этой работы – закон о стратегическом планировании – существует. Нельзя, правда не заметить, что, судя по полному игнорированию этого закона существующей системой государственного социально-экономического управления, его инициаторы и разработчики, вкупе с законодателями, сами не знают, зачем они приняли этот закон.
Во-вторых, появились личные, достаточно подробные, и надо сказать вполне откровенные, оценки непосредственных участников разработки политэкономии социализма. Такие свидетельства всегда наиболее документально обоснованы и эмоционально точны, хотя, конечно, взгляд на то или иное событие изнутри может отличаться от взгляда снаружи, особенно учитывая, что видение былой ситуации дается по прошествии некоторого времени, когда по объективным и субъективным причинам «смотровая площадка» для свидетельских оценок стала иной. В этом отношении крайне важно то, что активные участники научной жизни написали о том, в какой острой идейной борьбе, в том числе в самой политэкономической среде, рождалась новая система экономических знаний, какое влияние на этот процесс оказывала партийно-государственная власть.
Прежде всего, в данной связи необходимо выделить две книги «Экономическая теория. Феномен Кронрода. К 100-летию со дня рождения». См.: [36] и «Судьбы политической экономии (о школе Н. А. Цаголова)». Cм.: [5]. Книги подготовлены известными политэкономами из ближайшего к центральным фигурантам описываемых событий окружения. Самое главное в них – процесс рождения во времени основных идей новой, впервые создаваемой политэкономии. В том числе сопутствующая этому процессу история многолетнего, яростного по своему эмоциональному накалу, непримиримого теоретико-методологического столкновения двух идейных лидеров, чей научный и человеческий авторитет был безусловен, делая их организационным центром формирования влиятельных научных направлений.
Борьба эта была не всегда джентльменской, а их территорией – не только академические площадки, но и кабинеты высоких начальников. Ученые тоже люди, и они, в свою очередь, были не свободны от влияния нравов своего времени. По свидетельствам биографов, Я. Кронрод считал, например, что «… в идейно-теоретической борьбе хороши многие, не всегда оправданные средства» [36, с. 257]. Так, что, когда его противники, также, не стесняясь, прибегали к подобного рода средствам, это было, конечно, крайне неприятно и тяжело переживалось, но моральная сомнительность таких действий была обоюдной и вполне себе в духе своего времени. «К сожалению, оба дискутанта (Я. Кронрод и Н. Цаголов – прим. А.Л.) страдали одним и тем же пороком, – констатирует С. Дзарасов, – и наносили друг другу тяжелые раны» [5, с. 238]. В сфере советской экономической науки (и не только экономической) «республика ученых» с единым «законодательством», о чем когда-то мечтал Кант, так и не сложилась: возникавшие, порой чисто научные конфликты, чаще всего политизировались, и разрешались на пути «уничтожения» оппонентов.
Так уж получилось, что магистральные логические линии в теории и методологии политэкономии социализма прочерчивались отделом политэкономии ИЭ АН СССР и кафедрой политэкономии экономического факультета МГУ, хотя, конечно, были и другие, заявившие о себе, авторитетные научные коллективы. Все они имели единую опорную позицию, находящую отражение в их теоретических построениях: определение И. В. Сталина о том, что в 1936 г. в СССР победил социализм. Практически все в движении теоретической мысли и научных спорах советского времени определялось данным базовым обстоятельством, которое по своему реальному смыслу и методологическому значению стало настоящей неосознаваемой теоретико-методологической «ловушкой», избежать влияния которой не удалось никому. Реагируя на видимые несоответствия советской социально-экономической практики классическим марксистским представлениям о социализме, часть политэкономов уходила в критику марксизма в пользу новаторских, по сути немарксистских, трактовок социализма вообще и советского социализма, в частности; другая часть – искала способы примирения, состыковки советской действительности с марксистской классикой на путях совершенствования этой действительности, твердо исходя из того, что СССР социалистическая страна.
Сталин, конечно, несет личную ответственность за характеристику советского социализма, введенную им в политический и научный оборот. Он ведь был не только партийно-государственным вождем, но и сам поставил себя в положение непререкаемого лидера рождающейся теории советского обществоведения. Данная им трактовка социализма без преувеличения предопределила не простую судьбу советской политической экономии, положив авторитетом вождя в ее теоретическое основание исторически и логически не точно квалифицированный объект, вызвав тем самым неизбежно внутренне противоречивую реакцию на него. Это стало причиной действительно плохого понимания и властью, и научной общественностью того реального этапа социально-экономического развития, который в действительности, а не в словесных политических определениях, переживала страна. При таком положении выстроить систему эффективного управления народным хозяйством и позитивно влиять на общественные настроения было невозможно. Со всеми вырастающими из подобного состояния постоянно множащимися социально-экономическими проблемами.
Почему сталинское определение социализма появилось и было искренне принято, в том числе по теоретическим соображениям, научной общественностью; в какой историко-методологической плоскости проблема трактовки советского социализма могла бы быть адекватно разрешена – предмет настоящего очерка.
За время довоенных пятилеток облик СССР и его экономической потенциал изменился коренным образом. Страна восстановилась после страшной разрухи и стала пятой экономикой мира, что было выдающимся достижением. Возникла качественно новая социально-политическая и хозяйственная обстановка, которая закономерно требовала своего терминологического обозначения. Поиск подходящей формулы для определения этапа, достигнутого страной в результате целенаправленных действий большевистской власти по построению социализма в отдельно взятой стране, начался еще в 1934 г. 26 ноября 1936 г. И. В. Сталин, выступая со статьей в «Правде», представил окончательный результат этой работы, указав, что в СССР осуществлена в основном первая фаза коммунизма – социализм. Так появилась и сразу была канонизирована формула, сочетающая в себе констатацию завершения переходного периода и общее определение достигнутого социально-экономического этапа – «в основном первая фаза коммунизма – социализм».
Эта формула, которая, как само собой разумеющийся непреложный факт, имплицитно предполагала, что в Советском союзе социализм построен в соответствии с классическими марксистскими представлениями, и есть определившая в последующем драму политэкономии социализма ловушка, в которую ей суждено было волей-неволей угодить.
Определение И. В. Сталина вводило в научный оборот реальный социальный объект для политэкономии социализма. В силу этого советская экономическая наука получила возможность изучать практически реальное, а не только теоретически должное, судить о социализме по имеющемуся уже опыту. При этом, если ранее советская идеология приравнивала себя к классической марксистской идеологии, то теперь марксистская экономическая теория о социализме (точнее ряд отдельных теоретических положений) начала отождествляться с теорией социализма советского, в котором стали видеть воплощение основных идей марксизма, либо, наоборот, отрицание этих идей, теми, кто с советской моделью был, так или иначе, не согласен и выступал ее критиком.
Поощряемые партийно-государственной властью и, выполняя ее социальный заказ, политэкономы перешли от исследования проблем переходного периода – основной темы до начала Великой Отечественной войны, – к разработке экономической теории социализма. У практического социализма появились два, казалось бы, вполне закономерных исторически и логически, имеющих свои особенности, этапа: переходный период к социализму и сам рукотворный социализм. Результатом развития советской научной мысли стало появление в 1951 году макета первого учебника по политической экономии социализма.
Но, как в довоенную эпоху, так и позже, вне теоретического внимания оказывалось то обстоятельство, что в качестве исчерпывающего доказательства вступления СССР в эпоху социализма И. В. Сталин сослался на «превращение социалистической системы в единственную систему народного хозяйства, вытеснение капиталистических элементов из всех сфер народного хозяйства» [31, с. 333]. Вопрос, таким образом, совершенно определенно был сведен к тому, что К. Маркс называл негативным отрицанием капитализма, еще не обеспечивающим в основном полноту содержания социализма. Негативное отрицание дает лишь некоторые основы социализма, но не свидетельствует о победе социализма в основном, что является характеристикой более зрелого общества. В понимании социализма этого методологического порока, который постоянно давал о себе знать, понуждая к различного рода теоретическим оговоркам, не сумел избежать никто.
Для сталинского времени неразличение указанных деталей, конечно, объяснимо, хотя теоретическим пробелом такое положение не перестает быть. Но и впоследствии данный вопрос, если и поднимался, то должной научной реакции не вызывал. Заявленный во второй половине 30-х гг. практический социализм на предмет полного соответствия его содержания марксистской классике начал рассматриваться только в 70-е гг., в то время как линия такого, в основном критического, рассмотрения на Западе, в том числе в марксистской среде, сформировалась много раньше.
Вся система взаимосвязанных представлений практического социализма о собственности, обобществлении производства, экономической роли государства методологически рождена пониманием социализма лишь как отрицания капитализма, как строя, существующего в виде его антипода. Между тем в систему критериев, устанавливающих победу социализма в СССР, не вошли основополагающие положения из марксистской классики о положительном упразднении капитализма, означающем создание более совершенных материальных и духовных условий жизни людей, чем те, которые может обеспечить капитализм. См.: [24, с. 117, 127, 131, 169]. В итоге образовался разрыв между диалектическим смыслом отрицания капитализма и победы социализма, предполагающим отрицание отрицания, которое представлено в классическом социализме, и метафизическим, односторонним истолкованием этого вопроса в сложившейся теории практического социализма. В итоге феномен «ловушки Сталина», помимо прочего, сделал неизбежным появление не только в мировой, но и в отечественной теоретической мысли антимарксистского и антисоветского тренда.
Негативное отрицание капитализма происходит быстрее, чем могут быть созданы условия для положительного упразднения капитализма. В этом случае необходима лишь политическая власть и воля, соединенные со способностью создавать соответствующие институты, обеспечивающие проведение национализации и формальное обобществление: создание системы государственного экономического управления (госплан, госснаб, министерства, главки и т. п.). Этим, конечно, капитализм отрицается, но социалистического общества «в основном», во всех его необходимых, пусть и не вполне развитых, проявлениях, от этого не возникает. Создаются лишь его более или менее зрелые «основы».
Понимание советского социализма, как уже построенного в основном, появившееся в довоенный период, это скачок мысли, «перепрыгнувшей» через отсутствие собственной адекватной социализму материально-технической базы. И, что не менее важно, отсутствие требуемого субъекта новых общественных отношений, качеств личности, которая нужна для демократических форм социализма, прежде всего предполагающих развитую и политически осмысленную способность к самоорганизации и самовыражению. Социальной зрелости того исторического типа личности, которая сложными обстоятельствами своей жизни была вытеснена в массовое движение за завоевание политической власти и ее вооруженное удержание, а затем тяжелейшим трудом и материальными лишениями обеспечила экономический подъем страны, «завоеванной у богатых для бедных» (Ленин), было совершенно недостаточно для провозглашенного социализма в основном. Не сложились еще для этого приемлемые возможности качественного личностного и коллективного роста, и не прошло достаточно времени, чтобы такое, глубоко демократически ориентированное общество, сформировалось, тем более, когда речь идет о социальных процессах в бедной аграрно-промышленной стране.
Такая личность в массовом масштабе, не исключая научно-техническую и особенно творческую интеллигенцию с неизбежно присущими ей устойчивыми мелкобуржуазными ориентирами и взглядами, не появилась даже на протяжении всей послевоенной истории СССР. Творческая интеллигенция всегда оставалась недовольна сравнением материальных результатов оценки своего таланта, художественного вклада и популярности с западными образцами. Она была склонна видеть в этом несвоевременность и отсталость советского общественного строя, стремящегося выдерживать принцип равных возможностей. Исключения, которые есть всегда и в любом деле – не в счет.
Сложившееся в силу указанных выше причин массовое коллективное бессознательное объясняет, почему диссидентские требования индивидуальных свобод и расширения политических прав не находили заметной сочувственной поддержки в советском обществе, так же, как и сильный акцент на политических мотивах в ряде суждений представителей политэкономии. Данное обстоятельство чаще всего не принимается во внимание, что делает не понятной ментальность людей советского времени, совершивших революцию и защитивших ее, пошедших на смерть во имя свободы и независимости своей страны, но почему-то спокойно принявших серьезные жизненные ограничения, когда победа была одержана, и, несмотря ни на что, продолжавших искренне считать, что общественное всегда выше индивидуального, а общее дело, справедливость и равенство – не пустые слова.
Тот человек, который вышел из революционных событий начала 20 века, прошел гражданскую войну, был участником коллективизации и индустриализации, являлся по уровню своего образования и менталитету человеком революционного рывка в новую жизнь, в которой не будет капитализма с его делением людей на имущих и неимущих, с отсутствием защищающих трудящихся социальных законов. Этот человек вполне соответствовал по своему мировосприятию ограниченному, неполному пониманию социализма лишь как прямого отрицания капитализма. С позиций переживаемого времени ему было достаточно подобного понимания нового общества, как с точки зрения того, когда это было сделано, так и с позиций полноты содержания, тем более что все здесь исходило от ставшего абсолютным авторитетом – И. В. Сталина.
Вместе со сталинским определением социализма возникла тема экономического соревнования двух систем, определения преимуществ социализма в этом соревновании. Тема, которую реальный социализм «в основном», по классической марксистской модели, должен был бы оставить у себя в глубоком тылу, одержав всемирно-историческую победу над своим умело и отчаянно сопротивляющимся социальным противником, тем самым, получив заслуженное право на свое полное социалистическое название. Вести экономическое соревнование с капитализмом может только общество переходного социализма, социализма становящегося, который естественно сталкивается с предшествующим общественным строем в одной исторической эпохе. Это соревнование вел СССР и сейчас ведет современный Китай со всеми особенностями своего социализма по-китайски, о социально-экономическом смысле сказано в специальном очерке.
Все революционеры по природе своей пассионарны, это обязательная и неотъемлемая черта их образа мысли и действия, являющаяся продолжением их многочисленных достоинств и неизбежных недостатков. Они, поэтому, всегда спешат и чаще всего «перегибают палку», принимая в политической действительности желаемое за достигнутое. Большевики – не были исключением из этого правила. Революционная мысль, а с нею и практика, торопят жизнь и легко забегают вперед. Это рационально объяснимо еще и тем, что никакого учебника, ограничивающего нетерпение и субъективизм (оставаясь на научной почве, подобный учебник не может быть написан без появления соответствующего опыта), тем более пошаговой инструкции в отношении того, как двигаться в сторону желаемого будущего – социализма, не существует26. Поэтому приходиться, как, натолкнувшись на данную проблему, говорил Ленин, «выкарабкиваться самим» [15, с. 228].
Без отрицания капитализма нет социализма. Такое отрицание составная часть социалистической действительности, прежде всего его хозяйственной системы. А это реально было в советском социализме. Как была в довоенное время и сразу после войны, несмотря на все идущие от власти личностные стеснения граждан консолидация в обществе, понимание, согласие и поддержка проводимого курса на ускоренное индустриальное, научное, образовательное и культурное развитие страны. Для первого опыта строительства практического социализма это было вполне убедительным доказательством наступлением эпохи социализма. Но до конца научным доказательством полной и окончательной победы социализма это никак не могло быть.
Тем не менее, поскольку негативное отрицание капитализма действительно дает основы социалистического строя, полное отрицание социалистического характера советского общества, ввиду сохранения отчуждения работника от средств производства, партийно-государственного контроля над всеми процессами общественной жизни и ограничение личной свободы, является тоже неправильным. Категорическое и популярное в перестроечное время утверждение о том, что советский общественный строй не имел «ничего общего с социализмом» из того числа мнений, когда предельное обличительство заставляет отказываться от учета и анализа реальной действительности во всей ее полноте. Здесь вполне уместна образная аргументация такого рода противоречивых жизненных ситуаций, располагающих к различным оценкам, приводимая Э. В. Ильенковым: «… даже самая паршивая кошка все-таки кошка, а не собака».
