Не может быть?! Рассказы бесплатное чтение
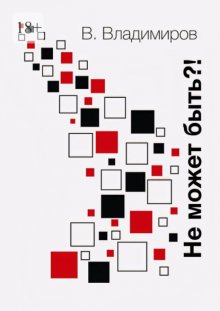
Дизайнер обложки Вероника Владимирова
© Владимир Ярославович Владимиров, 2025
© Вероника Владимирова, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0065-4727-8
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Не умею ругаться матом
Во втором «Г» классе я дружил с Генкой. Мы с ним подружились, потому что были немного чужими в классе. Я перевёлся из другой школы – мы переехали из Измайлово в Черёмушки, а он был казахом и отличался очень круглым лицом и маленькими узкими глазками. Был он добрым и ребята с ним дружили, но он почему-то стеснялся своей узкоглазости, которая и правда делала его лицо смешным потому, что он пытался всё время округлять глаза. Он даже историю придумал – говорил, что раньше у него глаза были круглыми, а потом ему между глаз попала палка, её врачи удалили, но глаза у него, вместо таких, как у всех, стали узкими.
Не очень правдивая история, когда он рассказывал ее, он делал особенного круглыми глаза, но всё равно не очень убедительно получалось. Мог бы и не пересказывать – никто на его внешность внимания не обращал. Мы подружились ещё и потому, что нам было по пути из школы, жили мы в соседних подъездах. Шли вместе, разные истории друг другу рассказывали, так веселее идти.
И вот как-то спускаемся со школьного крыльца, Генка идёт и чуть не плачет. И срывающимся голосом начинает возмущённо объяснять:
– Инесса Владимировна – наша учительница – написала в дневнике, что я на перемене ругался матом! А я не умею матом ругаться! Я вообще не умею! Ни одного слова не знаю. А когда отец увидит…
Из глаз его готовы были брызнуть слёзы. С отцом ему не повезло. Был он очень строгий, и своих четверых сыновей – Генка был младший – драл как сидоровых коз. Может, даже и хуже. Во всяком случае, Генка его очень боялся.
– Володя, пойдём со мной, скажешь отцу, что я не ругался матом, это не я ругался, Инесса Владимировна написала, что я, а это не я, я даже матом не умею…
Была зима, и на тротуаре были накатаны ледовые дорожки – мы так развлекались, да и идти быстрее – разбегаешься несколько шагов – потом скользишь по ледовой полоске, потом опять разбегаешься. И остаются чёрные полосы гладкого ледка. Обычно их обходят, но Генка так возмущался и махал портфелем, что не заметил, как наступил на лёд.
Тут же его ноги взлетели вверх, даже выше портфеля, и он шмякнулся мягким местом на заснеженный асфальт. И на всю улицу раздался звонкий крик:
– Уй, блядь!
Прохожие стали с интересом оборачиваться. Генка подобрал портфель, насупился и мы пошли дальше. Генку всё равно выдрали, хотя я и сказал его отцу, что Генка матом не ругался и не умеет. Не поверили!
История о том, как мы спасали Генку от верной смерти
Жили мы в то время на окраине Москвы, то есть не совсем на окраине – в нашем районе ещё стояли кирпичные девятиэтажки, потом шёл новенький пятиэтажный и почти загородный район Новых Черёмушек. Дальше город кончался, и начинались деревеньки, перелески, луга и пруды.
Нам это очень нравилось. Сразу за метро был огромный пустырь с оврагом, где зимой мы на санках катались с Генкой Айдаровым и Серёжкой Таракановым. Спуск там был очень крутой, но не длинный – только разгонишься – и сразу тормозить приходится.
Но зато, когда уроки заканчивались пораньше – мы могли сесть на автобус и отправиться в Зюзинский лес. Гора там была здоровенная – Лысая гора – ведьмячье место и пустынное в будние дни, зато спускаться классно – едешь себе и едешь, минуту целую, а может и две. Сначала по голому склону, и ветер несёт в лицо колючие снежинки. Потом на скорости выезжаешь на лесную дорогу с крутыми виражами. И если ты ловко проедешь и не вывалишься в сугроб или не врежешься в дерево, то вылетаешь на полной скорости на лёд маленькой речки, и, прогремев полозьями над спящими подо льдом рыбами, – честное слово, там спала рыба, прильнув ко льду и отполировав его стеклянную поверхность, мы видели чёрные спины – выезжаешь на противоположный берег, и едешь ещё, пока не остановишься. Мы и рекорды ставили – сломали каждый по палке и отмечали, кто куда доехал.
В тот день, когда эта история с Генкой приключилась, было у нас четыре урока. Часов в двенадцать из школы вышли и договорились через час на остановке автобуса №41 встретиться и в лес ехать с горы кататься.
Ровно в час мы уже на остановке с санками стояли и автобуса ждали. Генка не опоздал, хотя он, если честно, почти всегда опаздывал, капуша он. И всегда ведь какую-то важную причину для своего опоздания придумывал. Стояли мы на остановке, и всё на дальний конец улицы поглядывали, откуда автобус появиться должен был. И вот он появился, но мы всё равно замёрзнуть успели, морозец сильный был, градусов пятнадцать, не меньше. Но нас это и не напугало совсем – мы же в горку с санками бегать будем – вот и согреемся!
Автобус пришёл холодный и с покрытыми толстым морозным рисунком окнами. Почти пустой. Правильно, кто в будний день в лес поедет! Уселись мы потеснее, да потеплее, санки рядом поставили и поехали! А чтобы веселее ехать было, стали истории рассказывать. Первым Генка рассказывать начал. Он любил страшные истории рассказывать. Это оттого он их так любил, что трусоват был, и нарочно их рассказывал, чтобы показать, какой он храбрый.
История у него была самая подходящая, про то, как мальчишки деревенские возвращались из школы, в сумерках уже, и в лесу увидели серые тени и красные волчьи глаза. Тут глаза Генки, узенькие обычно, стали совершенно круглыми – и волки на мальчишек, естественно, напали, а они залезли на ёлку большую, и сидели на ней, а волки бегали вокруг и зубами лязгали. Одного из них волк, подпрыгнув, чуть за валенок с дерева не стащил! Хорошо, что волки по деревьям лазать не умеют, а то бы конец им!
А мороз тогда был сильный и ребята замерзать стали, едва руки за сучья держатся, вот-вот с дерева упадут! Но, на их счастье, егерь на санях по дороге ехал. Увидел волков и давай по ним из ружья стрелять – волки и пустились наутёк! А ребята покричали ему, и егерь помог им с дерева слезть, у них-то руки совсем закоченели.
– А в Зюзинском лесу волки есть? – спросил Серёжка.
– Нет вроде, – замялся Генка.
– Забредают иногда, наверное, – сказал я. – Из дальних лесов. Дедушка в газете читал недавно, что волки на одной московской помойке кормились. Их все за собак принимали!
– Да и лоси в город заходят, – подхватил Серёжа. – Так что и волки запросто могут!
А Зюзинский лес – он большой и в настоящий лес переходит, дремучий.
– Ну мы-то с краю кататься будем, – решил Генка. – И там никаких волков нет! – Но голос у него был почему-то не очень уверенный.
Так мы и доехали до конечной остановки. Она как раз у края леса, и от неё широкая тропа в сторону Лысой горы.
До горы было далеко, километра три. Надо пройти через густой берёзовый лес, затем спуститься в широкий овраг, перейти маленькую речку, потом опять лесом по просеке и дальше Лысая гора.
Народу в лесу совсем нет – двух лыжников встретили и всё. Зато птиц много, двух белок видели, заячьи следы…
Интересно идти было. Мы даже пожалели, что у нас с собой ружья не было – добыли бы дичи! И вот мы у горы. Это даже хорошо, что народу нет. Катайся где хочешь. Ни в кого не врежешься!
Лысая гора была длинная, хорошо укатанная – в воскресенье много лыжников на горе каталось, так что снег на ней плотный, почти как лёд. И от мороза стал ещё жёстче, санки скользили очень быстро. Мы с Серёжкой стали рекорды устанавливать. А Генка побаивался, и на поворотах, там, где после горы трасса на лесную дорогу влетала, он притормаживал, и даже до речки не доезжал. А мы с Тараканычем далеко за речку на противоположный склон вылетали. Генке обидно было, и он оправдываться стал – что мы и выше него в горку поднимаемся, и с разбега стартуем, и санки у нас лучше.
– Ну, раз так, – сказали мы, – ты можешь откуда хочешь стартовать, хоть с самого верха, только это бесполезно – там гора плоская, всё равно не разгонишься, руками отталкиваться придётся. А санками, если хочешь, мы с тобой поменяться можем!
Поменялись мы с Генкой санками. Я ему свои дал, и стал на его кататься. Точно, санки у него хуже моих были – лёгкие, алюминиевые. А мои тяжёлые, железные. С горки его санки медленнее ехали, зато в горку их было легче таскать. Санки Генке не очень помогли. Всё равно он на поворотах ноги выставлял и в снег упирался. Оттого и тормозил сильно и до речки опять не доезжал.
– Нет, Генка! – Серёжка ему сказал. – Так у тебя ничего не получится! Ты зачем ногами тормозишь, трусишь?
– Ничего я не трушу! – обиделся Генка. – Просто у меня скорость очень большая. Если тормозить не буду, я в дерево врежусь!
– Да не врежешься ты никуда! Тут на дороге уклоны есть. Ты прямо по ним поезжай, и никуда не вылетишь! И ноги не выставляй, а просто в санках наклоняйся сильнее!
Генка обиделся, что его трусом назвали, надулся, щёки у него и так круглые были, как апельсин, а сейчас он вообще как тыква стал и полез в гору. Высоко взбежал, к самой верхушке, туда, где ветер снежные буранчики крутил. Сел на санки, а они не едут – плоская вершина очень. Настоящий спуск ниже начинается. Стал он руками толкаться. Так, пыхтя и проехал мимо. Мы с Серёгой посмеялись – говорили ему, что не надо на самую макушку забираться.
Но Генка злой был, даже не взглянул на нас. Мы подождали немного – чтобы сразу за ним не ехать и в него не врезаться, а потом стартовали. Сначала я, а за мной Тараканыч.
Генка уже далеко впереди ехал. И разогнался он здорово. Будет сейчас тормозить как всегда? Но Генка, наверное, действительно смелости набрался, ноги не выставлял, а только наклонялся из стороны в сторону, и всё разгонялся. «Неужели и правда рекорд поставит?» – подумал я. Генка уже подъехал к концу спуска, к речке почти. А там одно опасное место было – ледяной бугор перед речкой, на котором санки высоко подбрасывало. А за ним сразу поворот и выезд на лёд – там речку лыжники переезжали, и лёд толстый был.
Генка про бугорок этот не знал, – он ни разу до него доехать не смог. Это его и подвело. На бугорке его подкинуло вверх, он даже взвизгнул и в поворот не вписался, а пролетел по прямой и мимо утоптанного наста – по снежной целине выехал на тонкий лёд, с которого ветер снег сдул. Санки громыхнули полозьями по льду. Раздался хруст и санки вместе с Генкой провалились в речку!
Речка-то маленькая была. Если бы Генка в ней на дно встал – было бы до пояса, а так на санках чуть не с головой нырнул!
Генка ещё и под лёд провалиться не успел, как уже орать стал: «Помогите! Тону! Я не умею плавать! Эй! Тону!»
Мы с Тараканом санки бросили и к речке подбежали – Генку спасать! Забежали в полынью, которую Генка пробил и кричим ему: «Генка, вставай, вытаскивай санки, здесь мелко!». А Генка сидит в воде и орёт.
– Вытаскивайте меня, я не могу, у меня ноги отнимаются!
Тут мы стали санки Генкины за верёвку дергать, чтобы его на берег вытащить. А санки в иле на дне увязли, да ещё Генка на них сидит! Ничего у нас не получается!
– Вставай, Генка! – кричим мы. – Мы сами из-за тебя промокли! Хватит орать, всё равно мы тебя вдвоём не вытащим!
Понял Генка, что без его помощи не обойтись. С санок слез, и мы их сразу легко на берег вытащили. С Генки вода течёт, и сразу на штанах и куртке сосульками замерзает. У нас тоже в валенках вода хлюпает и холодно пальцам очень.
Генка тут же на санки плюхнулся и сказал, что идти не может, что он замерзает и мы его должны срочно в больницу везти, иначе он умрёт. Генка вообще к своему здоровью слишком трепетно относился – чуть горло запершит, или прыщ какой – он с уроков сматывается и в поликлинику бежит за справкой. И прививок боится очень, которые в школе делают, и уколов. Бледный стоит и всегда последний в очереди. А один раз во время уколов он сознание потерял от страха, и его на кушетку положили и ватку с каким-то вонючим лекарством нюхать давали, чтобы он глаза открыл. А потом домой отпустили.
Мы потом над ним смеялись, а он сказал, что нарочно всё разыграл, чтобы с уроков уйти в кино. Но мы-то знали, что не нарочно!
Но сейчас мы за Генку действительно испугались – человек ведь под лёд провалился, хоть и неглубоко было, но всё-таки. Поэтому мы Генку на санки посадили, наши санки сзади привязали, схватились с Серёгой за верёвку, и потащили Генку на гору.
А пока мы катались – мы даже не заметили, как солнце зашло и вечер наступил, темно стало и звёзды появляться начали.
Вытащили мы вдвоём Генку на гору. Тяжёлый он всё-таки какой! Жирный! Только собирались передохнуть, Генка опять закричал: «Эй, вы чего встали! У меня уже ноги отнимаются, идти я всё равно не могу, быстрее меня везите! А то я ведь умру, пока вы тут копаетесь!»
Может и вправду умрёт, кто его знает. Всё-таки подо льдом побывал. И здоровье у него не железное! Потащили мы его дальше. А Генка, чтобы мы не ленились, наверное, сидя в санках, причитать стал: «Ой, как ноги у меня болят! Совсем уже шевелить ими не могу! Отнимаются! Отморозил, наверное! Может, отрежут!»
– Эй, Генка, хватит стонать! – говорим мы, запыхавшись. – У нас тоже из-за тебя ноги мокрые, и тоже замерзают, мы же не говорим, чтобы ты нас тащил! – Это мы ему на бегу говорим, потому что он нас подгоняет всё время, и мы уже рысцой бежим.
– Вам хорошо, у вас только ноги, а я весь мокрый, у меня внутри всё замёрзло, я уже и живота не чувствую!
Тут нам в голову мысль пришла, как Генку спасти.
– Слушай, Генка, может тебе из санок вылезти и бегом пробежаться? Сразу согреешься! – предложили мы.
– Вы что?! – заорал Генка. – Да я даже встать не могу! – Он сделал вид, что пытается приподняться и снова упал. – Говорю же вам, ног нет! Холод уже вот куда дошёл. – Он провёл ладонью по шее. – Тащите быстрее, а то поздно будет!
Мы побежали дальше. Дорога через густой лес шла, и вокруг совсем темно стало. Если бы не звёзды, даже снега под ногами не видно было бы. Тут Генка часто озираться стал. Видно, историю свою про волков вспомнил.
Темнота становилась всё гуще, а лес всё глуше. Ни одного человека не попалось. Да что человека! Хоть бы собака какая пробежала, и то веселее было бы. Хоть и запыхались мы, и пот с нас градом лил, всё же постарались бежать ещё быстрее. И всё время почему-то назад оборачивались. А Генка, так и вовсе в санях развернулся, и спиной вперёд ехал.
– Эй, – закричал он вдруг. – Что это там светится?
Мы остановились:
– Где? – спрашиваем.
– Да вон, у тех ёлок! Вон, огромных, прямо под ними? Не видите, что ли?
Вглядывались мы, вглядывались – ничего там не видно, кроме темноты. Что ещё под чёрной ёлкой тёмной ночью разглядеть можно?
– Ничего там нет, Генка! Не выдумывай, – закричали мы. А самим всё-таки страшновато стало.
– Как это ничего нет, когда там, красные глаза светились! – возмутился Генка.
– Может, там под ёлкой сидит кто и курит? – предположил Серёга.
– Ага, а почему два огонька и двигались они? – горячился Генка.
– Да нет там никого. Кто захочет в такой мороз на снегу сидеть, – сказал я. – Поехали дальше, а то мы вообще тут замёрзнем!
– Я так дальше не поеду! – заупрямился Генка. – Вы там впереди бежите, а я здесь один сзади сижу! Я читал, что хищники – они всегда на тех, кто отстаёт нападают, потому что сзади слабые или больные тащатся, их съесть легче!
– Так ты и есть у нас самый слабый и больной, а если нет – то сам санки и тащи! – хором воскликнули мы с Тараканычем.
– Вы ещё издеваетесь! – заявил Генка. – У меня и так внутри всё холоднее и холоднее, я уже совсем ничего не чувствую. А вы хотите, чтобы меня волки сожрали!
– Да нет здесь никаких волков! – сказал я. – Какие волки в Москве?
– Ты сам рассказывал, что они на помойке питаются! – горячился Генка.
– Ну, это один раз только и было. И то давно очень! А теперь те волки уже ушли, наверное.
– А если не ушли? – не унимался Генка.
– Да ушли, ушли! – успокоил его я.
– А если ушли – тогда сбегай к тем ёлкам, и погляди! – предложил Генка.
Я взглянул на чёрные, качающиеся у земли лапы ёлок. Какая-то тень там шевелилась, или ветер, но мне почему-то не очень хотелось к этим ёлкам ходить, волков там высматривать.
– Нет, Генка! – отрезал я. – Волков ты придумал, а ходить мне? Сам вот и сходи, если тебе хочется. Я и так устал, пока тебя тащил. Поехали дальше, а то мы туту и без волков дуба дадим!
Мы с Серёгой впряглись в верёвку и рванули. Но тут Генка снова заорал: «Эй, нет, я так не поеду, я боюсь!!!»
– Ну и что ты предлагаешь? – возмутился Серёга. – Может, ты тут посидишь, а мы за милиционером сбегаем, чтоб он тебя от волков охранял?
– За каким милиционером? Вы, что, одного меня в лесу бросить хотите? Чтобы я тут совсем умер? Ну, бросайте, бросайте! Я думал, вы друзья. А завтра придёте вы в школу, а Инесса Владимировна спросит: «А где Айдаров, почему его нет на уроке?» А вы что скажете, что в лесу меня бросили и я замёрз? – Генка пробивал на жалость. Он знал, конечно, что мы настоящие друзья, и не бросим его.
– Нет, Генка, не кричи! – сказали мы. – Мы тебя бросать не собираемся, но как тебя тащить дальше-то?
– А давайте так, – предложил Генка, обрадовавшись, – один из вас будет санки за верёвку тянуть, а другой сзади подталкивать!
Мы даже спорить с ним не захотели и так, пока стояли, замёрзли. Впряглись снова. Серёга за верёвку взялся, а я стал сзади санки подталкивать. Только так очень неудобно бежать было, всё время нагибаться приходилось. Поменялись мы с Серёгой местами. Только через две минуты, он тоже устал.
Остановились мы, едва отдышались. Совсем недавно замерзали, а теперь с нас пот градом лил, я даже куртку расстегнул.
– Нет, Генка! – сказали мы. – Так нам тебя не довезти. Тяжело очень. Сам попробуй санки толкать!
Сели мы на санки передохнуть немного, а Генке тут в голову новая идея пришла:
– Ладно, – говорит он, – так и быть, можете санки за верёвку как раньше тянуть, только мне найдите какую-нибудь палку побольше, чтобы, если что, я мог от волков отбиваться!
Это лучше, чем санки толкать. Поискали мы вокруг по краю леса, и нашли здоровенный сук. Притащили его Генке.
– Во! То, что надо! Хороший сук! Тяжёлый! Теперь вы меня быстрее тащите, а я вас от волков охранять буду! Только быстрее, быстрее, нечего рассиживаться! – начал он нас пришпоривать.
Побежали мы снова. А Генка в санях сидел, и суком над головой размахивал. Может грелся, может нас от волков охранял, или страх свой прогонял. Но только никакие волки на нас не напали. И мы бодрой рысцой прямо к автобусной остановке выбежали. А там как раз автобус стоял. Остановка у леса конечная, водитель там часто отдыхал, пассажиров дожидался.
Окна автобуса светились. В нём было уютно, тепло и никаких волков.
– Быстрее! – заорал Генка. – Автобус уйдёт же сейчас!
Но у нас сил тащить его не было. Последние кончились. Мы с рыси на шаг перешли. Вдруг чувствуем, легче тащить стало! Оказывается, Генка с санок вскочил, и бегом к автобусу. Ну, мы с санками за ним! Только запрыгнули в заднюю дверь – автобус закрыл её и поехал. В нём и вправду тепло и уютно было. Кроме нас и водителя в автобусе никого! Сели мы потеснее, чтобы согреться.
– Генка! Ты же идти не мог, ног не чувствовал! – удивился Серёжка. – Как же ты до автобуса добежал?
– А ты видел, как я бежал? – выпалил Генка. – Я же на прямых ногах бежал. Не сгибаются совсем! Я их вообще не чувствую!
Через пять минут в тёплом автобусе Генка уже забыл и про страхи свои, и про то, что недавно умирающим прикидывался. Он развалился на сиденье и истории смешные стал рассказывать. Ещё бы – это не он нас, а мы его по лесу волокли! Он и не устал совсем. Хотели мы с Тараканычем Генке бока намять за то, что он нас тащить его заставил, но потом не стали – пожалели его. Может, и вправду он подумал, что помрёт – от страха это бывает, а теперь всё прошло. И мы решили простить Генку. Он хоть и трусоват, но с ним не скучно.
Бабушка, трусы горят!
На даче был пруд. Старый, большой, заросший тиной. Он остался от трёх прудов, которые когда-то вырыли монахи монастыря, чтобы разводить рыбу. После революции пруды у монахов отняли, дамбы взорвали все, кроме одного пруда, который отдали колхозу. Колхоз начал разводить в нём уток, но это оказалось не прибыльным – сторожа, которые должны были этих уток охранять, меняли их на водку по самому невыгодному для колхоза курсу, и дело это быстро прогорело.
В пруду было очень много карасей, которых ловили и местные мужики бреднем, и мы, нам было лет 11—12, металлической сеткой от забора. Делалось это так – сетку метра четыре длинной двое держали натянутой недалеко от берега, а двое с берега бежали к ней, шумя и стуча палками по воде, загоняя карасей. Когда они начинали биться о сетку, её резко поднимали, и вытаскивали блестящих серебристых рыб.
После рыбалки мы садились на лугу, вываливали пойманную рыбу на траву и делили по-братски – каждый брал по очереди по рыбине, начиная с самых больших и до самых маленьких. На каждого приходилось много – по полведра на ловца. Нас было двое – брат Дима и я, и мы приносили домой ведро карасей каждый день.
Вечером ходили на пруд с удочками, и добавляли ещё несколько десятков карасей. На даче караси были везде – в холодильнике, в тазах, сушились на верёвках, плавали в огромной бочке, их раздавали соседям, жарили десятками, скармливали коту, который уже есть рыбу не мог, но не мог и отказаться от неё, и грустно ходил по дорожкам с карасём в зубах. Когда уже и соседи не брали даровых карасей, нам запрещали их ловить в течение нескольких дней. Однако, отказаться от любимого занятия невозможно, и мы опять шли на пруд, просто карасей выпускали. Однако запрет есть запрет. Контролировать его было легко – по мокрым трусам. Надо было обязательно до обеда успеть высушить их. Поэтому мы сидели на берегу на солнышке в одних штанах, сушили трусы.
Но однажды Вовке Муратикову не повезло. Трусы не успели высохнуть, а на обед ему надо было явиться ровно в час. Бабка у него была очень строгая. Мокрые трусы его выдали и, когда мы после обеда пришли за Вовкой, он был уже наказан – заперт на чердаке на целый день. Оставлять его скучать одного было несправедливо – рыбу-то ловили вместе, а пострадал он один, никого не выдал. Поэтому мы уселись за забором перед его домом и принялись по очереди рассказывать истории и анекдоты. Вовка тоже рассказывал, лёжа у открытого окна.
У Вовки на чердаке был припрятан коробок спичек – он начинал тайно покуривать. Вовка достал его, и стал зажигать спички и бросать их вниз. Они летели, оставляя красивый дымный след и гасли в траве под окном. Вовка их называл «парашютиками». А под окном между яблонями была натянута верёвка, на которой, среди прочего белья, сушились чёрные Вовкины трусы, которые его предательски выдали.
Вовка кинул очередную спичку, которая, описав красивую дугу, приземлилась прямо на его трусы. Вовка засмеялся и весело крикнул бабке, которая собирала клубнику в саду:
– Бабушка, трусы горят!
Бабка на Вовкину шутку внимания не обратила, и продолжала трудиться на грядках. Спичке между тем уже положено было погаснуть, но дымок от неё всё шёл. Вовка смеяться перестал. Верёвка с трусами была очень близко к его деревянному чердаку. Он крикнул уже озабоченно:
– Эй, бабушка, трусы-то горят!
Его крик и на этот раз остался без ответа. Бабка отвернулась, и ещё ниже склонилась к грядкам. И вдруг трусы вспыхнули. Высохли, как назло! И тут Вовка заорал уже в ужасе:
– Бабушка! Трусы горят!
Бабка на истошный крик обернулась, и, схватив грабли, кинулась к пылающим трусам. Сбила их на траву и затоптала пламя. Когда она подняла их с земли, от них остались в основном дырки. За сожжение трусов Вовку заперли на чердаке ещё на три дня.
Белая рубашка
Страшные истории – любимые рассказы нашего детства. Ужастиков по телевизору тогда не показывали, комиксов страшных тоже не было, поэтому всё жуткое и кошмарное передавалось изустно.
Утром или днём рассказывать жуть совсем не интересно – кого так испугаешь? Зато после заката, когда подступала ночная мгла, страшилки заходили прекрасно. И начинали летать над ночными крышами гробы с мертвецами, и седобородый старик ходил по мрачным улицам, крича, чтобы все закрывали окна и двери, и ведьмы просовывали в щели форточек длинные костлявые пальцы, царапая когтями задвижки, и уличные сермяжные коты превращались в злых колдунов, шныряющих по глухим закоулкам между чёрными стенами мрачных облупившихся домиков, и красногубые тощие вампиры, подкарауливающие поздних путников под разбитыми ими же предварительно фонарями. Жуть полная, но, если её рассказывать на даче, сидя в большой компании, вовсе не такая уж и страшная. Даже и посмеяться можно, чтобы показать, какой ты храбрый, и всё тебе это ни по чём, и нет никаких привидений, вампиров и котов-колдунов, а если они тебе попадутся на тёмной улочке, ты их порвёшь, как Тузик грелку.
И вот, когда солнце заходило за дальний лес, и на дачный посёлок тихо спускались сумерки, мы собирались на Лесной улице у Чёртова моста – мрачного деревянного сооружения, построенного через большой овраг, пересекающий улицу. Чёртов мост был деревянный, и до самой земли обшит серыми некрашеными досками. Под ним, как рассказывали те из нас, кто осмеливался заглянуть туда сквозь щели, водились черти. Один раз Алик даже отважился оторвать одну доску и заскочить в чёрное чрево моста. Правда, ненадолго совсем, – через три секунды он выскочил, и, отбежав и отдышавшись, сообщил, что там – полная жуть. На уточняющие вопросы, как эта жуть выглядит, он отвечать категорически отказался, и посоветовал особо интересующимся самим в дырку залезть и на жуть посмотреть. Желающих не оказалось.
К чертям под мост в сумерках, конечно, страшно, но недалеко от моста была лавка, где удобно собираться большой компанией. Для страшных историй – самое лучшее место. Там мы и сидели.
В тот вечер смелый Алик начал рассказ про летающие гробы. Заунывным голосом он кричал, как тот седобородый:
– Закрывайте двери и окна! Закрывайте двери и окна! – и было жутковато, и было понятно, что все осторожные жители города окна и двери тщательно закрывали, кроме совсем уж пофигистов, или тугих на ухо.
– Я бы не стал закрывать! – решительно заявил Вовка Муратиков. Он старался показать, что ему совершенно не страшно, и даже весело посмеивался до того момента, когда над городом в мрачном грозовом небе полетели чёрные гробы с сидящими в них мертвецами. Они подлетали к оставленным открытыми окнам, влетали в них, вставали из гробов, и медленно-медленно приближались к спавшим людям.
Тут Вовка серьёзно сказал:
– Я бы этому мертвецу, если бы он подошёл, треснул бы по морде!
– Посмотрел бы я, как ты ему треснул, – не поверил Борька. – Ты бы от страха умер, если бы увидел!
– Не умер бы! – горячился Вовка. – И как бы я его увидел в темноте?
– А как бы ты ему в темноте треснул?
– Ну, он бы ко мне подошёл, ему ведь надо крови напиться, он бы ко мне прикоснулся, я бы проснулся и сразу врезал! Мне всё равно, мертвец или не мертвец, я знаешь какой злой, когда меня ночью будят!
– И чем бы ему врезал? – продолжал недоверчивый Борька.
– Ножом. Я всегда под подушку ножик кладу. На всякий случай.
– На какой случай тебе ножик под подушкой? – засмеялся Костя.
– Ну… – замялся Вовка. – Чтобы не забыть, когда за грибами иду. Меня дед рано будит, всё забыть можно. Раз даже корзину забыл, а ножик – вот он!
А мертвецы продолжали между тем бесчинствовать в городе. Хватали мирных жителей и уносились с ними в своих летающих гробах.
– Ну и что б ты с ними сделал, если бы тебя схватили? – спросил Вовку Костя. – Ножичком своим ударил?
– Каким ножичком? – возмутился Вовка. – У меня лезвие пятнадцать сантиметров! До сердца достанет!
– А у мертвецов сердца ведь нет! – вмешался Боря.
– Как это нет? Есть сердце! Это ведь не скелет!
– Даже если есть, что ему ножом сделаешь? Он ведь и так мёртвый!
С этим даже Вовка, заядлый спорщик, спорить не стал.
История между тем дальше двинулась. Какая-то управа на упырей должна была быть всё-таки?
В одном доме спал милиционер, у него в тумбочке пистолет лежал. Он проснулся от стука, когда гроб об раму задел – у него форточка открытая оставалась, гроб в неё еле протиснулся. И увидел он, как встаёт чёрный-чёрный мертвец и идёт к кровати – протянул милиционеру руку, выхватил пистолет – а куда стрелять – понять не может – чёрное всё… Однако, присмотрелся, пока мертвец медленно приближался, и увидел, что у того – круг красный светится на груди слева, в том месте, где у людей сердце. Прицелился милиционер – выстрелил и попал! И мертвец и гроб мгновенно растворились без всякого звука и запаха.
Подбежал храбрый милиционер, распахнул окно – увидел – ещё три гроба летят. И красные круги горят у мертвецов. Стал он стрелять. Всю обойму истратил, однако во всех попал. И они тоже исчезли… – продолжал Алик.
– А люди? – спросил Вовка.
– Какие люди?
– Ну, которых они с собой утащили? Они что, на землю попадали?
– Нет, не попадали! – немного запнувшись, протянул Алик.
– А как же они не попадали, если их в гробы затащили, а гробы исчезли? – настаивал Вовка. – Выдумал ты всё, не бывает так!
– Почему, бывает… – продолжал Алик. – Эти, в которых милиционер стрелял, они пустые были. Не успели ещё…
– А с людьми что? – спросил Костя.
– А тут самое страшное начинается! – загадочно продолжал Алик. – Те, которые с людьми улетели…
– Костя, Коля, домой! И вы все – по домам! Десятый час, темно уже! – это Костина бабка закричала. Пришла, и разогнала нашу компанию на самом интересном месте. Пришлось по домам идти.
Посёлок у нас большой, сначала мы всей командой шли, а потом меньше и меньше становилось – ребята по своим улицам расходились. Мы и не заметили, что, пока мы ужастик слушали, стемнело совсем. Это потому, что мы под фонарём сидели. А сейчас мы по улицам шли – фонари редкие, только под собой освещают, а между ними – чернота сплошная.
Скоро нас четверо осталось – Вовка Муратиков и мы трое. Мы на одной даче жили, а Вовка – на соседней улице. И стал Вовка уговаривать нас, чтобы мы мимо его дачи прошли. Так, говорит, веселее, я вам ещё что-нибудь страшное расскажу.
Но мы-то сразу поняли, что он один домой идти боится. А хвастался, какой он храбрый! Нет уж, решили мы, раз ты смелый такой, так иди один, посмотрим, какой ты в темноте храбрый!
Постояли на перекрёстке немного, Вовка всё нас уговорить пытался, и разошлись – мы направо, а Вовка вниз, к озеру, его дом крайний у озера был. Шёл он не быстро, останавливался и вглядывался в темноту.
– Слушай, – сказал Вовка Соколов, – давайте быстро к Вовкиному дому подбежим с другой стороны, посмотрим, какой он храбрец!
Мы пулей сделали крюк по соседним улицам, подбежали к Вовкиному дому снизу, от озера и спрятались возле калитки в кустах. Как назло, там шиповник рос колючий!
Ладно, сидим в шиповнике, выглядываем. Улица вниз спускается. Далеко вверху на перекрёстке – фонарь тусклым жёлтым пятном. Между калиткой и фонарём – темень! И в ней движется белое пятно. Это – Вовка, он в белой рубашке был. Медленно движется, осторожно. Сделает несколько шагов – и замирает, прислушивается, а потом ещё несколько шагов сделает. Знать бы, что он так медленно идёт, мы могли бы не бежать!
Чем ближе к калитке, тем от фонаря дальше, тем темнее и страшнее, и Вовка медленнее движется. Совсем почти на месте стоит! Так мы его не дождёмся, а нам ведь тоже домой пора. Мы сидим в кустах, а белая рубашка тоже ждёт, с духом собирается. Постояла рубашка – постояла, а домой всё же надо – не ночь же на улице стоять, ещё три шага прошла. Метров пять до калитки осталось.
Интересно смотреть в темноте – ни лица, ни ног не видно, кажется, рубашка сама по себе в воздухе движется…
Тут я рукой двинул – и колючка шиповника мне в руку впилась, я руку отдёрнул, и другую ветку задел, она зашуршала – и от шороха этого белая рубашка мгновенно развернулась и вверх по улице бросилась. Да с такой скоростью, какую Вовка и днём-то никогда не развивал! Мелькнула под фонарём и исчезла в темноте улицы.
Мы Вовку ждать не стали, и домой пошли.
А утром спросили Вовку, как он домой шёл, не страшно ли было?
– А чего бояться-то? – бодро заявил он. – Мертвецов каких-то? Нет никаких ходячих мертвецов, книжки надо читать научные! У меня целая подписка «Юного техника» есть, я в предрассудки не верю!
Ну, это он днём храбрым таким стал. А в темноте ему и «Юный техник» не помог.
Сторожиха нам рассказала, что вчера в сторожку Вовка прибежал, глаза круглые от страха, и говорил, что возле его участка жулики спрятались, и домой идти боялся. Сторож Пётр Алексеевич его до дома проводил. Только никаких там жуликов не было. Мертвецов тоже.
Бабка Зинаида
На седьмом участке дом стоял в самом дальнем углу. Был он сер и мрачен. Мрачен и окружён огромными елями. Солнце не проникало сквозь сросшиеся кроны. Кровля поросла мхом. В ветвях елей вороны свили гнёзда, и чёрные птицы мрачно смотрели сверху. Изба Бабы Яги в натуре.
И сама бабка Зинаида – вылитая Баба Яга. Тощая, с длинным носом, скрюченная, и мрачная. Ходила она всегда в грязно-синих трениках и в чёрной стёганой безрукавке. Весь её участок, кроме угла, где дом, был засажен клубникой, за которой она тщательно ухаживала, и весь урожай продавала. Сейчас это бы в плюс пошло – как фермерство. В советское время такое частное предпринимательство на дачных участках не приветствовалось, да и прямо запрещалось. Но Баба Яга была не партийной, и на коммунистические порядки плевала.
Бабку Зинаиду мы опасались – она была злая, и подозревала, что любые пакости, что случались, устраивала ей наша компания мальчишек. Чуть что – она ходила на нас жаловаться, особенно доставалось Вовке Муратикову – он через дом от Бабки Яги жил – и жаловаться на Вовку ей ближе всего было.
Но, за сожжённые трусы или испачканную илом из пруда новую белую рубашку Вовка ещё соглашался кару принять, но за прочие претензии бабки Зинаиды – это уж нет!
А тут, как назло, кто-то стал с калитки бабки Зинаиды замок снимать и прятать. А Баба Яга свою калитку всё время на замке держала. А вдруг – нет замка! Она новый достанет – ну, не новый, конечно – ржавый, но другой – повесит – и опять нет его.
Яга сразу решила, что это Вовка. Хотя это точно не он был. И за каждый замок жаловаться ходила к Вовкиной бабке. Вовку это достало, и он даже следствие проводил, кто бы это мог. Никто не признавался. Многие могли – бабку все не любили. Она вечно к нам придиралась, когда мимо её забора проходили. Обвиняла, что у неё клубнику воруют, и в её ворон пульками стреляют. Про клубнику – это враньё – у неё забор высоченный, и калитка всегда заперта. А про ворон – это правда. Они своим карканьем всех достали. Но ели от забора далеко. Трудно попасть. Может, несколько пулек от воздушки ей на крышу и упали, да ведь не нарочно же!
Когда Вовку третий раз за замки незаслуженно наказали, он решил к Бабе Яге лично пойти, чтобы сказать, что замков с калитки не снимал. Но идти один побаивался, потому что очень злая и сварливая Баба Яга. И, когда она в огород выходила, грабли были при ней. Поэтому он стал нас уговаривать, чтобы за компанию пошли, его невиновность подтвердить, и для безопасности. Но желающих идти к Яге не нашлось – все её хорошо знали.
Уговорить ему удалось только Костю Рогова с третьей линии – он от бабки Зинаиды далеко жил, и с ней не сталкивался. Костя был на два года младше Вовки, невысокий и полноватый. И вот они пошли – два удаляющихся силуэта – длинный Вовкин, и невысокий Костика. Вылитые Дон Кихот и Санчо Панса.
Мы, конечно, пойти – не пошли, но следом на дистанции двинулись – интересно, как Баба Яга Вовку встретит.
Подошли они к калитке, бабка Зинаида как раз на клубнике работала.
– Зинаида Ивановна! – тоненьким от волнения голосом прокричал Вовка остановившись за калиткой.
Баба Яга не услышала, и продолжала тяпкой на длинной ручке окучивать клубнику.
– Зинаида Ивановна! – закричал Вовка вновь, уже громче, но также фальцетом.
На сей раз Яга подняла голову, повернулась и медленно пошла к забору.
– Зинаида Ивановна! Я Ваш замок не брал, я его вообще не трогал! – начал было Вовка.
Но Баба Яга остановила его властным жестом.
– А, пришёл, – с мстительным удовлетворением произнесла она. – И это говно с собой привёл! – с этими словами она пальцем указала на Костю, который совершенно опешил, он вообще Ягу не знал, да и бабка Зинаида его тоже в первый раз видела.
От неожиданности он утратил дар речи, а потом изумлённо вымолвил:
– Кто говно? Я говно? – хотя вокруг, кроме них, никого не было, так что мог и не уточнять.
– Дерьмо! – припечатала Баба Яга, повернулась и пошла обратно к своей клубнике.
Мирных переговоров не получилось. Стороны к консенсусу не пришли. И за что только Костик пострадал!
Кукуруза
Ура! Созрела кукуруза! Можно в войну играть! Зрелая кукуруза очень для этого подходит – зелёные стебли в два метра высотой – прекрасное укрытие! И посажены рядами – удобно пробираться, не задевая за стебли – их качающиеся макушки не выдают. А початки кукурузные – и вкусные, и в качестве гранат очень хороши.
Готовились к кукурузной войнушке серьёзно. Делились на две команды. Выбирали командира, разведчиков и часовых, делали документы, карты рисовали, и прятали всё это в надёжное хранилище. Лучше всего в железную коробку из-под конфет. В ней прорезали дырки, и вешали замок. Ключ – у командира.
Для стрельбы использовались трубки из стебля дудника, из них стреляли рябиной. Но лучшее оружие – это граната из крупного початка!
Подготовившись, мы отправлялись в поход на поле, засеянное заботливо совхозом-миллионером, которому принадлежали все поля вокруг. Миллионером он назывался потому, что должен был государству больше миллиона рублей. Но государство было рабочих и крестьян, и со своих долгов не требовало. Может, оно и хорошо, потому что, когда государство их бросило, все поля заросли кустарником и берёзами. В огромных коровниках осталось два десятка убогих кляч, а в тракторном парке без дела ржавели старые трактора.
Дорога к кукурузному полю вела тропинкой через лес, даже не лес настоящий, а так – мелколесье – ольха, берёзы чахлые, да густой кустарник. Бесполезный совершенно лес – ни ягод, ни грибов. Мы в него и не ходили никогда, покуда кукуруза не вырастала. Однако оказалось, что именно этот чахлый лесок нас выручил.
Колхозные поля в то время охраняли сторожа – их называли объездчиками потому, что поля эти они объезжали на лошадях – и быстрее, и видно сверху всё, и поймать злоумышленников, играющих на полях кукурузных и катающихся со стогов, как с горок – легче.
Но охрана на лошади имела и недостаток – объездчик издалека виден – во-первых, высоко сидит, даже над двухметровой кукурузой возвышался, во-вторых, сразу можно узнать, что это объездчик, а не просто мужик по полю идёт, кроме них никто верхом не ездил.
Команды составлены по дачным улицам. «Озерная» с «Зелёной» против «Центральной».
Наша команда – пять человек, левее по полю пошла, а с «Центральной» ребята направо повернули. И спрятались среди стеблей.
Полю кукурузному мы не сильно вредили. Кукуруза – не овёс, посажена редко, широкими рядами, так что вполне пробраться можно, даже не задевая за стебли. А ломиться напрямую – опасно – сразу в засаду к противнику попадёшь.
Сначала надо набрать побольше початков, самых крупных – гранаты! Каждый запасал их, и затем начиналось выслеживание противника и устройство засад. Засады – самое лучшее, противнику надо наш штаб обнаружить и коробку с секретными документами захватить. Вот на подходах к штабу засады и устраивались.
Объездчика мы не очень опасались – и видно его, и копыта стучат, и в кукурузу на лошади он не ломанётся. Однако всё-таки внимательнее надо быть!
В нашей команде играл мой друг Вовка Муратиков, с нашей, «Озерной». Он был на год старше и бегал быстрее, но объездчика больше боялся – потому что жил на даче с бабкой, которая очень строгая и драла его как Сидорову козу и на чердаке запирала.
Вовке в этот раз выпало сидеть в засаде, штаб охранять, а мы трое – я, Мишка и Костя с «Лесной» были разведчиками, отправились крадучись вражеский штаб захватить.
Сидел Вовка в засаде, делать особенно нечего, жди да наблюдай, не потрескивают ли стебли кукурузные, не качаются ли? Початки он покрупнее отбирал – выберет пару, и снова ищет – найдёт побольше – самый маленький выбрасывает. Три отборных нашёл. А первый вообще гигантский – с бутылку из-под лимонада!
Его он приготовил для первого броска, зажал в руке, и притаился, потому что услышал – прямо на него кто-то по кукурузе крадётся.
«Ну и чайник, – подумал Вовка. – Трещит так, за километр слышно! Ну, сейчас получит!»
Вовка присел пониже, и затаил дыхание.
– Сейчас! – кукурузные стволы перед ним зашуршали очень громко – мелькнули руки, раздвигавшие их, и Вовка, размахнувшись, метнул початок туда, где должна быть голова. И попал! Раздался сочный «шмяк», и в воздух, взвизгнув, взвился объездчик! Он лошадь где-то оставил, и пешком подкрался!
Вовка успел увидеть грубый брезентовый плащ и красное лицо, злобно вращавшее глазами.
– Объездчик! – завопил Вовка, и бросился меж толстых стволов в сторону леса.
Спасло его, что объездчик оторопел после меткого броска. Затем он с рёвом кинулся вдогонку.
Вся кукуруза на нашем краю поля мигом ожила. Услышав Вовкин крик, мы бросились бежать, выскакивая из укрытий. Добежать до спасительного леса и укрыться в нём!
Мы мелкие и шустрые, объездчик – здоровенный мужик. Между стеблей мы легко проскакивали. Объездчик же ломился, ломая толстые стебли. Это сильно тормозило его.
И он растерялся – там трещит, там, там – за кем бежать? Нам удалось добежать до леса и, петляя по его тропинкам и продираясь сквозь кусты и заросли – даже и сквозь крапиву, мы добежали до лесного озера в самой чаще. Остановились – никого! Спрятались в кустах, посидели – никто не крадётся.
И пошли домой. Большое мы на это поле не ходили. Вдруг там объездчик обиженный в засаде?
Шурик тонет!
Очень хочется искупаться в жаркий июльский день. Особенно когда дача на берегу большого пруда. Только для купания пруд этот не очень подходил. В мелкой своей части там было чуть выше колена, зато прекрасно можно было ловить железной сеткой карасей – двое держали сетку, двое бегая перед ней, загоняли туда рыбу.
А в глубокой части пруд был покрыт тиной, на которой возлежали шумно квакающие лягушки, и дно было – ила по колено. Пиявки, виляя черным телом, проплывали в свободных от ряски окнах.
В общем, пруд полезный, но для купания совершенно непригодный.
Зато, километрах в пяти – час туда, час обратно, в лесу было небольшое озеро. Затеняли его кроны высоких деревьев, берег круто обрывался в глубину, и вода была холодная, родниковая, но зато чистая. Конечно, был тут один минус – пока идёшь обратно – так тебя солнце нагреет, что хочется вернуться – окунуться.
И далеко идти было. Поэтому ходили мы на это озеро только в самую жару. И всегда большой компанией – чтобы не скучно было туда топать. Под истории и анекдоты идти веселее.
Дорога начиналась через луг у нашего пруда. А на лугу часто паслось деревенское стадо. Опасная рыжая корова была в этом стаде. Один рог у неё рос нормальный, а другой – здоровенный, торчал вперёд как пика. Корова эта считалась бодливой. Точно было неизвестно, забодала она кого-нибудь или нет, но такая слава за ней водилась. Может, из-за рога её, может из-за того, что, когда мы мимо проходили, она не жевала равнодушно траву, как все нормальные коровы, а прекращала есть, подымала голову и начинала недобрыми глазами следить за нами. А иногда и делала несколько шагов в нашу сторону. В одиночку, да ещё и в красной рубашке я бы мимо нее ни за что не пошёл. Мы были уверены, что на красное коровы сразу нападают. Или быки… Ну, в общем, не надо красного.
В это раз нам повезло – пастух дядя Жора угнал стадо в рощу ближе к деревне – в полдень хозяйки приходили туда с вёдрами доить коров. А был как раз полдень. Самое пекло.
Купаться всем хотелось, и компания собралась большая – Алик и Вовка Хлыстовы, которые жили далеко, на Каспийском море в городе нефтяников Баку, и интересно рассказывали про ту, необычную жизнь; Вовка Муратиков, который уверял, что если он во всю силу побежит, то сможет обогнать автомобиль «Москвич», Борька и Вовка Петровы, с пятого участка, дед которых старый большевик-подпольщик, до поздней осени ходил по дачам босиком. Интересно, в Москву на электричке он тоже босой ездил? Но я никогда не видел, чтобы он дальше сельмага ходил, босой и в полотняной рубахе, как Лев Николаевич. Серёжа Федотов по кличке «Гитлер» – потому что он, когда грибы собирали, когда белый находил, никому не разрешал к нему приближаться, пока он все вокруг не обшарит. И лицо у него, когда он при этом кричал: «Моё место!» было такое, что только усики ещё и вылитый Гитлер, и мы с братом Димой.
И ещё с нами увязался Шурка Костогрыз по кличке «Беременный кабан». Кличку свою Шурка получил совершенно заслуженно – во-первых, он был жирным. Во-вторых, он был очень неуклюжим. В-третьих, он очень быстро уставал и всегда начинал ныть.
В каких бы похождениях наших Шурка ни участвовал – на колхозное поле за горохом, на стога, чтобы кататься с них, как с горки, на кукурузное поле для войны с початками – Шурка везде мешал чрезвычайно.
Особенно трудно было залезать с ним в заброшенный сад за яблоками. Сад был не то, что совсем заброшенный – просто хозяин дачи работал всё время за границей, а яблоки на участке были – белый налив. Очень сладкие, но не выдерживающие длительного хранения. Поэтому, чтобы они не пропадали попусту, мы их активно собирали.
Преодоление забора с Шуркой было сложной задачей – нужны были ещё двое. Один подталкивал Шурку, когда он, пыхтя, на забор карабкался, а второй, который раньше на другую сторону перелезал, должен был Шурку ловить, иначе он запросто мог с верхушки забора рухнуть.
Мы старались от Шурика ускользнуть. Но тут тоже проблема была – он начинал канючить, что его не берут, и его вредная бабка ходила и жаловалась нашим бабушкам, что Шурку обижают. И нам за него доставалось.
В этот день от Шурки отделаться не удалось, хотя мы честно пытались.
– Шурка! – сказал ему Вовка Петров. – Далеко, устанешь и опять канючить начнёшь!
– Не начну! – канючил Шурка, пристраиваясь за нами.
– Ты и в прошлый раз говорил, а потом отстал. Мы тебя ждать не будем, предупреждаем! – Это уже Вовка Муратиков попытался его отговорить.
– Не отстану! – гнусил Шурка, быстро перебирая ногами. На его круглом лице выступали капли пота. Жиртресты всегда потеют, когда жара и быстро двигаться приходится.
Так идём мы по тропинке один за другим, Шурка, как всегда последним. И пока не отстаёт. Через луг протекала небольшая речка, вернее, большой ручей, который впадал в наш пруд. Через ручей этот было переброшено от берега до берега толстенное бревно, на метр возвышавшееся над водой. Мы все легко по бревну перебежали, а Шурка испугался, встал на четвереньки и так по бревну пополз. И он бы, конечно переполз бы, но он основное правило нарушил – когда переходишь по бревну – надо смотреть только на дальний конец.
Так Шурка и делал, но только пока не дополз до середины. Тогда он решил вниз, в воду глянуть. И тут же он прямо на четвереньках в воду и упал. Раздался мощный всплеск, сплошной ковёр ряски раздвинулся, и Шурка исчез под водой. Ряска сомкнулась над ним.
– Шурка упал! – закричал Вовка, и мы побежали назад. С высокого берега мы смотрели вниз, где на сплошном зелёном ковре расходились круги.
Какая глубина там мы не знали. Никогда в этом ручье не купались, и рыбу не ловили. А вдруг там омут? Прошло немного времени – и из пучины, раздвигая ряску, всплыл Шурка. Вернее не весь, и, главное – не тем местом. Из воды, залепленная водорослями, поднялась только Шуркина задница.
Она покачалась, как спина бегемота, на поверхности, и вновь ушла в пучину. Старшие ребята – Васька и Алик, приготовились в воду прыгать, но всё же не прыгали пока – страшно – утопленник может так ухватить, что сам утонешь, однако Шуркина бабка страшнее…
Тут опять шевеление воды, и появилась, облепленная грязью и ряской Шуркина голова. Она открыла рот, судорожно хватила воздух, и снова погрузилась. Никто не успел прыгнуть за Шуркой, но через несколько секунд голова появилась снова. А за ней и плечи, и вся Шуркина верхняя половина.
Весь облепленный илом и водорослями, он встал из ручья. Он стоял на дне. Там было по пояс. Если бы он не с четверенек упал – только штаны бы испачкал. Вылез Шурка на берег, и решил не рисковать и вернуться, чтобы на обратном пути опять через бревно не переходить.
Но нам от его бабки всё равно попало. Как будто мы виноваты, что Шурка решил в ручей упасть.
Бег со шкурами по пересечённой местности
Наша поездка в братский тогда ещё Азербайджан закончилась тоже не без приключения. Причина – Анас – два пыжика ему в зад! Это я про историю «Пыжик»! – оставил нас практически без денег – ещё в день приезда, когда мы слонялись по душному, потному Баку, он, повинуясь чутью матёрого спекулянта заскочил в магазин, и увидел, что постельное бельё – обычные белые простыни, на которые мы и внимания бы не обратили – стоят здесь дешево. Решил сделать бизнес. И он уговорил нас отдать ему в долг по 10 рублей из общей казны, накупил белья и отправил посылку на родину – в Башкирию для перепродажи. И обещал через пару дней вернуть, как только придёт перевод.
Но деньги так и не пришли. 10 рублей в то время были суммой изрядной, и их потеря пробила большую брешь в нашем бюджете.
Ко дню отъезда у нас оставалось денег только на электричку до Баку, и на автобус в Москве из аэропорта. Купить воды – и то не на что! А при такой жаре вода – это не роскошь вовсе.
Сели мы на полустанке Кизил-Бурун в ту же самую фанерную электричку, на которой ехали сюда. Станция Кизил-Бурун была вовсе не станцией, как в Москве, и даже не платформой, а просто остановкой в пустынной местности, где пассажиры взбирались по металлическим приступкам в вагон. Никаких строений вообще, тем более кассы, на этом полустанке не имелось.
Но – бесплатно пассажиров при социализме не возили, а до коммунизма не дожили. Поэтому на следующей станции была касса, и электричка специально делала длинную остановку, чтобы пассажиры, севшие в Кизил-Буруне, могли выйти, купить билет и заскочить снова в поезд, который и ходил-то раза три в сутки, так что опоздавший, хотя и обилеченный пассажир, следующего поезда дожидался долго.
Пока мы ехали до этой станции, было принято коллективное решение денег на билет не тратить, а ехать зайцами. Принято оно было не сразу, а после небольшой горячей дискуссии, и не консенсусно – Серёжа Печёнкин был против, мы с Лёней воздержались, а горячо за экономию был Михалыч, который убедительно мотивировал, что покупать билеты – бесполезное транжирство, контроля всё равно нет, сюда же ехали – только деньги зря на билеты потратили! А сэкономив на билетах, мы можем и воды купить, и даже поесть в аэропорту – не натощак же лететь!
В общем, выходить за билетами мы не стали, а обливались потом и глядя в окно с отсутствующим стеклом на коричневую каменистую пустыню за окном, поехали дальше.
Ехать с редкими остановками было ещё часа полтора. И тут по электричке пошёл контроль.
Поездные контролёры в Азербайджане принадлежат к местной элите. Должность эта явно была денежная. По вагонам, начиная с первого, очень неспешно и вальяжно шли два пузатых мужика, одетых в аккуратную серую железнодорожную форму.
Пот тек по их дородным красным лицам, но тёк как-то солидно, основательно, не то что у рядового и непривилегированного гражданина. Контролёры передвигались неспешно не только из-за страшной духоты в вагоне, но и потому что прекрасно знали – никто из «зайцев» никуда не денется. До следующей остановки минут двадцать хода.
Первым контролёров заметил Михалыч, который вышел в тамбур покурить.
– Атас! Контролёры! – подбежал он к нашей лавке. Мы вскочили, и похватали с полок вещи. У каждого по рюкзаку и по две бараньи шкуры, которые нам подарил Шихмамед. Ценная вещь – в Москве из неё что-нибудь можно сделать. Правда, непонятно что, но шкуры мы тоже оставлять не стали. Со всем этим скарбом мы двинулись отступать по вагонам. Контролёры проходят в очередной вагон – а мы уже в следующем. Мы видим в проходе их лица, и как они без спешки собирают деньги с безбилетников.
Контролёры, конечно же, видели нас, но даже не ускорили шаг. Гнаться за зайцами – ниже их достоинства. Такие солидные люди не бегают. Зайцы сами к ним идут. Проблема в том, что денег на штрафы у нас не было. Максимум, и, впрочем и минимум, что нам могли сделать – это высадить на следующей станции. Но для нас это было катастрофой – следующая электричка через несколько часов, так что мы в этом случае гарантированно опаздывали на самолёт в Москву.
Отступая, мы надеялись на единственный шанс – остановку. Если поезд остановится, мы сможем выскочить и перебежать в передние вагоны уже проверенные контролёрами. Но остановки всё нет, нет, нет. И вот мы отступаем в последний вагон. Проходим его насквозь под сочувствующими взглядами понимающих ситуацию пассажиров. Контролёры всё так же вальяжно входят в вагон, и неспешно проверяют билеты. Мы передвигаемся в тамбур. Дальше отступать некуда. За пустым проёмом заднего окна – постепенно уходящие вдаль рельсы, перечёркнутые шпалами.
А поезд не собирается останавливаться. Он просто сбавил ход. Этот поезд вообще был крайне медленным. И сам локомотив был древним, и особенно путь – похоже, как его ещё построили при царизме, так к нему никто больше не притрагивался.
Мы обречённо смотрели на проплывающий за пустым проёмом окна унылый пейзаж – бурую землю, покрытую трещинами, нефтяными насосами и усыпанную бурыми камнями и фиолетовое небо, зло нависающее над ними. На Марсе, наверное, и то уютнее! И этот пейзаж становился всё более унылым по мере того, как жирные потные контролёры хищно приближались к нам. Страшная жара и духота в поезде на них действовала особенно тягостно. Тучные люди вообще хуже переносят жару – слой жира уменьшает теплообмен, а им ещё приходилось двигаться и собачиться с безбилетниками, и мусолить в жирных пальцах купюры и мелочь. Может, и движения не до конца уснувшей совести тоже приводили к выделению внутренней энергии. Поэтому они сейчас выглядели значительно менее бодрыми, чем в момент встречи – тогда это были розовые весёлые поросята, а сейчас – пожилые с обильно текущим по круглыми лицам потом обрюзгшие мужики на грани апоплексического удара.
А пейзаж за окном проплывал медленно. Очень медленно, как бы растягивая время, так медленно, что казалось, что поезду тоже невыносимо жарко и он устал, очень устал и не очень-то хочет ехать. Сквозь окно было видно, что грязно-зелёная линия вагонов изогнулась и движется по большой дуге. Путь здесь, видно, был особенно разболтан, потому что поезд ещё и ещё сбавлял ход.
Мы стояли в тамбуре, у каждого за спиной рюкзак, и по завязанной в узел белой бараньей шкуре в каждой руке. Своё не бросаем! И вдруг мы, не сговариваясь, открываем фанерную дверь электрички и один за другим выпрыгиваем на бурую землю и бежим, пытаясь обогнать электричку, чтобы вскочить в один из передних вагонов, уже проверенных контролёрами. Это наш единственный шанс. Электричка идёт чуть медленнее, чем мы, к тому же по длинной дуге. А мы можем срезать. Есть риск, что она наберёт ход, а мы останемся в пустыне. Есть риск сломать ноги, потому что нам всё время приходится перепрыгивать через валяющиеся повсюду булыжники. Шкуры мешают бежать! Но мы не бросаем шкур! Михалыч – могучий, но коротконогий, начинает отставать и повизгивает.
Вот так, вприпрыжку между камнями, по потрескавшейся от жары земле, под лучами обжигающего солнца и под сочувствующими взглядами пассажиров электрички, болеющими за нас, мы бежим! Нам надо обогнать, надо попасть в первые вагоны, тогда есть шанс успеть добраться до аэропорта. А электричка-то чуть прибавляет ход, и у нас появляется реальный шанс вообще остаться в этой пустыне, то замедляется, и акции шансы начинают стремительно расти.
Но усилия и льющийся пот не проходят даром. Мы начинаем отыгрывать расстояние минута за минутой. Вот мы уже на уровне середины состава, вот уже бегущие первыми Лёня и я уже у второго вагона. Вполне достаточно, можно открывать дверь и запрыгивать в тамбур. Дальше рисковать смысла нет, к тому же бегущие за нами ребята начинают сдавать, и у них уже не получается обгонять поезд – и постепенно гонка начинает склоняться не в их пользу.
Мы открываем дверь, закидываем шкуры на грязный пол тамбура, хватаемся за перила и впрыгиваем в вагон. Кричим отставшему Михалычу, чтобы он прибавил, и он нечеловеческим усилием достигает тамбура и точно запрыгивает в дверной проём. Гимнаст. Мастер спорта.
Адреналин такой, что усталости мы не чувствуем. Заходим в полупустой вагон и занимаем свободные скамейки. Чувствуем молчаливое одобрение пассажиров. Контролёры, которые, конечно же видели наш кросс по пустыне, в головные вагоны не пошли – по такой жаре им этого совершенно не хотелось. К тому же они прекрасно понимали, что взять с нас нечего совершенно, а просто прилагать усилия, чтобы ссадить с поезда, им в ломы! Так что мы прекрасно доехали до города Баку. А после и до аэропорта.
Там мы купили бутерброды и поделили оставшиеся деньги – монеты, потому что рублей не осталось – на всех в строгом соответствии со стоимостью проезда в Москве от аэропорта до дома. Я получил два пятака – один на автобус Внуково – метро Юго-Западная, второй – на метро. От метро мне надо было ещё пилить на трамвае минут пятнадцать, но три копейки сочли напрасной роскошью, дойду и пешком. Кому надо на электричку – получили чуть больше. Всё по-честному.
А на оставшиеся деньги мы купили в аэропортовском киоске две бутылки теплой минералки. И разделили на всех.
Коля Киряев
Наш институт был на острие научно-технического прогресса. Предметом особой гордости был первый в СССР автоматический буфет. Создан он был большим трудом специалистов факультета автоматики. Это было чудо прогресса! Поесть там можно очень быстро, можно сказать, моментально. Никаких очередей. По стенам большого зала без окон – расположен он был в подвале, стояли сверкающие полированной сталью и стеклом автоматические машины, предлагающие за 10 копеек бутерброд, а за 20 – два. А рядом за гривенник такие же роботы разливали по бумажным стаканчикам сладкий кофе с молоком.
Очень удобно. Даже за двадцатиминутную перемену перекусить успеваешь! А за большой, часовой перерыв не спеша покайфовать можно.
Что я и собирался сделать, имея тридцать копеек кэша. Двумя монетами в 20 и 10 копеек. В буфете народ не толпился. Там всё было рассчитано на максимальную проходимость, быстро пришёл, быстро взял, быстро съел, быстро ушёл. Поэтому сидячих мест не было, только ряды узких стоек, возле которых ютились с двух сторон.
Подхожу я к автоматам, что бутерброды продают – и вижу, в одном из стеклянных окошек мой любимый вариант – пара бутербродов, один с докторской колбасой, второй – с варёно-копчёной. Слюнки текут! И всё это великолепие за двугривенный! Достаю монету и только приготовился засунуть её в щелку приёма денег, как вдруг у меня из-под руки, как чёрт из табакерки, выскользнул Коля Киряев.
– Ты что делаешь? – озабоченно и хлопотливо выговорил он.
– Я, Коля, хочу бутерброды купить, как видишь! – произнёс я. Как будто тут чем-то ещё заниматься можно!
– Давай монету! – быстро проговорил Коля.
Я был немало удивлён, но монету в Колину шуструю ручонку вложил. Что он с ней будет делать, интересно?
Коля занял удобную позицию перед автоматом, изготовился, как спортсмен, собирающийся перед стартом, потом всё происходило настолько быстро, что я с трудом улавливал полёт Колиных рук. Он опустил монету в щелку и мгновенно открыл два окошка с бутербродами. Это стоило 40 копеек и было невозможно теоретически – электронное устройство, разработанное в лаборатории автоматики, мгновенно запирало одну из дверец. Но Коля умудрился его опередить. Придерживая большими пальцами стеклянные дверцы, он выгреб четыре бутерброда на пластиковый поднос, затем, не опуская створок, проник ловкими пальцами куда-то в чрево машины, что-то там придержал, и локтём правой руки нажал на кнопку «Возврат денег». Двугривенный со звуком выпал из машины.
Коля отпустил створки и новые четыре бутерброда опустились из подающего устройства. Коля заправил снова в автомат изъятую из него монету и вновь повторил тот же трюк. Бутербродов теперь было восемь. Он провернул мероприятие ещё раз, горка бутербродов была внушительная. Автомат звякнул, монета вернулась и оказалась в Колиной руке.
– На! – проговорил он, возвращая мне двугривенный, и мгновенно исчез, растворившись в пространстве.
Колина ловкость могла составить конкуренцию театральным фокусникам.
Другой объект институтского общепита – обычная столовая с комплексными обедами. Там было три варианта – 30 копеек – суперэконом, 40 – средний класс, и 50 – высший уровень. Тут был конвейер. Сначала касса, там пробивали чек, исходя из аппетита и наличия кэша. Потом шли вдоль длинного прилавка, где набирали на поднос продукты в соответствии с чеком, и в конце этого конвейера сидела дама – контролёр, которая проверяла соответствие набранных продуктов оплаченному чеку. Перед ней стояла доска с тремя пиками – по 30, 40 и 50 копеек – на которые надо было наколоть чек.
У Коли чек всегда был на 50. Когда он подходил к пикам, он честно показывал даме чек, потом рука с чеком летела к пике за 50, делала движение, для того, чтобы наколоть чек, но тот почему-то всегда оказывался в Колином рукаве, а не на пике. При этом контролёр ничего не успевала заметить. Чек у Коли был «проездным», как месячный билет в метро. Он его менял на новый крайне редко – только когда чек от постоянного употребления и ношения в карманах Колиного пиджака становился мятым и засаленным, и его просто было уже неприлично показывать контролёру.
Однако в учёбе Коля силён не был. Был он двоечником, за счёт бесконечной хитрости своей перебивающимся с двоек на тройки. Но был предмет, в котором Коля был особенно слаб. Немецкий язык. По иностранным языкам в группе вообще никто не блистал, в обычных, не языковых школах, преподавали его через пень-колоду. В институте забывали остальное за ненадобностью. Однако в расписании он был, хоть и по минимуму, и сдавать его нужно было.
Сказать, что Коля в немецком, был ноль – это слабо. Он был минус. Казалось, вся его ненависть к фашизму выразилась в том, что от него немецкий отскакивал, как от стенки горох.
Однако, на втором курсе подкатил экзамен по немецкому. Сдавать его, для пущей объективности, должны были не преподавателям, у которых и душа, и сострадание, а безжалостному и бессердечному автомату с названием, от которого ощущалось, как иголки впиваются в мягкую и нежную плоть – КАКТУС. Всё с больших букв. Кабинет Автоматического Контроля Текущей Успеваемости Студентов. Вот так то!
Колючая штука представляла класс, где вместо столов стояли большие серые ящики с экраном и пятью кнопками на передней панели. Экзаменатор давал студенту лист с вопросами и перфокарту, которую он должен был вложить в прорезь на ящике.
Двадцать вопросов – по пять вариантов ответов на каждый. Правильный – один из них. Надо двадцать раз нажать на одну из пяти кнопок, а, чтобы студент свои результаты видел – при каждом нажатии загорается сверху лампочка – зелёная – правильно, красная – пролёт. Шкала оценок жёсткая. Две ошибки и меньше – пять. Четыре ошибки – четыре балла, шесть – три. Если больше – не сдал, два балла.
КАКТУСа боялись все. Даже отличники. Запросто можно было и на три балла налететь, и даже пару получить. Язык знали слабо. У Коли это усугублялось ещё и тем, что он в школе в маленьком городе учился, язык там, можно сказать, не проходили даже мимо.
Начался экзамен. Машин 10, нас – человек 50. Первые сдают, остальные ждут. Сначала решили рискнуть те, кто посильнее, поувереннее. Получили вопросы, сидят перед экранами – подолгу думают, прежде чем кнопку нажать. Загораются лампочки. Много красных. Мало кто из отличников даже на четыре балла на нажимал. Вторая смена. За одну из машин садится Коля. Бегло просматривает вопросы и жмёт кнопку. Зелёный. Угадал. Почти не задумываясь, жмёт ответ на второй вопрос. Зелёный! Бывает. Можно и два раза подряд угадать. Повезло. На третий он тоже правильно ответил, и на четвёртый, и так быстро, почти не задумываясь. Пятый, шестой… одиннадцатый. Только зелёная лампочка загорается, красная – ни разу!
Девятнадцатый, двадцатый! Из двадцати – двадцать! И – быстрее всех. Никто в его заходе ещё не отстрелялся, до половины доползли только. Коля сдаёт экзаменатору листок с вопросами и перфокарту, получает в зачётку заслуженные «отлично» и быстро уходит. Коля всегда суетился, спешил куда-то.
На освободившееся место за прибором садится Лёня Воробьёв. Думает над каждым вопросом подолгу, но отвечает чётко, без ошибок – из двадцати – двадцать. Пять баллов. Лучше – ни у кого и близко нет, меньше двух ошибок никто не сделал.
После Лёни садится Миша Брычихин. Посильнее Коли в языке, но тоже не корифей. Но начинает испытание очень успешно – первые десять вопросов – стопроцентный результат!
И тут вдруг срывается с места сонно сидевший лаборант. Он специально в этом классе присутствовал – отвечал за исправность этих сложных и умных агрегатов. Лаборант подбежал к Мишиному прибору и начал отвёрткой заднюю стенку у него откручивать. Окрутив, он заглянул туда, и закричал яростно и пронзительно:
– Где этот Киряев? Где он?
Но Колин след уже давно остывал в бесконечных коридорах нашей альма-матер.
Потом лаборант, вооружившись ножом, долго скоблил что-то в приборе, вытаскивая из него комочки чёрного пластилина…
Коля мне потом, как большому другу и по секрету выдал тайну КАКТУСа.
Машина-то, оказывается, была нехитрая. Там лист с вопросами и перфокарта друг другу соответствовали. На перфокарте в нужном месте пробиты отверстия были, а электронный луч их считывал и сличал с правильными. Но – если фотоэлемент у этого высокотехнологичного устройства заглушить – можно на любую кнопку жать, для прибора всё «правильно» будет.
Коля про это узнал. И ещё он узнал, где в приборе этот фотоэлемент расположен, умудрился безо всяких инструментов стенку корпуса отжать, но пальцем закрывать оптику было и неудобно и заметно, поэтому Коля её пластилином залепил. Только вот отодрать не смог – слишком крепко приклеился. Но зато Лёня тоже «пять» по немецкому получил!
Пересдача
Староста нашей группы Коля Киряев – человек уникальный! Большего хитреца и проходимца не рождалось на Земле, по крайней мере, во второй половине двадцатого века. Коля мог на хромой козе объехать любого, за счёт чего он и избегал неминуемого отчисления за хроническую неуспеваемость.
А все предпосылки для отчисления из института у Коли имелись – он был глуп, и был злостным прогульщиком. Каждый из этих факторов в одиночку не фатален. Но вместе они – гарантировали стопроцентное отчисление. Спасали Колю хитрость и изворотливость. Даже по внешнему виду можно было уверенно сказать, Коля – плут. Растрёпанная шевелюра и постоянно бегающие, в поисках возможности как-нибудь проскочить, глаза – выдавали. Да Коля и не скрывал этого. Плутом он был искренним и убеждённым.
На каждой сессии Коля схватывал по паре двоек. Иногда и три. Три за сессию – это отчисление. Но Коля успевал всегда пересдать вторую до того, как получит третью. И проскакивал. К страшному разочарованию нашего начальника курса Николая Викторовича, который ненавидел Колю всеми фибрами души бывшего отличника, и мечтал от него избавиться, но по формальным признакам сделать ничего не мог – не хватало одной двойки!
Мечта его сбылась на весенней сессии второго курса. Коля отгрёб три двойки. Пересдать ни одну из них он не успел. Значит – отчисление.
Коля пришёл в деканат, где перед солидной дверью в кабинет декана был предбанник, где стояли пять столов начальников курсов с первого по пятый. Николай Викторович важно восседал за столом. Экзаменационные ведомости уже пришли, и начкурса прекрасно знал про три Колины двойки. Он был так счастлив, что Коля попался, что решил продемонстрировать даже как бы сочувствие к Николаю.
– Ну, что, Коля! – начал он с мнимым, но демонстративным сочувствием. – Третья двойка!
– Да, Николай Викторович! – понуро и печально протянул староста. Об отношении к нему начкурса он прекрасно знал. – Придётся мне пойти на производство…
– Ну, Коля, ты не расстраивайся! – сладко пропел начкурса, немного даже размякший и подобревший от возможности наконец-то пнуть Коле под зад. – Ты, Коля, годик сходи поработай, подтянешь знания, и приходи к нам – мы тебя восстановим!
Начальник курса откровенно врал, при этом ничем не рискуя – вряд ли Коля за год повысит уровень скромных своих познаний настолько, чтобы восстановиться. Но, даже если он и чудом вернётся в альма-матер, откуда его сейчас изгоняет как шелудивого кота начальник курса, к тому уж он точно не попадёт, поскольку учиться сможет только с потерей курса – то есть с ним будет маяться другой куратор.
– Да, Николай Викторович, Вы правы, поработаю год, позанимаюсь и вернусь, спасибо Вам большое!
– Возвращайся, Коля, возвращайся! Ты парень энергичный, всё в твоих руках! – радостно заключил начкурса. – А теперь иди, мне тут поработать надо.
И Коля, понурясь, в глубочайшем, как могло показаться не слишком проницательному глазу, трауре, открыл дверь деканата и вышел в коридор. А Николай Викторович разложил на столе бумаги и принялся готовить документы на отчисление Коли. Душа у него тихо пела.
А Коля, выйдя из деканата, ушёл совсем недалеко – на противоположную сторону коридора, где прямо напротив деканата был мужской туалет, где Коля и спрятался, и стал через щелку в двери следить за выходящими из деканата.
А время между тем подходило к обеду. И вскоре Коля увидел, как из деканата вышел начкурса и двинулся по коридору. Коля осторожно проследил за ним и, убедившись, что он встал в очередь в институтской столовой, метнулся в деканат. Пробежав через комнату кураторов, он решительно постучал в солидную дубовую дверь с медной табличкой «Декан факультета профессор Ю. П. Клишин».
Не дожидаясь ответа, Коля решительно вошёл в кабинет. Декан – большой учёный и крупный представительный мужчина, сидел за огромным столом, работал с документами. Он медленно поднял благородную голову и взглянул на Колю. Коля был всё-таки старостой группы, а не обычным студентом, поэтому декан знал его лично.
– Чего тебе, Николай? – с доброй снисходительностью крупный учёный спросил студента-второкурсника.
– Юрий Петрович! – быстро и жалобно заговорил Коля. – Я на пересдачу договорился, начальник курса допуск обещал дать, но он куда-то ушёл, а преподаватель на кафедре ждёт, уйдёт скоро, не знаю, что мне делать! – Коля подпустил в голосе слезу.
– Какие проблемы, Коля, я сейчас допуск выпишу! – и декан, взяв бланк, заполнил его, и протянул Коле. – Удачи! – и погрузился в свои бумаги.
Декан, как высший руководитель факультета, имел право выдать студенту такую мелочь, как допуск.
Проблема была в том, что никто Колю на кафедре с этим допуском не ждал. Но надо было знать Колю. Он с бумажкой декана прибежал на кафедру и, сетуя на тяжёлую судьбу и ссылаясь на пролетарское происхождение – он набирался с рабфака – то есть по направлению с производства, чудом уговорил какого-то сердобольного преподавателя авансом поставить ему тройку.
Всё это заняло у Коли меньше времени, чем у Николая Викторовича – отстоять очередь и не спеша съесть биточки с картофельным пюре. Когда он, вытирая салфеткой уголки губ, подходил к деканату, у двери его уже ждал Коля с листочком в руке.
– Ты что здесь, Киряев? – удивлённо спросил начкурса.
– Допуск принёс! – скромно произнёс Коля.
– Какой допуск?
– Вот, экзамен сдал! – и Коля протянул куратору листок.
Начкурса рукой, которая начинала дрожать, схватил листок и начал читать скачущие по нему буквы.
– «Удовлетворительно», – прочел он и завопил. – Кто тебе допуск дал?
– Декан! – очень спокойно ответил староста.
Точно, на листочке стояла размашистая подпись декана.
Начкурса развернулся и кинулся с листочком в кабинет декана, забыв даже затворить дверь. Произошёл короткий диалог.
– Юрий Петрович, Вы Киряеву допуск дали?
– Дал.
– Да он же…
– А что такое, Николай, ты обещал ему допуск, он прибегает, крыльями хлопает, ты куда-то ушёл, ну я ему дал, в чём проблема?
– Проблема в том, что…, – начальник курса не договорил и горестно вышел из деканата.
Слова копились и кипели в нём. Он хотел сказать, крикнуть: «Проблема в том, что студент этот нас с Вами, Юрий Петрович, провёл как лохов последних!»
Но не мог же он сказать этого декану.
Колю отчислить было уже невозможно. Только два хвоста у него осталось. И начкурса, скрипя зубами от злости, выписывал ему допуски на пересдачу. И Коля институт кое-как закончил. И это хорошо. Специалисты разные нужны в народном хозяйстве.
Экзамен
На весенней сессии второго курса я поздно сдал зачёты, поэтому отбился от группы, и первый экзамен должен был сдавать один.
Ну один, так один. Не проблема. Предмет – теоретическая механика. Пошёл я в деканат, получил у начальника курса допуск на экзамен – маленький листок со своей фамилией и предметом, который мне сдавать следует. Осведомился, в какой аудитории этот экзамен сейчас принимают у другой группы. Аудитория Б-213. Пошёл туда. В коридоре перед аудиторией пусто. Наверное, ближе к концу экзамена пришёл, решил я. Постучал и вошёл.
Сидит группа, готовится. За столом довольно молодой симпатичный экзаменатор. Лицо его мне совершенно незнакомо, что странно, конечно, но бывает. Там у них на кафедре доцентов – как собак нерезаных. Где уж всех знать. А этот, видно, у нас ни лекции, ни семинаров не вёл. По крайней мере, тех, на которые я заходил. А заходил я нечасто, честно сказать.
– Подходите, пожалуйста, берите билет! – учтиво предложил доцент.
Подошёл, вручил зачётку, которую доцент аккуратно пристроил в конце ряда таких же синих книжек.
Взял билет, продиктовал номер. Преподаватель аккуратно записал его в ведомость и выдал мне чистый лист бумаги. Свою приносить было запрещено. Чтоб не списывали.
Ну-ну. Надейтесь. У меня два кармана шпаргалок нашего старосты Коли Кирьянова! Прорвёмся.
Сажусь за парту, смотрю в вопросы. Ничего не понимаю. Даже слова какие-то непонятные. А что они все вместе значат – полный туман… Не очень хорошее начало. Смысл вопроса желательно представлять всё-таки… Но есть же шпаргалки. Аккуратно достаю под партой первую – там, где оглавление. И читаю от начала и до конца. Полный провал! Ни первого вопроса, ни второго в Колиных шпаргалках нет. Нет даже ничего похожего. А в билете ещё и задача. Не задача, а какая-то абракадабра – ничего непонятно. Чушь какая-то написана! Кто только такие задачки выдумывает!
Клини какой-то. Сижу и не знаю, как мне к ответу на первый вопрос приступить. И мысли мне в голову стали приходить: «Надо, – думаю, – всё же на лекции иногда ходить, семинары тоже изредка посещать. А то вот ведь до чего дошёл – даже тему вопроса понять не можешь, шпаргалку нужную подобрать! Нет, надо, надо посещать занятия! Так дальше жить нельзя!»
А время идёт. Листок пустой, и мысли какие-то непродуктивные. Самому противно!
Преподаватель тем временем, заскучав, начал перебирать зачётки на столе. И вдруг спрашивает:
– А кто Владимиров?
– Это я!
– А что Вы здесь делаете?
«Ну и спросил, издевается, что ли?» – подумал я и ответил:
– Готовлюсь экзамен сдавать.
– А Вы, с какого курса, что сдаёте? – осведомляется учтиво доцент.
– Со второго. Теоретическую механику!
– А здесь пятый курс факультета автоматики и вычислительной техники сдаёт…
Тут я понял всё… Встал и с искренним возмущением произнёс:
– Что же Вы меня не предупредили! Я уже полчаса готовлюсь впустую!
– Извините, пожалуйста! Не посмотрел зачётку! – начал оправдываться растерявшийся доцент.
Я встал, прошёл к столу, взял зачётку и допуск, и гордо двинулся из аудитории. Студенты, в основном девушки, и симпатичные, мило улыбались мне вслед.
Шёл я и думал: «Попутает же нечистый, мысли какие появляются в голове – что и на лекции надо ходить, и прогуливать меньше… А просто не надо попадать на чужой экзамен. Особенно когда сдают студенты на три курса старше. И всё будет хорошо!»
Борода
На третьем курсе в институте нашем начались занятия по военной подготовке. Нам должны были вместе с дипломами офицерские звания присваивать. Всё серьёзно. Прежняя вольница в одежде и причёсках закончилась.
Довели строгие требования военной кафедры – аккуратный костюм, никаких маек-свитеров, головной убор и не шляпу, а кепку или берет и – основное, как в Уставе записано: «Военнослужащему разрешается ношение короткой аккуратной причёски». И, конечно, никаких бород-усов.
Занятие на кафедре началось со строевого смотра. Капитан Крылов – очень серьёзно относящийся к службе, невысокий полноватый офицер, построил нашу группу на асфальте стадиона на расстоянии двух метров друг от друга, и начал по очереди студентов обходить – форму – стрижку проверять. По форме претензий мало было. Пиджаки у всех нашлись. С головными уборами тоже терпимо. Какие-то кепки нашли почти все. Остальных простили до следующего раза. Основные претензии пошли по причёскам. Не хотели студенты стричь свои шевелюры так коротко, как Устав требовал. Летняя вольная жизнь сказывалась. Поэтому Крылов, обходя одного за другим будущих офицеров, каждому второму-третьему бросал коротко:
– Стричься! – и ряды редели, один за другим студенты немедленно отправлялись в парикмахерскую.
Наш комсорг Вова Бурдов по кличке «Центнер» – это даже не кличка была, а констатация факта, ибо весил Вовочка ровно сто кило, постарался, чтобы претензий к нему не могло быть. Он вообще очень правильный и старательный. Поэтому он курточку лягушачьего – почти как у настоящих военных, цвета, стройотрядовскую одел, у дедушки старый коричневый берет взял, и подстригся коротко-коротко, почти «под ноль».
И стоял он счастливый и довольный, и радостно улыбался, чувствуя, что товарищу капитану придраться совершенно не к чему.
Крылов постепенно приближался к Вовочке, и наконец, остановился перед ним. Вовочка вытянулся по стойке «Смирно». Его розовое личико выражало дисциплинированное счастье, как по Уставу положено.
Крылов очень внимательно вглядывался в Вовочку. Суровое лицо его совершенно не потеплело, даже напротив, показалось, что появилось на нём лёгкое недовольство.
Вовочкина улыбка постепенно стала сползать с лица. Капитан, внимательно разглядывая Вовочку, стал медленно обходить вокруг. И, когда он завершил обход, и оказался перед Вовочкой, лицо Вовочки стало тревожным, и цвет розово-поросячий сменился на красный.
Крылов ещё раз внимательно вгляделся в лик Вовочки. Было совершенно непонятно, к чему тут можно придраться? Может, Вовочка перестарался и капитан решил, что это уже не выполнение требований Устава, а издевательство над ним?
Капитан с очень строгим лицом ещё сделал круг возле «Центнера». Когда он снова встал перед ним, Вовочка был бордовее свеклы. Глаза его растерянно и горестно моргали.
Крылов медленно стал поднимать вверх руку, и ухватил что-то невидимое на Вовочкином подбородке, и с негодованием гаркнул:
– Это что у Вас такое? Борода? – и дёрнул руку вниз, выдёргивая невидимый волос.
– Я ещё вообще не бреюсь! – пролепетал Вовочка плачущим голосом.
– Выговор! – рявкнул капитан. – Устранить!
Мы пригляделись внимательнее – на розово-поросячьем личике Вовочки, покрытом лёгким пушком, на самом подбородке рос и курчавился единственный длинный волос.
С тех пор частенько шутили над Вовочкой. Кто-нибудь, подходя, подносил руку к его подбородку, и грозным голосом капитана Крылова спрашивал: «Это что у Вас такое? Борода!»
Денатурат
Летом после третьего курса нашего энергетического института, отправили нас на производственную практику. Чтобы студенты познали, что такое реальное производство и познакомились поближе с гегемоном – рабочим классом, которым многим из нас по окончании учёбы предстояло руководить.
Нашу группу распределили на Ховринскую ТЭЦ на северной окраине Москвы у кольцевой дороги. Электростанция эта была самой большой в городе, и нам предстояло участвовать в ремонте её крупногабаритного оборудования.
Чтобы ближе и теснее познакомиться с реальным пролетарским трудом, нас прикрепили по одному – по двое к рабочим бригадам. Бригады эти ремонтировали воздухонагреватели – огромные, с дом размером железные бочки, которые вращались редуктором размером с легковой автомобиль. Нам предстояло разобрать эти редукторы, заменить изношенные, натруженные огромные шестерни и подшипники. Слить несколько бочек черного отработанного масла и залить новое. И потом собрать это всё вновь. Делалось это с помощью гигантских ключей, ломов и грузоподъёмных механизмов, поскольку даже самые мелкие детали руками не поднять. Реальная работа. Понятная и нужная.
Приняли нас в рабочих бригадах очень хорошо. Во-первых, мы им реально помогали, не влезая при этом в их премию, да и просто отношения были вполне тёплые, человеческие, особенно к молодёжи – то есть к нам.
Рабочее пространство у нас было весьма некомфортное. Сверху над нами размещались те самые огромные воздухонагреватели, а слева и справа – работающее оборудование соседних энергоблоков, от которого шёл жар, который добавлял тепла и так уже жаркому лету. Всё это гремело и вибрировало огромной мощью. Наше рабочее пространство имело плюс в том, что там можно было стоять не сгибаясь. Но минус, что всё оно – и металлические полы и потолок, и железные корпуса оборудования вокруг – всё было покрыто толстым слоем чёрной копоти, обильно пропитанной машинным маслом.
Реальное производство, реальные условия труда. Узнать по-жизни полезно. Комбинезоны, ботинки и шлемы нам выдали, а руки и помыть можно.
В бригаду, которая трудилась рядом с нами, попал наш студент Андрюша Богданов. Рафинированный мальчик из хорошей семьи – типичен был учебный путь его – испанская спецшкола, уроки фортепиано, хороший институт. Очень высокий и худой, с длинными пальцами музыканта.
С утра и до полудня он в бригаде трудился, отворачивая с помощью гигантского ключа и трубы для усиления, огромные гайки. В 12 строго по часам – трудовая дисциплина была на высоте – наступил часовой перерыв на обед.
Расстелили прямо на крышке редуктора газеты и стали доставать, кто что принёс – большинство рабочих ездили из Подмосковья, и, чтобы сэкономить, привозили продукты с собой. На газету выложили яйца, огурцы, помидоры, колбасу, хлеб. У студента, который распорядок не знал, съестного с собой не было. Только книжечка стихов. И он хотел из деликатности тихо исчезнуть, и где-нибудь переждать обед. Увидев, что студент скромно уходит, огромный мужик – бригадир, тут же сказал:
– Эй, студент, давай к нам! Давай обедать!
Ребята подвинулись, освобождая для студента часть доски, служившей вместо скамьи, и он уселся за сооружённый из редуктора стол.
– Давай, студент, ешь! Давай, огурчики солёные, яйца! Наворачивай.
И Андрюша Богданов, вытерев руки о комбинезон, принялся наворачивать. Достали гранёные стаканы.
Бригадир полез в свою котомку и извлёк из неё бутыль с какой-то фиолетовой жидкостью.
– Так, студент, денатурат пьёшь?
Как человек интеллигентный Андрюша не мог отказать, представителю рабочего класса, проявив тем самым высокомерие. Поэтому Богданов, согласно кивнул:
– Пью!
На самом деле мама ему даже шампанское пить не разрешала, чтобы в плохую компанию не попал.
– Так, давай стакан! – и бригадир разлил всем членам бригады по стакану фиолетового напитка.
– Ну, будем живы! – и все заглотили этот эликсир, и, закусив огурчиком, закурили.
Для привычного организма это было «в самый раз». Но для Богданова полстакана спирта с добавлением ухудшителей вкуса и запаха были дозой запредельной, особенно с учётом его комплекции и жары, и он мгновенно вырубился.
Это было встречено бригадой с пониманием.
Бригадир лично уложил свой ватник в уголке подальше от грохочущего оборудования, и на него заботливо положили студента.
Обед закончился, бригада возобновила работу. Но, если кто-то ронял кувалду на металлический пол или начинал слишком громко материться, бригадир резко одёргивал.
– Тихо! Студент спит!
Денатурат влил Андрюшу в ряды рабочего класса.
Лебединое озеро и мочевой пузырь
На третьем курсе нам на всю группу перепали билеты на балет «Лебединое озеро» в Кремлёвский Дворец Съездов. По 60 копеек за билет. Счастье это нам привалило, потому что в нашей группе Т-3-73 училась Риточка, которая была профоргом курса, и боролась за наш культурный рост.
Это озеро с лебедями крутили тогда по телевизору по случаю каждой «безвременной кончины» очередного кремлёвского старца, значительно чаще, чем хотелось бы Кремлю. Поэтому особого интереса ни к лебедям, ни к озеру у нас не было.
Зато было горячее желание посетить банкетный зал Дворца Съездов – огромный буфет, занимавший весь верхний этаж Дворца. Там, несмотря, а может, и благодаря, надвигавшейся эпохе всеобщего продовольственного дефицита, можно было за не очень большие деньги отведать бутерброды с сервелатом и икрой, и выпить бутылочного доброго жигулёвского пива. Для дам предлагалось шампанское, чай и эклеры.
В предвкушении встречи с прекрасным мы, как настоящие театралы, пришли заранее и сразу поднялись в банкетный зал. Студенты на встречу с музой театра – Мельпоменой, пришли подготовленными. То есть не просто в костюмах – у кого они были – и в галстуках – кто их умел завязывать, а прихватив с собой накопленные деньги, чтобы приобщиться к искусству по-настоящему!
Трое наших одногруппников – спортсменов – Лёня, Михалыч и Скворец – были настроены особенно серьёзно, и их можно понять – двое занимались регби, а Скворец был мастером спорта по академической гребле, поэтому богатая белками пища была им особенно необходима. Пиво они тоже любили до чрезвычайности. Поэтому сорокаминутная «разминка» пивом и бутербродами, с явным предпочтением первого в ущерб второму, прошла у них интенсивно, весело и шумно. К завершению её девушки из нашей группы – чисто из ложно понимаемой скромности – стали делать вид, что они незнакомы совершенно с этой компанией, и не вместе вовсе пришли. Однако по второму звонку вся компания дисциплинированно потянулась в зал – пришли ведь не чревоугодием заниматься, а для утоления жажды духовной.
Места оказались хорошие – четвёртый ряд партера, прямо посередине. Половину ряда наша группа и заняла. Одно плохо – ряд длиннющий, мы по центру, проходить пришлось, доставляя некоторое неудобство тем, кто уже занял места. Спортсменам с их крупными габаритами было особенно трудно протиснуться, но они учтиво извинялись за каждую отдавленную ногу.
Свет медленно погас, заиграла увертюра. Полумрак, уютное тепло и классическая музыка в великолепном исполнении оркестра Большого театра способствовали, и через несколько минут здоровые организмы спортсменов погрузились в сон.
Спали они в основном тихо, уважая музу и не мешая другим наслаждаться встречей с прекрасным. Лишь иногда Скворец начинал громко всхрапывать, но его можно понять – объём лёгких у мастера гребли – восемь литров. Как тут не всхрапнуть! Но рядом сидел комсорг группы Толя, который, как представитель руководящей и направляющей силы, был и в пиджаке и при галстуке, и даже не пил в буфете. Он попихивал Скворца в бок, и тот затихал.
Но к середине первого акта натура организма взяла своё, и Скворец проснулся. Причина была в особенностях его мочевого пузыря. Тот его часто подводил. Скворец был огромным высоким красавцем с румянцем во всю щёку, «кровь с молоком». И пива выпить мог немеряно. Но уже после второй кружки пузырь заставлял его часто бегать в туалет, а в переполненных пивбарах с одним туалетом на всех это было серьёзной проблемой. Но уважение к нему, как к серьёзному потребителю пенного напитка это не умаляло. Что поделаешь, если такая физиологическая особенность у человека!
Скворец глянул с интересом на сцену, где в красивых декорациях порхали легконогие дамы, и встал во весь свой немалый рост. Посмотрел влево – вправо и, решив, что вправо идти ближе, двинулся вправо. В темноте и тесноте невозможно идти, не наступая на ноги поклонникам балета, и первым, на кого он наступил, был тихо и мирно спавший Михалыч. Сон его был очень чуток и он немедленно проснулся.
Во мраке Михалыч не увидел ничего, кроме огромной фигуры Скворца, загородившего сцену с лебедями, и Михалыч, изумившись столь странному поведению своего друга, громко спросил:
– Скворец, ты куда?
На что Скворец с предельной честностью ответил могучим басом:
– Поссать пошёл! – и пошёл дальше по ряду.
А Михалыча такой ответ вполне удовлетворил, и он мгновенно погрузился в здоровый спокойный сон. Зрители загудели осуждающе.
Минут через десять Скворец вернулся, невозмутимо прошёл по возмущённо шикающему ряду, опять наступил на Михалыча, но тот уже из деликатности не издал ни звука.
А вскоре накатил антракт. Было скучновато – денег на буфет уже не было. Пришлось сидеть в зале и ждать, когда из буфета вернутся ценители балета.
Второй акт оказался веселее первого. Из-за танца маленьких лебедей. «Лебедей», а точнее молоденьких балерин было трое. Слева и справа – вполне стройненькие, как и положено быть балеринам. Средняя была очаровательной пышечкой. В балетной школе она явно не была отличницей, и за своими шустренькими партнёршами не успевала.
Из приличия солидная публика сдерживала смех, но живая музыка разбудила Михалыча и Скворца, и пухленький лебедь был ими замечен и вызвал весёлый и громкий смех, что совсем сбило птичку с ритма. Танец был, к сожалению, недолгим, но весёлым. Вечер общения с прекрасным удался!
Термодинамика
В эту важнейшую для нашей специальности науку я погрузился недостаточно глубоко. Но, имея надёжную подстраховку в виде шпаргалок, написанных каллиграфическим почерком нашим старостой Колей Киряевым, чувствовал себя перед экзаменом уверенно.
Коля, будучи не обременен ни талантом, ни трудолюбием, держался в институте благодаря шпаргалкам. Колины шпаргалки – это шедевр! Он писал их с лекций наших отличниц, очень подробно, во всех деталях. По ним можно было без редактуры издать учебник по курсу лекций каждого предмета. Там были и порядок и структура. Первая шпаргалка – оглавление – каталог, и далее – маленькие сложенные гармошкой бисерным почерком листочки, всё пронумеровано по темам, билетам, вопросам.
Я шпаргалок не писал принципиально. Зачем мне их писать, когда Коля мне свои всегда отдавал? У нас была договорённость – Коля шёл на экзамен в первый заход, я же приходил попозже и ждал Колю. Он выходил из аудитории, и «заряжал» меня шпаргалками. Объём их всегда такой, что в один карман не помещались. Коля мне их отдавал согласно порядку вопросов, и я их распределял – первые номера – левый карман пиджака, далее – правый, иногда и брючные карманы в том же порядке задействовал. И бодро входил в экзаменационную аудиторию.
Термодинамику мы сдавали на третьем курсе, когда уже спец предметы пошли. Предмет был сложный, но не слишком заумный. С помощью Колиных маленьких помощников вполне сдаваемый.
Всё шло как обычно. Коля вышел из аудитории, получив свои законные три балла – на большее он никогда и не претендовал, и я зарядил пиджак его «документацией». Хватило двух карманов. Подхожу к экзаменатору. Принимал экзамен доцент Попов. Он у нас и лекции и семинары вёл. С большим чувством юмора человек. Я, правда, не всегда у него на занятиях присутствовал, но в лицо его хорошо знал. Попов с улыбкой предложил взять билет, что я с улыбкой и сделал. Сообщил экзаменатору номер билета и сел готовиться. То есть доставать нужные шпаргалки.
Так, вопрос первый – прочитал тему вопроса и полез в первую шпаргалку – оглавление. Там указано – стр. 54—55. Это уже в правом кармане. Достал стопку листочков. Страница 55 есть, но нет страницы 54. Это значит, что того, что следует доказать – нет, зато хвост доказательства присутствует полностью. Не понятно только, как этот хвост к голове присобачить!
Ладно, страницу 55 – в работу, остальную стопку шпаргалок – в карман. Переходим ко второму вопросу. В оглавлении указаны шпаргалки №12—13. Левый карман. Листаю. Шпаргалка номер 12 есть, а тринадцатой – несчастливой – нет конечно же! Совсем плохо. С чего начинали – понятно, а чем закончили и закончили ли вообще – нет ответа!
Хренова-то. Гарантированно два балла маячит. Может, перепутан порядок шпаргалок? Достал полный комплект, всё проверил. Что за чёрт – все шпаргалки – кроме двух необходимых – на месте. Моих нет. У Коли ошибок не бывает. Я понял, что Коля кому-то ещё помогал и шпаргалки номер 13 и 54 отдал, а обратно вернуть не смогли, они сейчас у кого-то в карманах лежат, а как их достать? Не спрашивать же у всех. Может, их уже и в аудитории нет?
Ну, раз уж пришёл, надо побороться, хотя шансов никаких. Переписал на лист свой всё, что у меня в наличии было – первый вопрос без конца, а второй – без начала. В билете ещё задачка была. Может, она выручит?
Не выручила. Я её и так, и так пытался решить, формулы разные использовал, только ответа не смог получить.
Тут доцент Попов меня вызывает – пора отвечать. Ладно, думаю, в любом случае гарантированные два балла, но не уходить же, не простившись, иду к столу экзаменатора, кладу свой листок. Попов с добрейшей улыбкой смотрит на мой листок и ждёт комментариев.
– Первый вопрос! – бодро начинаю я. – Начало теоремы я несколько подзабыл, но в итоге мы доказали, что…, – и я бодро протарабанил, чем заканчивается теорема.
– Да, это сложный, очень сложный вопрос! – покачал головой доцент. – Но в конце вы ничего, разобрались!
«Издевается», – подумал я.
– Переходите ко второму.
– Второй вопрос. Начальные условия таковы…, – и я бодро продекламировал текст на пол страницы, завершив его так, – а здесь, в отличие от первого вопроса, я забыл, что мы в итоге доказали!
– Это тоже очень непростой вопрос! Но исходный посыл у Вас правильный! В конце, конечно, не очень, но там сложно. Можно, конечно, забыть. Давайте перейдём к задаче!
Я, конечно, удивился в душе, почему доцент тянет, пару заслуженную не ставит, но – не спрашивать же у него!
Тут Попов обошёлся уже без моих комментариев. Просмотрев начертанные мной формулы, он задумчиво произнёс:
– Начали Вы решать совершенно правильно. Почему же не закончили? Ответа-то нет!
– Не успел! Времени не хватило! – нагло соврал я.
– Да! – повторил доцент. – Но начало – правильное, обидно!
«Ну всё! – понял я. – Время истекло. Пора мне получить свою законную пару – и свободен, как вода в унитазе!»
Доцент медленно извлекает мою синюю зачётку из ряда лежащих перед ним. Двойка в зачётку не ставится, просто возвращают незаполненную. Я протягиваю руку, чтобы забрать её. Но Попов начинает что-то писать в графу.
«Не может быть! – проносится в голове. – Три балла! За что?»
Закончив аккуратно заполнять зачётку, доцент закрывает её и отдаёт мне. Я учтиво благодарю и выхожу в коридор.
И только там открываю и вижу «Хорошо»! Четыре балла!
Что хорошо? Жизнь хороша…
Пыжик
Студенты – народ беспечный и бескорыстный. Почти все. Но не без исключений. Если студент оказывается жлобом, то и остальные черты характера у него сильно повреждены обычно. Такой студент есть в каждой группе. У нас таких было даже два – Серёжа Пустосток и Анас Шалаев.
Серёжино гнилое нутро было видно сразу, он его особо и не скрывал. Всегда вылезал за счёт других, мог и своих заложить в деканат. Ему сразу дали прозвище «Дерьмасток» и вокруг образовался вакуум общения. Он пытался затесаться в нашу компанию, но быстро «забил» на это навсегда. Он был хотя и говно, но не дурак. Вторым жлобом был Анас Шалаев. Поступил он в МЭИ из какого-то села. Был мелким, большеголовым и по-сельски смекалистым мужичком с хитрым «ленинским» прищуром. Анас вёл себя предельно дружелюбно, даже заискивающе, улыбался, заглядывал в глаза и всё время вынюхивал, какой можно извлечь личный гешефт. Был он редким скопидомом, и не прочь был и на своих ребятах сделать бизнес. Однако на свадьбу Шихмамед его всё-таки пригласил.
Шихмамед – студент из Бакинского института, которого за отличную учёбу перевели в Московский Энергетический. Он был хорошим и очень добрым парнем. В первый год ему трудно приходилось – русского языка он почти не знал. И, когда его по-доброму поливали на великом и могучем, он ответить не мог, и только повизгивал от досады. Через год уже прекрасно изъяснялся на русском, в том числе матерном – он умным был и быстро учился.
Анаса Шихмамед тоже не уважал, но не пригласить на свадьбу не мог – они в одной комнате в общаге жили. Пригласил Шихмамед и ещё четверых из нашей группы, и в середине июля мы полетели в Баку, чтобы дальше пересесть на древнюю электричку, и проехать ещё сто километров на юг, где в Мингечаурской пустыне находился полустаночек – село Кызылбурун, где и жил Шихмамед.
Жарким был тот июль в Москве. Но это было сущей ерундой по сравнению с жарой, которой нас встретил солнечный Азербайджан. Небо там было не синим, как в средней полосе России, где возлежит Москва, а фиолетовым от жары. Когда открылась дверь нашего поюзанного ТУ-134, и я шагнул на раскаленный трап – попал в печь. Выходившие из самолёта сначала делали шаг назад, и лишь потом заставляли себя выйти в пекло, под палящее солнце.
43 градуса в тени, которая там вообще в природе существует. Мы – пятеро студентов – Лёня, Миша, Серёжа, Анас и я, решили всё-таки осмотреть Баку – мы ведь в путешествие поехали, а туристам положено осматривать достопримечательности.
Отправились в город. Баку на Москву непохож совершенно, но было и родное и привычное – огромные плакаты на улицах с портретами «Дорогого Леонида Ильича Брежнева» и с цитатами из его произведений на азербайджанском. Непонятно, но однако родное. Слава КПСС всё-таки!
Прошли мы Старым Городом, где «Бриллиантовую руку» снимали. Так же ветхо и убого, как в кино.
Ещё предстояло осмотреть местную достопримечательность – Приморский Парк. Полное отсутствие зелени и стойкий запах гниющей в море нефтяной плёнки.
Запомнился местный туалет типа «сортир» – бетонная коробка внушительных размеров, внутреннее пространство которой было до порога заполнено жижей, которая на жаре пузырилась, пенилась и здорово воняла. Она уже не помещалась внутри этого бассейна, широким потоком переливалась через порог и текла речушкой по серым дорожкам парка, быстро пересыхая под палящим солнцем.
Джентльмены, в силу неодолимой естественной потребности желающие воспользоваться этим сантехническим сооружением, войти в него не могли, и наполняли этот бассейн прямо через порог, соблюдая по возможности приличия.
Вернулись в город. Пока мы по раскаленным улицам передвигались, Анас в пару магазинов забежал, и тут же стал у нас в долг просить, рублей по десять у каждого, то есть примерно половину нашего бюджета. Мы не особо заморачивались, на что ему нужно Анас сообщил, что через два дня ему вышлют из дома и он вернёт.
Собрал он наши денежки, уговорил подождать минут пять – это на солнцепёке-то! – и убежал. Вернулся с большим узлом чего-то мягкого и белого, и очень довольный.
– Постельное бельё купил! – заявил он. – Здесь оно дешевле! Домой отправлю! Там его продадут и деньги вернут!
Мы его чуть не заставили одну из купленных простынь сожрать. Так нагло вложить необходимые в путешествии деньги в свой мелкий гешефт!
Теперь у нас оставалось меньше, чем по десятке на нос на десять дней путешествия.
Что поделаешь, теперь вместо желанной поездки в Ленкоранский заповедник придётся ограничиться пешими прогулками по пустынной местности вокруг Кызылбуруна. Одна из этих прогулок чуть не стоила нам с Лёней жизни. Но Анас тут был ни при чём, мы сами организовали эту рискованную авантюру.
Трёх часов экскурсии по Баку нам вполне хватило, и мы двинулись на вокзал, где сели в древнюю электричку. Сделали её ещё, наверное, при царском режиме – вагоны из фанеры, лавки дощатые, двери или отсутствуют или открываются вручную. Это чудо техники медленно ехало по рыжей раскалённой пустыне, где кое-где стояли вышки и поблёскивали чёрные нефтяные лужи.
Ехал долго – часа три, пока поезд не остановился прямо посреди пустыни. Кызылбурун в километре. Большое село, в паре километров за ним – цепь невысоких гор. Это вулканы. Но не обычные, а грязевые. На вершинах их кратеры, в которых кипит озеро сернистой грязи, и поднимается удушливый пар. При извержении эта грязь потоками устремляется вниз и останавливается это варево далеко от подножия вулкана, уничтожая всё живое. Год назад в этом потоке чуть не погибла маленькая деревушка недалеко от Кызылбуруна. Жители бросили дома и ушли. Остались змеи и мыши.
Гостеприимство в Кызылбурун исключительное. Тем более, что в селе все были родственниками или друзьями. В любой дом, куда мы заходили попросить воды – а пить воду можно было только из холодильников – другая была слишком тёплой, нас усаживали за стол в тени винограда, и тут же забивали барашка, и начинали его разделывать. После этого уйти, не поев шашлыка, приготовленного специально для дорогих гостей, было совершенно невозможно.
И ещё очень популярно в местной кухне было блюдо из молока – что-то среднее между творогом и кефиром, обильно приправленное зеленью. Еда обильная, но непривычная для студенческих желудков. Анасу, который всегда любил халяву, и отжирался про запас, она оказалась совсем не на пользу. Через пару дней он уже не отходил от дома дальше сотни метров, иначе рисковал не добежать до стоявшего во дворе деревянного сортира, где вместо туалетной бумаги были журналы «Коммунист Азербайджана» на местном языке. Отец Шихмамеда, директор совхоза, был коммунистом по должности, хотя и традиции ислама соблюдал, и партийную прессу обязан был выписывать. Партийная литература не пропадала, использовалась по назначению.
Анас проявил необычайную способность к изучению иностранных языков. Через два дня он, сидя в сортире, который был не слишком далеко от увитой виноградом беседки, где мы, спасаясь от жары, пили из маленьких стаканчиков чай, громко вопрошал:
– А вы знаете, как будет «Пролетарии всех стран соединяйтесь?», – и произносил эту цитату на чистом азербайджанском.
И очень скоро он зачитывал нам целые статьи из «Коммуниста». Жаль только, что его полиглотство было лишь партийно-пропагандистским. Нас и в институте достали научный коммунизм и история ленинской партии.
Поскольку мы приехали путешествовать, мы и путешествовали, насколько было возможно по жаре. Ездили на поезде на «пляж». Так называлась здесь полоса серой каменистой земли, с редкими сухими растениями, примыкающая к морской глади, покрытой радужной нефтяной плёнкой, которая на жаре разлагалась и изрядно пахла. Азербайджан в СССР был не здравницей, а бензоколонкой. В воду заходить желания не возникало, зато немноголюдно, не Сочи.
Ещё мы ходили к подножиям грязевых вулканов или на речку – вернее, то, что так называлось – это был маленький ручей, из которого воду брали, чтобы бахчи поливать. Даже решили по бахчам прогуляться за дынями, но увидели возле ручья немалых размеров скелеты змей, и решили, что лучше не надо. В этой местности разводили гюрзу для медицинских целей.
Не сказать, что очень уж интересные путешествия, но Анасу и того тоскливей было – он несколько дней вообще дома сидел, боясь отходить от любимого отхожего места. И очень он удивил нас, когда однажды утром бодро объявил, что тоже с нами в поход пойдёт.
– Анас, ты не забудь сортир с сбой прихватить! – деликатно напомнил ему Михалыч.
– А, нормально! – весело махнул рукой Анас. – Мне уже можно!
И он бодренько зашагал с нами. Был он чрезвычайно весел и говорлив. Рассказывал анекдоты, которые, правда, смешили только его, видами окрестных гор любовался. Но постепенно он становился всё более молчалив и сосредоточен, как будто вглядывался внимательно внутрь самого себя. Вернее – внутрь своего организма.
– Пошли обратно! – начал канючить он.
– Анас, не хочешь идти – вали назад! – урезонил его Михалыч. – Мы тебя не заставляли.
– А чего тут смотреть! – заныл снова Анас. – Жарко!
– Всем жарко!
Идти один он не захотел и поплёлся с нами. Шёл он всё медленнее, как будто что-то ему мешало. И походка у него какая-то странная стала – колченогая. Он шёл, широко расставляя ноги и с выражением муки на лице.
Мы дошли до грязевого вулкана. Посмотрели на небольшое озеро, булькающее кипящей грязью, вдохнули сернистый воздух и повернули обратно. Теперь Анас пошёл совсем медленно, да ещё и шёл разводя руками ягодицы и постанывая.
– Ты часом не обосрался? – участливо спросил Михалыч.
– Пыжик! – простонал Анас.
– Какой пыжик?
– Из «Коммуниста Азербайджана». Я его скрутил и вставил, а то из меня текло. Сначала хорошо было, а потом он мне всё натёр. Болит страшно. Бумага грубая.
– Отойди от меня подальше! – заявил ему Михалыч. – Я с тобой рядом не пойду – вдруг из тебя пыжик вылетит, и ты всех обрызжешь!
Так Анас и ковылял за нами, мучаясь жарой и пыжиком. Но сочувствия не вызывал. Не будь жлобом! Больше он в походы не ходил.
Научный коммунизм
Что коммунизм – это наука, и крутая наука, я понял. Потому что это – сложно, очень сложно, и, сколько ни учи, всё равно непонятно, что из этого, когда и у кого получится. А всё-таки жаль, что коммунизм к 1980 году не построили, а ведь обещали! Сам Хрущёв лично!
Каждый инженер должен знать, как коммунизм строится. Для чего это техническому спецу, совершенно непонятно – турбины ведь и без теории о научном коммунизме вращаются, ток по проводам течёт, и газы при нагревании расширяются. Однако – учили мы его в родном нашем Московском Энергетическом. И не только учили, но и экзамены сдавали. И последний – самый крутой экзамен – уже после защиты диплома у нас был – Научный Коммунизм!
