Суворов – от победы к победе бесплатное чтение
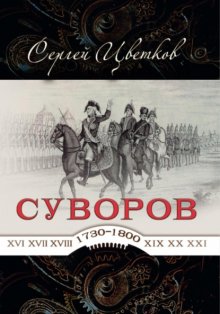
Молодые годы (1729/1730—1756)
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Д. В. Давыдов
Поздним вечером 18 января 1730 года Лефортов дворец по обыкновению светился огнями, но в нем было тихо, не радостно. Император Петр II, внук великого преобразователя, умирал от оспы на пятнадцатом году жизни. В больших гулких комнатах вполголоса переговаривались придворные, сенаторы, генералы, из залы в залу бесшумно скользили вышколенные лакеи.
Врачи и священники уже выполнили свой тягостный долг: первые – отняв надежду у окружающих, вторые – подарив ее умирающему. В ту же ночь Петр II скончался. С его смертью пресеклась мужская линия дома Романовых, царствовавшая 118 лет.
Сейчас же в соседней зале собрался Верховный тайный совет, взяв на себя почин в деле замещения престола. В него входили двое князей Долгоруких, канцлер Головкин, князь Дмитрий Голицын и граф Остерман. Нашли так же нужным пригласить еще двоих Долгоруких и брата Д. Голицына. Совещание проходило бурно, «с немалыми разгласиями». Престол остался без законных наследников и без ясного закона о престолонаследии. Заявление князя Алексея Долгорукова о праве его дочери на престол (княжна Екатерина была помолвлена с покойным императором) и чье-то предложение о царице-бабке были отклонены как «непристойные». Одного за другим отвергли и дочь Петра I Елизавету, и герцога голштинского, мать которого была старшей сестрой Елизаветы (их черед придет много позднее), и других членов царствующего дома. К каждой кандидатуре подходили с пристрастием, стремились не допустить усиления соперничавших домов. Недавно пришедшее известие о смерти в далеком Березове опального Меншикова лишний раз напомнило всем о судьбе свергнутых фаворитов. Конец спорам, грозящим свести совещание к боярской склоке, положил шестидесятилетний князь Д. Голицын – единственный из присутствующих преследовавший здесь собственно политические цели. Возвысив голос, он предложил остановиться на вдовствующей герцогине курляндской Анне, второй дочери царя Ивана, государыне, по словам Голицына, умной и сердечной, которой в Курляндии все довольны.
– Так, так! Нечего больше рассуждать, выбираем Анну, – зашумели верховники, смертельно уставшие от династических экскурсов. Зевая, они начали подниматься со своих мест, но следующая фраза Голицына заставила их снова опуститься в кресла.
– Воля ваша, кого изволите, только надобно и себе полегчить.
– Как это себе полегчить? – спросил Головкин.
– А так полегчить, чтоб воли себе прибавить, – ответил Голицын.
Боярские дрязги кончились, начиналась политика.
Голицын пояснил, что следует послать ее величеству пункты, которые обязали бы Анну, в благодарность за предложенный престол, в брак не вступать, преемника себе не назначать и править согласно с Верховным тайным советом «в восьми персонах». Предложение Голицына, возвращавшее Россию чуть ли не ко временам «семибоярщины», было сделано всего пять лет спустя после смерти Петра Великого!
Пункты были составлены и под строжайшим секретом посланы в Митаву вместе с письмом, извещавшим Анну об избрании ее императрицей. Анна на все условия легко согласилась и тотчас выехала в Москву, затребовав десять тысяч рублей на подъем.
В Москве тем временем зрел второй заговор. По труднообъяснимому в его положении и возрасте демократизму, почерпнутому, вероятно, частью из западноевропейских политических теорий, частью из полузабытых отечественных преданий о Земских соборах, Голицын желал, чтобы решение Верховного тайного совета непременно получило одобрение «всего отечества». Он полагал, видимо, что общество по своей природе больше склонно к республиканизму, чем к деспотии – заблуждение, не изжитое, впрочем, и в наши дни. Возможно, однако, и то, что Голицын слишком презирал это самое отечество, чтобы предполагать, что оно осмелится противиться воле могущественных верховников. Действительно, добиться согласия от Сената, Синода и генералитета было нетрудно. Но к несчастью для верховников, Москва в те дни оказалась наводнена провинциальным дворянством, съехавшимся в первопрестольную по случаю объявленной на 19 января свадьбы Петра II с Екатериной Долгорукой. В этой среде замысел Голицына был встречен глухим ропотом. Каким-то непостижимым инстинктом эти полуграмотные дворянчики учуяли, что верховники хотят «вместо одного толпу государей сочинить». По городу поползли недобрые слухи. Недовольство шляхты передалось и высшим военным и гражданским чинам, которые 2 февраля отказались до приезда государыни подписывать торжественно оглашенные верховниками пункты с собственноручной подписью императрицы: «По сему обещаю все без изъяна содержать. Анна». Общее настроение выразил одинокий сдавленный выкрик откуда-то из середины раззолоченной толпы:
– Не ведаю и весьма дивлюсь, отчего пришло на мысль государыне так писать?
«Отечество», к большому смущению Голицына, вопреки всем политическим теориям и преданиям явно склонялось к самодержавию.
Подъезжавшая к Москве Анна охотно присоединилась к заговору против самой себя. В подмосковном селе Всесвятском она озадачила верховников, самолично назначив себя подполковником Преображенского полка и капитаном кавалергардов. Раздача ею из собственных рук водки гвардейцам вызвало всеобщий верноподданнический восторг. Офицеры кричали, что скорее согласятся быть рабами одного монарха, чем многих.
Верховники старались не падать духом, еще надеясь на подпись Анны под пунктами. Но когда 25 февраля в присутствии восьмисот сенаторов, генералов и дворян ей поднесли прошение о пересмотре проектов Верховного тайного совета в сторону приведения формы государственного правления с желанием народа, Анна на глазах у изумленных верховников покорно склонилась перед волей «всего отечества» и тут же подписала бумагу. Вслед за тем в зале поднялся невероятный шум, в котором громче других слышались возгласы гвардейских офицеров, что они не хотят, чтобы государыне предписывали законы: «Она должна быть самодержицею, как были первые государи!» На уговоры Анны прекратить беспорядок они повалились перед ней на колени:
– Прикажите, и мы принесем к вашим ногам головы ваших злодеев!
Заключительный акт заговора против честного слова императрицы разыгрался после обеденного стола, к которому были приглашены и верховники. Дворянство подало Анне вторичную просьбу принять самодержавство, на этот раз со 150 подписями.
– Как? – вскинула брови императрица, простодушно удивленная упорным нежеланием принять ее жертву на алтарь отечества. – Разве эти пункты были составлены не по желанию всего народа?
– Нет! – единогласно прозвучало в ответ.
– Так ты обманул меня, князь Василий Лукич, – с укоризной сказала Анна Долгорукому и у всех на глазах разорвала подписанные ею в Митаве пункты. Офицеры кинулись целовать ей руки, а верховники стояли, не смея шелохнуться, иначе бы, по замечанию одного присутствовавшего при этой сцене иностранного посла, гвардия побросала их в окна.
Согласие формы государственного правления с волей «отечества» было восстановлено.
Подпоручик Преображенского полка Василий Иванович Суворов в этом, столь бурном проявлении чувств не участвовал. Напротив, в том же году подал в отставку. Сделал это не столько в силу каких-либо политических убеждений (хотя, кажется, начавшегося онемечения не одобрял, – несмотря на то, что род свой возводил к выходцам из Швеции, обосновавшимся в России чуть более века назад, считал себя природным русаком)1, сколько просто тяготясь по свойству характера воинской службой.
Василию Ивановичу было тогда двадцать пять лет. Его родителем был Иван Григорьевич Суворов, генеральный писарь Преображенского и Семеновского полков, а крестным отцом – сам Петр Великий, благоволивший генеральному писарю. После смерти Ивана Григорьевича царь принял на себя заботу о его семье. Недоросль Василий был определен для обучения инженерному делу и по достижении им шестнадцати лет «употреблен» в государственную службу – взят к царю денщиком и переводчиком потребных для государственных дел книг. Образование Василий Иванович, судя по всему, получил недурное – знал несколько языков и толстые волюмы2 по инженерному искусству перепахал с изрядным усердием: уже в девятнадцать лет по повелению Петра перевел на русский язык труд знаменитого Вобана3 «Прямой способ укрепления городов». Царь переводом остался доволен. Вообще, в царском денщике отмечали к чтению книг «охоту и любопытство», а его собеседники выносили убеждение, что он «довольно сведущ во многом и отменно любил науки». Проявил Василий Иванович на службе, так же, примерное послушание, исполнительность, честность, – все то, что Петр требовал и так часто не находил в своих подчиненных. Правда, на досуге подумывал о более покойном месте, где-нибудь по хозяйственной части, но перечить воле царя, конечно, не смел.
После смерти Петра он был определен сержантом в Преображенский полк, через два года произведен в прапорщики, затем в подпоручики. Скука вахт-парадов, бессмысленное времяпровождение в кутежах (помимо морального неприятия праздности, Василий Иванович был еще и скуповат) и нарождающиеся янычарские повадки его сослуживцев оказались еще более докучливыми, чем прежняя деятельность, – иногда лихорадочная, часто бессонная, но всегда исполненная тем высоким смыслом ответственности и жертвенности, который Петр умел вкладывать в свои начинания в зрелую пору жизни. Василий Иванович никогда не принадлежал не только к деятельным проводникам, но даже и к сколько-нибудь самостоятельно мыслящим сторонникам петровских преобразований – он был просто безотказным инструментам в руках царя, подобно еще тысячам таких же безотказных инструментов, обеспечившим петровским замыслам прижизненный успех – на полях сражений, в учебных классах, в канцеляриях, —однако и он не мог смотреть равнодушно, без грусти (негодовать было не в его характере) на разгром, учиненный делу Петра его диадохами4. Инженерные познания и административные способности Василия Ивановича остались без применения, и потому льготы, ослаблявшие обязательность военной службы, пришлись ко времени, позволив ему оставить полк. Знал, что удерживать не станут – вакансия в гвардии будет очень кстати чьей-нибудь курляндской родне.
Поселившись с семьей в своем московском доме на Большой Никитской (в то время Царицынской) улице, Василий Иванович всей душой отдался делу, к которому чувствовал подлинное пристрастие – хозяйственным заботам о фамильных поместьях. Имения были небольшие – 300 душ у самого Василия Ивановича, да у его жены, Евдокии Федосеевны, что-то около того, – но разбросанные по Московской, Орловской, Пензенской, Новгородской губерниям и потому требовавшие значительного внимания в присмотре. Василий Иванович сил не жалел: в два часа ночи был уже на ногах, за бумагами. Хозяйствовал умело, расчетливо, бережливо. Роскоши не любил, ходил в простой одежде, был прижимист, но приличия соблюдал и бедняком не прикидывался. Дела шли хорошо, вскоре Василий Иванович смог и прикупать имения. Начал с того, что дал гардемарину Скрябину 112 рублей под залог села Никольского, на год, и за неуплату в срок получил половину поместья, которую заложил уже за 1000 рублей и заплатил вовремя. Старался не для себя – для детей. Большим семейством Василий Иванович обременен не был, имел малолетнюю дочь Анну, и к осени жена должна была разрешиться вторым чадом. Василий Иванович желал, чтобы это был сын: было бы кому оставить дела. В домашние хлопоты, впрочем, особенно не вникал, вполне полагаясь на Евдокию Федосеевну.
О жене Василия Ивановича почти никаких сведений не сохранилось. Известно только то, что она была дочерью дьяка Поместного приказа Манукова, который во время празднования при петровском дворе знаменитой свадьбы князя-папы участвовал в потешной процессии в одежде польского пана и со скрипкой в руке. Позднее, став вице-президентом Вотчинной коллегии, Мануков занимался описью поместий Московской губернии и урочищ Ингерманландии. Это занятие, по-видимому, и позволило ему дать за дочерью солидное приданое в виде движимого и недвижимого имущества. Следы Евдокии Федосеевны полностью теряются в 1763 году, после рождения ею младшей дочери Марии.
13 ноября у Суворовых родился сын, названный при крещении Александром5. В святцах на этот день такого имени нет, и почему родители выбрали именно его – неизвестно.
Александру уделяли не слишком много внимания. Он не был ни любимцем, ни баловнем в семье. Несомненно, что он рано освободился из-под родительского влияния. Василий Иванович, всецело занятый обеспечением семьи, часто и подолгу отлучавшийся из дома, требовал от детей только примерного послушания, да и то, кажется, не слишком строго. Что же касается Евдокии Федосеевны, то ее роли в воспитании сына проследить и вовсе невозможно; во всяком случае, в объемистом эпистолярном наследии Александра Васильевича она не упомянута ни единым словом. Суворов, вообще, принадлежал к тем, может быть, несколько ущербным при кажущейся цельности натурам, в жизни которых женское влияние обнаружить так же невозможно, как увидеть след змеи на камне.
Трудно было предполагать в тщедушном, болезненном мальчике с голубыми глазами и жидким хохолком светлых волос независимость характера, граничащую с упрямством. Однако уже в десять-одиннадцать лет он приводил в отчаяние отца. Василий Иванович ни под каким видом не желал отдавать сына в военную службу, Александр же бредил войной.
Обнаружилось это однажды в ненастную осеннюю ночь. В детской хлопнула дверь. Мальчика хватились. Возле его еще не остывшей постели горела свеча и на подушке лежал том Плутарха, раскрытый на XVII главе жизнеописания Цезаря. Василий Иванович наклонился и прочитал отчеркнутое сыном место: «Любовь его к опасностям не вызывала удивления у тех, кто знал его честолюбие, но всех поражало, как он переносил лишения, которые, казалось превосходили его физические силы, ибо он был слабого телосложения, с белой и нежной кожей, страдал головными болями и падучей, первый припадок которой, как говорят, случился с ним в Кордубе. Однако он не использовал свою болезненность как предлог для изнеженной жизни, но, сделав средством исцеления военную службу, старался беспрестанными переходами, скудным питанием, постоянным пребыванием под открытым небом и лишениями победить свою слабость и укрепить свое тело». Василий Иванович бросился к дверям. На улице в кромешной тьме вперехлест лились холодные струи дождя. Крик Василия Ивановича потонул в шуме ливня и завываниях ветра.
Саша вернулся через полчаса, промокший, пронизанный ветром.
– Солдат должен привыкать ко всему,– твердил он в ответ на расспросы и угрозы наказания. Горячую ванну принимать ни за что не захотел, позволил только обсушить себя и растереть водкой.
Озорство продолжалось и дальше, —сначала во время отлучек Василия Ивановича, потом и в его присутствии. Саша лазил по деревьям, скакал на неоседланных лошадях, месил босыми ногами осеннюю грязь, купался в дождь и заморозки… Василий Иванович махнул на сына рукой, следил только, чтобы проказы не шли во вред наукам. Впрочем, опасение было излишним. Чтение книг Саша предпочитал всем остальным развлечениям. В компании сверстников он скучал; в отместку они наградили его обидной кличкой. Странная замкнутость при чрезвычайной живости темперамента выработала в нем привычку к уединению. Набегавшись, Саша уходил в свою комнату и проводил в ней весь день. Читал запоем, до рези в глазах. Отмечал на картах движения войск, вычерчивал планы сражений. Чужое величие было его величием, чужая слава – его славой. Это он, десятилетний Александр Суворов, громил левое крыло персов при Гавгамелах и обращал в бегство несметную армию Азии; это он, потеряв в ущельях Альп половину армии, врывался на равнину Италии во главе чернокожих наемников и уничтожал римские легионы у Канн; он давал «золотой мост» красавчикам Помпея, испугавшимся ударов меча в лицо; он крушил железные ребра ветеранов испанской пехоты при Рокруа; это на его израненном лице, с ресницами, сожженными порохом, светилась счастливая улыбка, когда после бессмысленно-героической обороны янычары выносили его из горящих Бендер6… Через сорок лет все это произойдет вновь с другим мальчишкой – на далекой Корсике. Люди всегда читают книги только про самих себя.
Саша еще не знал, что слава является последним разочарованием великих людей: безвестность представлялась ему худшим из земных уделов. Он не смел вслух попросить у Бога необыкновенной судьбы и бессмертной славы, он хранил эти желания в глубине души, где они пока что только сладко щекотали самолюбие, не раня и не оставляя мучительных язв. Маленький Суворов доверял жизни, он не думал, что ему придется вырывать славу из ее цепких рук.
В 1740 или 1741 году Василия Ивановича посетил Абрам Петрович Ганнибал, артиллерийский генерал, его прежний сослуживец и давний приятель. Любимец Петра, знаменитый «арап», при Меншикове он был сослан служить в Сибирь, а вернувшись оттуда, почти безвыездно жил в деревне, благоговейно храня воспоминания петровских дней. Василий Иванович не преминул в разговоре пожаловаться на странное поведение сына. Ганнибал заинтересовался маленьким нелюдимом. Он прошел в комнату Саши и застал его лежащим на полу с большой картой. Заглядывая в книгу, мальчик отмечал на ней движения войск Монтекукколи7 против шведов в кампанию 1646 года. Ганнибал подошел к книжной полке, провел ладонью по корешкам книг: Плутарх, «Жизнь Александра Македонского» Квинта Курция, записки Цезаря, Корнелий Непот, исторические фолианты Роллена, Фоларда… На столе лежали листы с начерченными планами сражения при Рокруа и Полтавской битвы. Последнее особенно тронуло Ганнибала, он поцеловал мальчика в лоб.
– Если бы наш великий Петр Алексеевич увидал твои работы и занятия, то, по своему обычаю, поцеловал бы тебя в голову, как я теперь целую!
И, обратясь к отцу, добавил:
– На что ты жалуешься, Василий Иванович? Твой сын уже знает больше иных генералов. Он рожден быть великим полководцем!.. Прошу тебя, не медли и тотчас запиши его в полк.
У Саши перехватило дыхание. Он поцеловал руки Ганнибалу и насупившемуся отцу.
Закон о военной службе дворян позволял зачислять малолетних дворянских детей рядовыми в списки гвардейских полков. По достижении ими 12 лет недоросли – уже в чине капрала или сержанта – обязаны были явиться на смотр. Те из них, чьи родители владели более чем 100 душами, получали право на отпуск для продолжения образования дома, а те, кто были победнее, зачислялись в государственные школы. Всем им предписывалось «быть в науках» до 20 лет, после чего они становились офицерами. В одном только Преображенском полку числилось свыше тысячи подобных малолетних унтер-офицеров.
Получив от Ганнибала совет записать сына в полк, Василий Иванович, тем не менее, медлил с этим еще почти целый год. Упорное нежелание отдавать Сашу в военную службу коренилось, конечно, и в самом миролюбивом характере Василия Ивановича, и в опасениях за здоровье и нравственность сына в армейском кругу, но главным образом его останавливали те мрачные раздумья, которые не выходили из головы русского человека в продолжение всего царствования Анны Иоанновны. Впустую прожитые годы в России вообще, не редкость, однако позорные эпохи, позорные целиком, от начала до конца, знает только XVIII век. Десятилетнее царствование курляндской герцогини – одна из таких эпох. Анна вызывает отвращение и как правительница, и как женщина. Митавская дыра была далеко не лучшим местом для приобретения европейского лоска и расширения провинциального кругозора. С государственным и личным достоинством здесь были незнакомы. Все усилия направлялись на беспринципное лавирование между российскими, прусскими и польскими дворами. Раннее вдовство озлобило и ожесточило Анну, женщину и без того черствую и злобную. Рослая, тучная, с мужеподобным лицом, невежественная и ограниченная, она не могла рассчитывать ни на любовь, ни на преданность, и предавалась только запоздалым удовольствиям и грубым развлечениям, поражавших иноземных наблюдателей смесью мотовской роскоши и безвкусия. Двор Анны обходился в пять-шесть раз дороже, чем при Петре I, хотя государственные доходы падали. «При неслыханной роскоши двора, в казне нет ни гроша, а потому никому ничего не платят», —извещали послы свои правительства (впрочем, у тех, кому они писали, зачастую не было ни денег, ни роскоши). Сама императрица не стеснялась приличиями, зевая, расхаживала по дворцу в чепце и простеньком домашнем платье в сопровождении зевающих фрейлин, которых она звала своими девками; одиночество и скука терзали ее в Москве, посреди беспрерывных увеселений, точно так же, как и в митавской глуши. Императрица окружила себя толпой карлов и карлиц и находила удовольствие в ежедневных издевательствах над ними. Анна по своему опыту слишком хорошо знала, что такое унижение и потому никогда не упускала случая полюбоваться чужим падением.
Ее царствование заставляло вспомнить времена опричнины. Политический сыск достиг своего апогея. Тайная розыскная канцелярия, созданная вместо закрытого при Петре II Преображенского приказа, казнями, крепостями и ссылками изводила целые гнезда русских вельмож и дворян. Беспощадная расправа с Голицыными и Долгорукими показала, что всем подданным дарованы равные права перед эшафотом. Не забывали и о церкви: архиерейский сан не спасал от ссылки, одного священника даже посадили на кол. Ссылка зачастую была завуалированной казнью. Ссылали без записи, изменяя имя ссыльного, порой даже не сообщив об этом Тайной канцелярии. Всех ссыльных при Анне числилось до 20 тысяч человек; о 5 тысячах из них нельзя было сыскать никаких следов.
Важные места приберегались для «клеотур» двух соперничающих фаворитов: всемогущего, но невидимого Бирона и обер-шталмейстера графа Левенвольда, азартного игрока и взяточника. Русским не доверяли, их боялись. Сколько-нибудь значительная карьера, особенно военная, сделалась для них невозможной. Бирон открыто называл гвардию янычарами и подумывал о том, чтобы расформировать гвардейцев по армейским полкам, а вместо них набрать гвардию из простолюдинов. Кое-что в этом направлении было сделано. Военные должности раздавались безродным немцам, сыновьям подмастерьев и лавочников. В противовес двум гвардейским полкам – Преображенскому и Семеновскому – создали Измайловский гвардейский полк, состоявший преимущественно из немцев и малороссов. Последними наполовину разбавили и состав Священного синода.
Между тем крестьяне годами не обрабатывали поля, жители пограничных областей искали спасения в Польше и Австрии от военной службы, торговля хирела. Иностранцы отмечали, что многие провинции выглядят опустошенными войной или повальным мором. Гвардия посылалась в экзекуционные экспедиции, напоминавшие татарские нашествия. Устраивались настоящие облавы на провинившихся: неисправных областных правителей ковали в цепи, помещиков и старост в тюрьмах морили голодом до смерти, крестьян били на правеже и продавали их имущество. Записки современников доносят до нас настроение «общественного мнения» тех лет: «Бирон и Миних великую силу забрали, и все от них пропали, овладели всем у нас иноземцы; тирански собирая с бедных подданных слезные и кровавые подати, употребляют их на объедение и пьянство; русские крестьяне для них хуже собак, —пропащее наше государство! Хлеб не родится, потому что женский пол царством владеет; какое ныне житье за бабой?» Про «каналью курляндца», умевшего только разыскивать породистых собак (так отзывались о Бироне), ходили упорные слухи, что в его дворце в Курляндии пол вымощен рублевиками, поставленными на ребро.
Как обычно бывает в подобных случаях, правительство пыталось поправить дела за счет успехов во внешней политике. Вводили войска в Польшу, доходили до Рейна и, выручив Австрию из беды, уходили назад с сознанием выполненного долга перед отечеством. Упорный Миних пробился-таки в доселе непроницаемый Крым и занял Молдавию, уложив под турецкими крепостями до 100 тысяч русских солдат. Но плоды славных побед под Ставучанами и Хотином были отданы в руки французского посла в Константинополе Вильнева, который распорядился ими таким образом, что по условиям мира Россия не могла иметь на Черном море ни военных, ни даже торговых кораблей, укрепления перешедшего в русские руки Азова срывались, а султан отказался признать императорский титул Анны. Восхищенное дипломатическими успехами Вильнева, русское правительство отблагодарило его векселем на 15 тысяч талеров и Андреевской лентой, не забыв одарить и его содержанку.
Императрица Анна Иоанновна накануне своей смерти (17 октября 1740 года) назначила своим преемником Иоанна VI Антоновича, сына своей племянницы Анны Леопольдовны и ее мужа герцога Антона Ульриха Брауншвейг-Люнебургского. Регентом при двухмесячном ребенке был сделан всемогущий Бирон. Императорская милость смутила умного временщика, побаивавшегося столь открытого надругательства над национальной честью. «Не бойся», – ободрила его умирающая императрица, привыкшая за десятилетие к русской безропотности. Польский посол выразил французскому послу опасение, как бы русские не сделали теперь с немцами того же, что они сделали с поляками при Лжедмитрии. «Не беспокойтесь, – возразил тот, – тогда у них не было гвардии».
Но Бирон в своих сомнениях оказался проницательнее: на этот раз первой зашумела именно гвардия. Офицеры громко плакались на то, что регентство дали Бирону, солдаты же бранили офицеров, зачем не начинают. Тайная канцелярия находилась в каком-то замешательстве и не пресекала толков. На Васильевском острове капитан Бровцын, собрав толпу солдат, горевал с ними о том, что регентом назначен Бирон, а не родители малолетнего императора. Кабинет-министр Бестужев-Рюмин, ставленник Бирона, увидев беспорядок, погнался с обнаженной шпагой за Бровцыным, который едва успел укрыться в доме Миниха.
Расстановка сил обозначилась, но честолюбивый фельдмаршал превосходно выдержал паузу. Пообедав и дружески просидев вечер 8 ноября 1740 года у регента, Миних ночью с дворцовыми караульными офицерами и солдатами Преображенского полка, командиром которого состоял, арестовал Бирона в постели. Все участники этой сцены были вне себя: кто от возбуждения и радости, кто от изумления и страха. Солдаты порядком поколотили «курляндца» и, засунув ему в рот носовой платок, завернули в одеяло и снесли в караульню, оттуда в накинутой поверх ночного белья солдатской шинели отвезли в Зимний дворец, а затем отправили с семейством в Шлиссельбург.
Анна Леопольдовна, мать императора, провозгласила себя регентшей. Началась полная неразбериха, продолжавшаяся около года. Супруг Анны, произведенный в генералиссимусы русских войск, никак не мог решить, много это или мало, склоняясь все-таки к тому, что мало. Сама Анна Леопольдовна целыми днями просиживала в своей комнате неодетая и непричесанная, не в силах придумать, с чего начать свое правление.
Немцы грызли горло друг другу, и Миних должен был уступить Остерману. Рядовые чины не стеснялись иметь политические убеждения. Регентство и немцы, связавшись в одно в народном сознании, сделались одинаково ненавистны. Толковали о цесаревне Елизавете Петровне: «А не обидно ли? Вот чего император Петр I в Российской империи заслужил: коронованного отца дочь государыня-цесаревна отставлена». Были и такие, которые открыто отказывались присягать новому императору: «Не хочу – я верую Елизавет Петровне».
Дочь Петра была настроена весьма решительно. Переворот был подготовлен лейб-медиком Лестоком при участии послов Франции и Швеции.
В ночь на 25 ноября 1741 года, горячо помолившись Богу и дав обет в случае удачи во все царствование не подписывать смертных приговоров, Елизавета надела кирасу и в сопровождении всего троих приближенных отправилась в казармы лейб-гвардии Преображенского полка. Там она сказала уже подготовленным гренадерам, число которых доходило до трехсот:
– Ребята, вы знаете, чья я дочь. Клянусь умереть за вас. Клянетесь ли вы умереть за меня?
Гвардия ответила утвердительным ревом и, увлекаемая Елизаветой, устремилась к Зимнему дворцу, фасад которого выходил в сторону Адмиралтейства.
У каждого гвардейца было при себе по шесть боевых зарядов и по три гранаты. Однако ничего из этого боекомплекта, к счастью, им не понадобилось. Переворот совершился бескровно – настоящая дамская революция, по словам В.О. Ключевского.
Как вспоминал современник, князь Шаховской, «ночь была тогда темная и мороз великий». Солдаты спешили, а цесаревна путалась в длинных юбках и всех задерживала. «Матушка, так нескоро, надо торопиться!» – слышала она со всех сторон. Наконец, видя, что матушка не может ускорить шаг, гвардейцы подхватили ее на плечи и внесли во дворец, словно новую Палладу в сияющих доспехах…
Позднее, в день коронации Елизаветы, архиепископ Арсений, изумляясь свершенному императрицей в ту памятную ночь, помянул мужество ее, когда она была принуждена «забыть деликатного своего полу, пойти в малой компании на очевидное здравия своего опасение, не жалеть… за целость веры и Отечества последней капли крови, быть вождем и кавалером воинства, собирать верное солдатство, заводить шеренги, идти грудью против неприятеля».
Никакого сопротивления не было, дворцовая стража почти поголовно перешла на сторону красавицы-цесаревны. Елизавета вошла в спальню Анны Леопольдовны и разбудила ее словами:
– Пора вставать, сестрица!
– Как, это вы, сударыня? – спросила Анна и была арестована самой цесаревной. (Впрочем, некоторые источники утверждают, что Елизавета не присутствовала при аресте своей двоюродной племянницы.) Свергнутую регентшу отвезли во дворец Елизаветы. Герцога Ульриха, завернутого солдатами в одеяло, отправили вслед за его супругой.
Одновременно были взяты под стражу все влиятельные вельможи предыдущего царствования. «Все совершилось тихо и спокойно, —свидетельствует Миних, —и не было пролито ни одной капли крови; только профессор академии г. Гросс, служивший в канцелярии графа Остермана, застрелился из пистолета, когда его арестовали».
Некоторая заминка случилась при аресте годовалого императора. Солдатам был дан строгий приказ не поднимать шума, не применять насилия и взять ребенка только тогда, когда он проснется. Около часа они молча простояли у колыбели, пока мальчик не открыл глаза и не закричал от страха при виде свирепых физиономий гренадер. Кроме того, в суматохе сборов в спальне уронили на пол четырехмесячную сестру императора, принцессу Екатерину. Как выяснилось впоследствии, от этого удара она оглохла.
Императора Иоанна принесли Елизавете. Взяв его на руки, она произнесла:
– Малютка, ты ни в чем не виноват!
Не выпуская свою добычу из рук, она села в сани и отправилась в свой дворец. Малютка выглядывал из окошка саней и радостно улыбался ночным огням, которыми покрылся проснувшийся Петербург.
В ночи началась грандиозная попойка. Горожане, пишет Шаховской, «поднося друг другу, пили вино, чтоб от стужи согреваться, причем шум разговоров и громкое восклицание многих голосов «Здравствуй (то есть, да здравствует! – С. Ц.), наша матушка императрица Елизавета Петровна!» – воздух наполняли».
Наутро Елизавета в открытой коляске вновь отправилась в Зимний дворец, где была провозглашена императрицей.
Переворот сопровождался неистовыми патриотическими выходками, с разгромом немецких лавок и домов и призывами к новой Варфоломеевской ночи. Порядочно помяли при аресте даже Миниха с Остерманом. Гвардия требовала поголовного изгнания немцев за границу.
Впрочем, страсти улеглись быстро. Немцы, за исключением наиболее ненавистных фигур прошлого царствования, остались на своих местах, а ненависть к Брауншвейг-Люнебургскому дому нисколько не помешала некоторое время спустя передать верховную власть Голштейн-Готторпу.
Мог ли Василий Иванович, как благоразумный отец, глядя на все это, желать для сына военной карьеры? Даже обласканный милостями новой императрицы, назначившей его прокурором берг-коллегии с чином полковника, он еще почти целый год откладывал зачисление Саши в полк. И только убедившись в устойчивости и национальной ориентации нового правления, подал в октябре 1742 года в канцелярия лейб-гвардии Семеновского полка прошение на имя Елизаветы Петровны о зачислении Александра Суворова на службу: «От роду ему 12 лет, в верности ея императорскому величеству службы у присяги был, отец ево ныне обретаетца в Берг-коллегии при штатских делах прокурором, а он, Александр, доныне живет в доме помянутого отца своего и обучаетца на своем коште французского языка и арифметики, а в службу никуда определен, також и для обучения наук в Академиях зачислен не был». 22 октября состоялось зачисление. 26 октября Василий Иванович дал письменное обязательство содержать сына на своем «коште» и обучать его «указанным наукам»: арифметике, геометрии, тригонометрии, артиллерии, инженерии и фортификации, иностранным языкам и военной экзерциции (упражнениям). О ходе обучения надлежало «чрез каждые полгода в полковую канцелярию для ведома рапортовать». Наконец 8 декабря из полковой канцелярии был выдан паспорт и получена расписка («реверс»): «Подлинной пашпорт я солдат Александр Суворов взял и расписался».
Солдат! Что он чувствовал, выводя это слово? Заметил ли писарь, выдавший ему паспорт, что-либо необычное во взгляде светловолосого мальчишки или только насмешливо окинул взглядом его худенькую фигурку? История не сохраняет воспоминаний о таких мелочах, оставляя простор нашему воображению.
Двухлетний срок домашнего обучения был затем продлен до 1 января 1746 года. Никаких сведений о жизни Александра в этот период не сохранилось. Можно предположить, что инженерное образование Василия Ивановича позволило ему вполне квалифицированно преподать сыну начала математики, геометрии, инженерии, фортификации и артиллерии (на которую, впрочем, Александр, в отличие от Наполеона не особенно налегал), иностранные языки. К этому прибавлялось усиленное чтение самим Александром военных классиков, трудов по истории, философии. Он довольно бойко изъяснялся по-французски и по-немецки,– правда, не всегда правильно (как и по-русски). Но погрешности суворовского языка во многом объясняются его «быстронравием», как он сам характеризовал свой темперамент. Несомненно также, что с этих лет у него на всю жизнь сохранился интерес к Библии, творениям святых отцов, житийной литературе. Александр рос набожным и благочестивым юношей, в совершенстве изучил весь церковный круг; церковное пение было одним из его излюбленных удовольствий.
На 15-м году жизни Александр навсегда расстался с родительским домом и поступил рядовым в полк. Так, с отставанием на пятнадцать лет начал он свой беспримерный в истории русской армии путь от рядового Семеновского полка до генералиссимуса российских войск.
Двадцатилетняя безалаберность в государственном управлении, конечно, не могла не сказаться самым неблагоприятным образом и на армии. Современники и документы говорят о расстройстве армии после Петра I, о плохом корпусе офицеров, об упадке военной техники и инженерной службы, о «весьма мизерном и сожаления достойном состоянии полков», как доносил любимец солдат фельдмаршал Ласси8, о массовом дезертирстве солдат из полков и бегстве крестьян за границу от рекрутчины. Остатки петровского флота гнили в Кронштадте и Таврове; из 30 кораблей годилось в дело только 10. В шведскую кампанию 1741 года ни один русский корабль не смог выйти в море, а в 1742 году эскадра, превосходящая шведскую по численности, не осмелилась напасть на противника, двадцать лет назад вычеркнутого Петром из числа великих морских держав.
В таких условиях любой другой правитель, даже с менее миролюбивым характером, чем у Елизаветы Петровны, не мог желать ничего иного, кроме длительного мира. Новая русская императрица кончила войну со Швецией, самонадеянно затеянную при Иоанне VI, и была готова удерживать мир даже ценой уступок. Она надолго отказалась и от вмешательства в европейские дела.
Русские отвыкли от побед и забывали о войне. Воинская служба сводилась к плац-парадам. Владычество иностранцев в армии кончилось, но вместе с ними был изгнан и полководческий опыт. Миниха сослали в Пелым, Ласси умер почти в изгнании, отосланный в Лифляндию, Кейт едва спасся, бежав из России. Им на смену пришли люди случайные, не имеющие, за редким исключением, никакого отношения к военному делу. Гессен-гамбургский принц Людовик стал старшим фельдмаршалом только потому, что был врагом свергнутого Миниха; малороссийский гетман К.Г. Разумовский произведен в фельдмаршалы на двадцать втором году жизни. Кроме них высший генералитет составляли: князь Н.Ю. Трубецкой, никогда не бывавший в сражениях; граф А.Б. Бутурлин, педантичный генерал и вдохновенный придворный; А.Г. Разумовский, брат гетмана и морганатический муж Елизаветы, сам себя называвший фельдмаршалом мира, а не войны; С.Ф. Апраксин, фельдмаршал по дружбе с Бестужевыми и Шуваловыми, любимцами императрицы. Из последних наибольшие способности проявил граф П.И. Шувалов, фактически управлявший военной частью в государстве. Под его руководством в середине XVIII века были проведены военные реформы, позволившие не только возвратить русской армии петровский дух и вид, но и сделать значительный шаг вперед в развитии военного искусства и техники. Наиболее заметны были успехи в области артиллерии. В 1757 году М.В. Данилов и М.Г. Мартынов создали новое орудие – единорог, прослуживший русской армии более 100 лет. Единороги, названные так по изображению на стволе орудия мифического зверя с рогом на лбу, допускали стрельбу всеми видами снарядов: бомбами, ядрами, картечью, брандкугелями (зажигательными снарядами). Одновременно были изобретены и отлиты знаменитые «секретные», или «шуваловские» гаубицы – гроза полевых сражений. Их канал в дульной части заканчивался овальным раструбом, что значительно увеличивало угол разлета картечи. Русская артиллерия надолго стала лучшей в Европе.
После попыток иностранцев ввести прусские уставы, армия возвращалась к петровскому Воинскому уставу 1716 года, о чем возвестил специальный указ Елизаветы «О чинении в полках экзерциции, как было при жизни Петра Великого». В разъяснении Военной коллегии говорилось: «В полках экзерцицию и барабанный бой чинить во всем по прежним указам, как было при жизни государя императора Петра Великого во всех полках равномерно, без всякой отмены, а не по-прусски, и в том командующему генералитету особливое смотрение иметь». За нарушение этих предписаний «генералитет повинны ответствовать, а полковые командиры штрафованы будут неотложно».
Петровский устав возвращал званию солдата человеческое и военное достоинство, указывая, что оно равно касается «всех людей, которые в войске суть, от вышняго генерала даже до последнего мушкетера, конного и пешего». Начальствование над подчиненными состоит не в механической муштре, а в том, чтобы «солдат своих непрестанно в справном состоянии содерживать», быть «отцом оных», «любить, оснабдевать, а за прегрешения наказывать». Дисциплина и инициатива не противопоставлялись друг другу. Напротив, предписывалось не держаться устава «яко слепой стены», «ибо там порядки писаны, а времян и случаев нет».
Все это как нельзя лучше соответствовало умонастроению 14-летнего рядового Александра Суворова.
Среди больших льгот гвардейских полков было так же право жить не в казармах, а в домах своих родственников, или самостоятельно на частных квартирах. Александр поселился в доме своего дяди А.И. Суворова, капитана-поручика, женатого на внучке первого учителя Петра Великого, начальника его личной канцелярии Н. Зубова. Хозяева не мешали усиленным занятиям новоиспеченного гвардейца, в то же время не давая ему киснуть в одиночестве.
Семеновский полк состоял в то время из двенадцати мушкетерских рот, сведенных в три батальона, и одной роты гренадеров, входившей в состав первого батальона. Командовал полком Степан Федорович Апраксин, человек без особых военных и иных дарований, не строгий и по-русски добродушный. Основной обязанностью полка было несение караульной службы у правительственных учреждений и императорских дворцов.
Суворов пробыл в Семеновском полку шесть с половиной лет, числясь попеременно в первой и восьмой ротах.
В 1747 году в полку была открыта полковая школа, которая с 1748 года помещалась в восьмой роте, где служил Суворов. Школа предназначалась для солдат, желающих повышать образование, для чего одни на время откомандировывались из роты, другие совмещали учебу со службой (Суворов выбрал второе). Занятия проходили ежедневно с 6 до 13 часов. Круг предметов был тот же, что и при домашнем обучении.
О подробностях службы Суворова в низших чинах известен только один эпизод со слов его самого. Как-то он стоял в Петергофе в карауле на часах у Монплезира. Увидев приближавшуюся императрицу, Суворов отдал ей честь. Елизавета почему-то обратила на него свое внимание и спросила, как его звать. Узнав, что перед ней сын прокурора берг-коллегии, она пожелала отметить свое милостивое отношение к Василию Ивановичу, которого знала лично, и протянула Суворову серебряный рубль. Однако ее рука повисла в воздухе, потому что застывший по стойке смирно Александр ответил, что устав запрещает часовому принимать от кого-либо деньги.
– Молодец, знаешь службу, —усмехнулась императрица. Она потрепала его по щеке и позволила поцеловать руку: – Я положу рубль здесь, на земле, как сменишься, так возьми.
Крестовик, полученный от государыни, Суворов хранил всю жизнь вместе с орденами.
25 апреля 1747 года состоялось его первое повышение по службе – Суворов был произведен в капралы. Устав определял обязанности капрала следующим образом: «Капралу подобает о всех своих солдатах, поутру и ввечеру известно быти; и буде кто из них ко злому житию склониться, таких должен остерегать и всячески возбранять, и отнюдь не позволять в карты и прочими зернами играть; и буде кто ему непослушен явится, подобает ему о том сержанту сказывать. Он стоит у своего карпоральства в передней шеренге на правой стороне».
Эти требования Суворов исполнял строго, но без придирок. Все же следующее производство ждало его только через два с половиной года. Об этой поре жизни Суворова сохранился рассказ его ротного командира, который так описал его Василию Ивановичу, интересовавшемуся успехами сына: «Сын ваш по усердию к службе, по знанию ее и по поведению – был первым солдатом во всей гвардии, первым капралом, первым сержантом. Всегда ставили мы его в пример и молодым дворянам и сдаточным, потому что сын ваш не только не хочет отличаться от простых солдат, но напрашивается на самые трудные обязанности службы. Большую часть времени проводит он с солдатами в казармах, и для того только имеет он свою вольную квартиру, чтоб свободно и беспрепятственно заниматься в ней науками. Деньги, которые вы присылаете, издерживает он только на помощь солдатам, на книги и на учителей и с усердием посещает классы Сухопутного шляхетского кадетского корпуса в часы преподавания военных наук. Никогда, подобно другим дворянам, не нанимал он за себя других солдат или унтер-офицеров на службу, а, напротив, ходил в караул за других. Для него забава стоять на часах в ненастье и в жестокую стужу. Простую солдатскую пищу предпочитает он всем лакомствам. Никогда не позволяет он солдатам, которые преданы ему душою, чистить свое ружье и амуницию, называя ружье своею женою. Когда солдаты, которым он благодетельствует, просят его позволить им сделать что-нибудь для него угодное – он принимает от них только одну жертву, а именно, чтобы они для забавы поучились фронту и военным эволюциям, под его командой. Несколько раз заставал я его на таком ученьи, когда он, будучи еще рядовым, командовал несколькими сотнями. Хотя это учение было только игры, но он занимался им с такою важностию, будто был полковым командиром – и требовал от солдат даже более, нежели мы требуем на настоящем учении. У него только одна страсть – служба, и одно наслаждение – начальствовать над солдатами! Не было исправнее солдата, зато и не бывало взыскательнее унтер-офицера, чем ваш сын! Вне службы – он с солдатами как брат, —а на службе неумолим. У него всегда одно на языке: дружба дружбой, а служба службой! Не только товарищи его, но и мы, начальники, —почитаем его «чудаком». Когда я спросил однажды у него, отчего он не водится никогда ни с одним из своих товарищей, но даже избегает их общества, он отвечал: «У меня много старых друзей: Цезарь, Аннибал, Вобан, Кегорн, Фолард, Тюренн, Монтекукули, Раллен… и всех не вспомню. Старым друзьям грешно изменять для новых». Товарищи его, которых он любит более других, сказывали мне, что от него никак не добиться толку, когда спрашивают его мнение о важных лицах или происшествиях. Он отвечает всегда шуткою, загадкою или каламбуром и, сказав «учись», прекращает разговор».
Усердное изучение службы и постоянное пребывание в солдатской среде, однако, не привели к усвоению им солдафонских привычек. Суворов был солдат, но от него отнюдь не «отдавало солдатом». Он учился – серьезно, сосредоточенно и пока что не критикуя усвоенное. Его «старые друзья» говорили ему одно: цель жизни полководца – совершение невозможного и непобедимость. История ценит только это.
Служебная репутация Суворова и его знание иностранных языков способствуют тому, что ему поручают ответственные задания. В марте 1752 года он везет дипломатическую почту в Дрезден и Вену и возвращается в Россию только в октябре, видимо, задержанный русскими послами для выполнения трудных поручений.
Следующие два года Суворов провел в Москве, в составе первого батальона. Здесь 1 апреля 1754 года, через шесть с половиной лет после поступления в полк, произошло долгожданное: он был произведен в офицеры с чином поручика и выпущен в полевые войска. В этом возрасте его будущие начальники и соперники по боевой славе ушли далеко в перед: П.А. Румянцев стал полковником на девятнадцатом году жизни, генерал-майором на двадцать втором; Н.И. Салтыков – полковником в 23 года, генерал-майором в 25; Н.В. Репнин – полковником в 24, генерал-майором в 28; М.Ф. Каменский – полковником в 23 года, генерал-майором в 31. Но ничто не могло умалить радость Суворова от ношения офицерских знаков отличия. Болотов в воспоминаниях так описывает свои чувства при производстве в офицеры: «Признаться надлежит, что первая сия степень для нас особенной важности, человек тогда власно9, как переродится и получает совсем новое существо… Мне казалось, что я совсем тогда иной сделался, и я не мог на себе и на золотой свой темляк, и на офицерскую шляпу довольно насмотреться…» Он добавляет, что в этот день специально ходил мимо солдат, выставив темляк, чтобы видеть, как они отдавали ему честь. Мы не знаем, что чувствовал при этом Суворов, может быть, то же самое, что и Болотов. Как знать! Души людей более схожи, чем их внешность и поступки. «Я не прыгал смолоду, зато теперь прыгаю!» – улыбаясь, говорил Суворов много позже, вспоминая начало своей карьеры.
Получив назначение в Ингерманландский пехотный полк, он, однако, едет не туда, а в Петербург, где хлопочет о годовом отпуске. Его просьба удовлетворена, и в мае того же года Александр Васильевич уже помогает отцу вести домашние дела. Но не одни хозяйственные заботы занимают молодого Суворова. С недавних пор при кадетском корпусе существует первое российское Общество любителей русской словесности, и Александр Васильевич с удовольствием посещает его собрания. Это было время, когда в русское общество, по словам современника, внедрялся «тонкий вкус во всем». Хотя большую часть вечера все еще проводили «упражняясь в разговорах», но уже начали поигрывать в ломбер и тресет, барышни пели под аккомпанемент первые романсы на русском языке, вроде весьма известного в те годы:
Мужчины на свете
Как мухи к нам льнут…
и начали почитывать русские романы: «Похождения маркиза Глаголя», «Алексий или Хижина в лесу», в которых находили чувствительных героев и приличные (или неприличные) мысли автора. Русская литература делала свои первые шаги: Ломоносов возвратился в Россию из Германии в 1742 году, первая трагедия Сумарокова появилась в 1748 году, но увлечение изящной словесностью уже стало повальным. Литература превращалась в «поприще», правда, пока еще дурно оплачиваемое, часто презираемое, однако уже имевшее своих кумиров и неофитов. Здесь, на вечерах в обществе любителей русской словесности, слушали чужие и читали свои переводы, оригинальные произведения и подражания, высказывали суждения, создавали и разрушали репутации. Здесь у Суворова завязались дружеские отношения с Херасковым и Сумароковым, на чей суд он и вынес свои первые литературные опыты. Это были диалоги в царстве мертвых – один из любимых, наряду с трагедией, жанров эпохи. Беседу между собой ведут Кортес с Монтесумой и Александр Македонский с Геростратом. В первом диалоге Монтесума успешно доказывает Кортесу, что благость и милосердие необходимы героям; во втором Александр Великий противопоставляет истинную любовь к славе тщеславию Герострата.
При чтении слушателями делались замечания, которые Суворов охотно выслушивал и тут же делал поправки.
– Я боюсь забыть, что услышал, —оправдывался он перед теми, кто торопил его. – Я верю Локку, что память есть кладовая ума; но в этой кладовой много перегородок, а потому и надобно скорее все укладывать, что куда следует.
С этими диалогами произошла забавная путаница. В 1756 году они были напечатаны в журнале «Ежемесячные сочинения», издаваемом Академией Наук. Первый из них – за подписью С., второй – А.С. Новиков решил, что за этими инициалами скрывается Александр Сумароков, почему и поместил их в его собрание сочинений. Действительно, эти диалоги подражают Сумарокову, стиль которого считался образцовым на протяжении всего XVIII века. Нет ни малейшего намека на афористичность зрелого Суворова, автора «Науки побеждать». Ввиду явной подражательности эти диалоги интересны лишь с точки зрения умонастроения будущего полководца. Неоднократные атаки на литературу Суворов возобновлял и позже. «Если бы я не был полководцем, я стал бы писателем», —уверял он знакомых. Нужно признать, что две эти главные страсти его жизни роднило лишь суворовское честолюбие. Все его писательские опыты отдают неистребимым графоманством, которое Суворов, подобно всем графоманам, не замечал. Изящная словесность осталась навсегда тем неприятелем, победить которого Суворову так и не удалось.
По окончании отпуска Суворов выехал к месту службы. В январе 1756 года он повышен в звании (капитан), с исправлением должности обер-провиантмейстера, с приказом «иметь в смотрении» продовольственные и фуражные магазины Новгорода, Новой Ладоги, Старой Руссы и села Сольцы. В октябре он становится еще и генерал-аудитор-лейтенантом – помощником генерал-аудитора, в чьих руках находился военный суд над офицерами, кроме тех, которые были виновны в «смертных винах». Суворов, как всегда, активен, изучает провиантскую часть и военное судопроизводство, но в душе вздыхает. Об этом ли мечтал он, готовясь к военной службе?! Ему нужна война. Чем удивишь мир, сидя в новгородской глуши? «За что люблю Россию-матушку, так это за то, что в ней всегда где-нибудь дерутся», —говорил герой 1812 года, гусар-богатырь Кульнев. Однако теперь, как назло, по всем границам империи мир.
Суворов пополняет образование, томится и читает недавно вышедшего «Жиль Бласа».
Первая кампания (Семилетняя война, 1756—1763)
Судьба все устраивает к выгоде тех, кому она покровительствует.
Ларошфуко
Жители Берлина, завидев издалека фигуру прогуливающегося Фридриха-Вильгельма, спешили перейти на другую сторону улицы и кланялись королю на почтительном расстоянии. Зазевавшийся прохожий – будь то почтенный бюргер, хорошенькая фройляйн, пастор или ребенок – немедленно получал пинок королевским сапогом или удар увесистой палкой.
Хорошее расположение духа у Фридриха-Вильгельма вызывали две вещи: вино и рослые солдаты. Он заставлял 4-миллионное население Пруссии содержать 200-тысячную армию – столько же, сколько имели Франция и Россия, в пять-шесть раз превосходившие по численности Прусское королевство. Бывшее курфюршество Бранденбургское, получившее независимость в XVII веке и королевский статус в 1701 году, стремилось наверстать упущенное. Агенты короля рыскали по всей Европе. На сельских и городских рынках и площадях они высматривали парней, наголову выдававшихся из толпы, подпаивали их в ближайшей корчме и тут же вербовали, зачастую обманом, в королевскую армию. Продравши глаза, новобранцы удивленно смотрели на свою подпись под договором и если пытались возражать, то сразу же узнавали на своей спине, что такое знаменитая прусская дисциплина. Строже всего в прусской армии наказывались дезертиры. Для Фридриха-Вильгельма это была худшая порода людей. «Дезертирство идет из ада, это дело детей дьявола. Никогда дитя Божие в этом не провинится», – не уставал повторять он солдатам.
Жизнь не любит излишней категоричности и обычно не упускает случая наказать приверженцев неоспоримых максим. Настал день, когда дезертиром армии Фридриха-Вильгельма стал наследник престола Фридрих.
Фридрих родился в 1712 году. Он был воспитан французскими учителями, привившими ему вкус к утонченному сибаритству и изящному свободомыслию своей родины. За всю свою жизнь Фридрих не написал ни строчки по-немецки и не одобрял употребления родного языка в государственных делах и литературе. Наследник окружил себя толпой молодых людей – французов и соотечественников-франкофилов, в кругу которых занимался обсуждением литературных новинок из Франции, вопросами справедливого мироустройства и чтением собственных поэтических и драматических опытов. Если Фридриху-Вильгельму случалось застать его за этим занятием, то он со страшной руганью начинал беспощадно дубасить и пинать всю компанию направо и налево. Принцу доставалось еще и потом, отдельно от других. Однако побои отца не уничтожили тяги Фридриха к идеалам разума, свободы и просвещения.
Все же однажды в голову наследника пришла мысль, что эти идеалы следует искать подальше от двора его отца. Но побег не удался, Фридрих был схвачен, и король, потрясенный дезертирством – не сына, нет, но – о позор! – прусского офицера, – приговорил его к смертной казни. Скандал разразился страшный. Фридрих-Вильгельм оставался непреклонен, и только ходатайство Голландских штатов, королей Швеции, Польши и императора Германии спасло Фридриха от смерти. Правда, некоторое время ему пришлось просидеть в тюрьме. Здесь Фридрих с удивлением обнаружил, что это единственное место во всем королевстве, где его никто не стесняет: он мог вволю играть на флейте, читать вслух тюремщикам «Генриаду» и беседовать с караульными офицерами о преимуществах просвещенной монархии перед деспотизмом.
Он покинул гостеприимные стены, когда ему был 21 год. Пора юношеских мечтаний миновала, Фридрих заставил себя терпеть настоящее ради будущего. Он научился ладить с отцом, даря ему 6-футовых гренадеров, и, наконец, смог добиться самостоятельности: Фридрих-Вильгельм отпустил его в имперскую армию под начало принца Савойского10. Пребывание в Австрии позволило Фридриху основательно изучить этого самого своего непримиримого будущего врага, а близость принца Евгения дала ему наглядное представление, что такое всеевропейская слава. Подобно многим другим коронованным особам, он вступил в переписку с Вольтером, и тонкая лесть новоявленного Аретино11, наслышанного о просвещенном прусском наследнике, влила недостающие капли уверенности в его переполненную честолюбием душу. Фридрих проникся убеждением, что на свете существую две вещи, делающие имя человека бессмертным: война и литература. Как человек просвещенный, он решил начать с последней и послал Вольтеру свой политический трактат «Анти-Макиавелли», посвященный разоблачению политического цинизма великого итальянца. Вольтер поспешил издать труд коронованного философа, но литературная слава не торопилась осенить это достойное произведение. Фридрих, сильно задетый этим неожиданным обстоятельством, отложил перо в сторону.
Ему исполнилось 28 лет, когда он получил известие о смерти Фридриха-Вильгельма. По дороге в Берлин он имел смелость сознаться себе, насколько глубоко ему опротивела болтовня о разуме, свободе и гуманизме. «Анти-Макиавелли»! Да один этот итальянец стоит всех «философов» вместе взятых!
– Конец этим глупостям! – заявил Фридрих своим друзьям, которые осмелились напомнить ему о прежних вольнолюбивых проектах.
Вместо эпикурейца, сторонника умеренности, мира и свободы на прусский престол взошел деспот – умный, волевой, без страха, веры и жалости. Он был не прочь и дальше играть роль просвещенного монарха, но на известных условиях. Ни один монарх Европы не предоставлял подданным такой свободы высказываний, как Фридрих. Когда ему доносили, что такой-то не доволен им, он только спрашивал, сколько тысяч солдат может выставить этот недовольный. На короля безнаказанно печатали жесточайшие сатиры. Однажды он увидел толпу, читавшую пасквиль на него, прикрепленный высоко на стене. Фридрих приказал повесить его пониже.
– Мой народ и я сошлись друг с другом на том, что народ может говорить все, что взбредет ему на ум, а я могу делать все, что мне нравится, – спокойно объяснил он придворным свой приказ.
Он умел выбирать (и создавать) обстоятельства, когда королевской воле следует отступить перед законом; знал, что этим работает для истории. Вот один из таких превосходно разыгранных спектаклей, ставших легендой. Как-то королю якобы показалось, что мельница, уже несколько десятилетий стоявшая напротив окон его комнат в Сан-Суси, портит вид. Мельницу было велено снести. Однако с исполнением приказа не спешили. Мельник успел подать на решение короля в суд (это разрешалось) и выиграл процесс. Король покорно снял шляпу перед судебным постановлением. Мельница осталась на месте и продолжала портить вид из окна, но с тех пор никто из приезжающих в Сан-Суси не мог миновать этого зримого воплощения королевской справедливости. Правда, ни один суд не мог запретить Фридриху бить палкой подданных, но, в отличие от отца, он делал это только в случае явной вины избиваемого, что, конечно, является неоспоримым признаком просвещенности монарха.
Одним из первых в Европе Фридрих отменил пытку и ограничил применение смертной казни, но в армии пороли так жестоко, что многие предпочитали расстрел. Он объявил себя сторонником веротерпимости – атеист, приговоренный к казни во Франции, без труда получал диплом солдата прусской армии, – однако сохранил все ограничения для евреев.
Фридрих получил в наследство от предыдущих поколений Гогенцоллернов дисциплинированных подданных, отлично налаженную систему фиска и великолепно вымуштрованную армию. С первых дней своего царствования Фридрих начал озираться по сторонам, ища в различных уголках Германии, что где плохо лежит. Однако он оказался в сильном затруднении. Система европейского равновесия была обозначена уже довольно четко, и было невозможно нарушить ее, не нарвавшись на крупные неприятности.
На помощь ему пришел случай, впрочем, давно всеми предвиденный и, казалось, заранее обставленный мерами предосторожности. Чтобы обратить этот случай себе на пользу, нужны были не просто решимость и воля, а почти невероятная наглость и беспредельный политический цинизм. Фридрих нашел в себе и то и другое.
Дело касалось «австрийского наследства». Почти одновременно со вступлением Фридриха не престол скончался Карл VI, император Священной Римской империи, последний мужской потомок австрийского дома. Перед своей смертью он подписал «Прагматическую санкцию», передававшую австрийский престол его дочери Марии-Терезии, жене венгерского короля Франциска Лотарингского. Двадцатичетырехлетняя наследница, красивая, полная достоинства, величественная в мыслях и поступках, снискала расположение при всех дворах Европы, которые гарантировали правомочность «Прагматической санкции». Признал права Марии-Терезии и тогда еще живой Фридрих-Вильгельм. Правда, Гогенцоллерны в прошлом веке имели претензии на Силезию, насильственно присоединенную к Австрии, но по молчаливо признаваемому закону давности, Фридрих-Вильгельм не стал возобновлять этих притязаний и также гарантировал целостность Австрии.
Не так повел себя Фридрих.
– Нравится ли тебе какая-то страна, так захвати ее, если имеешь для этого средства. Потом всегда найдешь какого-нибудь историка, который докажет справедливость твоей битвы, и юриста, обоснующего твои требования, – откровенничал позднее автор «Анти-Макиавелли».
Он начал подготовку к войне открыто, на виду у всех. Однако великодушная Мария-Терезия отказывалась верить очевидному и не слушала предупреждений. Зачем они? Ведь она читала возвышенные мысли этого монарха! К тому же у нее в руках его письма, полные дружелюбных заверений. «Мы не можем этому поверить», —неизменно отвечала она на тревожные доклады своих министров.
В конце 1740 года войска Фридриха наводнили Силезию. Вместо объявления войны Мария-Терезия получила очередное письмо, в котором Фридрих в самой дружелюбной форме просил уступить ему Силезию и был настолько любезен, что обязался взамен защищать слабую женщину от любого врага. Не дожидаясь ответа, король уехал в Берлин принимать поздравления.
Впоследствии Фридрих так объяснял мотивы своих действий: «Честолюбие, корысть и желание заставить говорить о себе взяли верх – и я решился начать войну».
Возмущенная Мария-Терезия двинула против захватчика войска. Противники сошлись при Мольвице. Австрийцы опрокинули прусскую конницу, и Фридрих, посчитав сражение проигранным, оставил поле боя. Он укрылся на мельнице, где картина грядущего унижения и позора, встававшая перед его мысленным взором, чуть не довела его до самоубийства. Он ждал, когда покажется его разбитая армия, но стрельба, доносившаяся с поля боя, к его удивлению, не только не затихала, а, напротив, разгоралась. Офицер, посланный разузнать обстановку, вернулся с сообщением, что генерал Шверин отразил атаки австрийцев и обратил их в бегство. Старый вояка, не упустивший на своем веку ни одной европейской войны и служивший всем, от Мальборо12 до Карла XII, звал короля принять лавры победы. Фридрих в сердцах пнул мешок с мукой. Он чувствовал страшную тоску: Шверин спас честь армии, но лишил славы своего короля!
Мольвиц дал сигнал всем, кто видел в Австрии лакомый кусок, съесть который не позволяют только дипломатические приличия. Франция, Бавария, Испания, Саксония, Пьемонт, Неаполитанское королевство накинулись на владения несчастной Марии-Терезии, в защиту которой выступила Англия, Нидерланды, Чехия, Венгрия и Россия, ограничившаяся, правда, одной экспедицией князя Репнина к Рейну в 1747 году. В Европе впервые услыхали ужасные имена пандуров, кроатов и гусар. По сути, Фридрих развязал первую мировую войну: боевые действия велись в Европе, Америке, Азии, в них были вовлечены индейцы, негры и индусы.
Война закончилась в 1748 году Ахенским мирным договором. Мария-Терезия была вынуждена уступить Фридриху Силезию. Англия пощипала перышки Франции в Индии и Канаде. Вот ради чего в трех частях света лилась кровь.
Фридриху удалось блеснуть полководческим талантом. Его армия считалась образцовой, ему подражали. Фортуна сделала его счастливым и знаменитым. Фридрихом Великим его сделает несчастье.
В европейский концерт была добавлена прусская скрипка. Многим это не понравилось. К тому же Фридрих был дурным соседом. Государей Европы выводили из себя не его вероломство, а его насмешки. Гром его побед заставил прислушаться к скрипу его пера. Фридрих писал злые сатиры и едкие эпиграммы на всех государей и министров Европы. Эти остроты немедленно становились известными за пределами Пруссии; еще большее их количество сочинялось на местах и приписывалось злому остроумию прусского короля. О женщинах он высказывался так, что они готовы были растерзать его, а вся Европа тогда управлялась женщинами. Фридрих осыпал Елизавету грубой бранью, изливал желчный сарказм на голову Марии-Терезии, а маркизу де Помпадур удостаивал эпитетов, способных вложить нож в руку уличной торговке.
Женским чутьем Мария-Терезия угадала, что наступает час отмщения, что никакие политические интересы не заставят Россию и Францию воевать с таким ожесточением, как оскорбленная женская честь российской императрицы и фаворитки Людовика XV. Новый союз против Пруссии получал самую прочную основу – личную ненависть к ее королю.
Превозмогая отвращение и брезгливость, Мария-Терезия, – наследница одной из древнейших монархий Европы, – написала ласковое письмо Помпадур (дочери мясника Пуассона! Жене откупщика д`Этиоля!), и та, купившись на столь почетное egalite13, заставила Людовика XV пойти на союз со страной, вражда с которой составляла основу внешней политики Франции последние 200 лет. В свою очередь, Елизавета закрыла глаза на многолетнюю антирусскую политику французского кабинета. К союзу присоединились Испания, Швеция и Саксония. Целью коалиции было низвести Пруссию до положения незначительного маркграфства Германии.
Над 5-миллионным королевством Фридриха, со всех сторон открытым вторжению, нависла почти вся континентальная Европа с более чем 100-миллионным населением. Слабейшее из государств коалиции превосходило Пруссию по населению в три раза. Только в первом эшелоне союзники были готовы выставить 500-тысячную армию. От первого же движения этой армады границы Пруссии, казалось, должны были хрустнуть, как яичная скорлупа.
Через одного из своих многочисленных шпионов Фридриху стало известно о планах общеевропейского похода против Пруссии. Бодрость духа не покинула его. Он был готов сам вырвать из рук врагов еще не брошенную ему перчатку. На что он рассчитывал? Прежде всего, на себя, на свой всеми признанный военный гений; затем на помощь Англии, где с недавних пор воцарилась близкая ему ганноверская династия; и, конечно, на счастливый случай, до сих пор всегда сопутствовавший ему. В тылу у Австрии и России могли зашевелиться турки; государства врагов мог посетить какой-нибудь повальный мор; коалиция могла распасться из-за внутренних раздоров или смерти одного из государей, да мало ли что еще! «Ввяжемся в бой, а там посмотрим!» – это девиз Наполеонов всех времен. К тому же Фридрих хорошо понимал, что в данном случае слава обеспечена ему при любом исходе войны. Он достиг предела, после которого разум и честолюбие ведут человека в разные стороны. Теперь Фридриха могло увлечь только невозможное.
Он пишет Марии-Терезии резкое письмо, требуя объяснений. «Я не хочу ответа в форме оракула», —предупреждает он. Мария-Терезия, посмеиваясь, с удовольствием сочиняет в ответ туманно-благонамеренный «оракул». Он еще смеет ей грозить! О, скоро она будет отомщена!
Но Фридрих не собирается ждать, когда коалиция раздавит его совместными усилиями. У него только 200 тысяч солдат, и его единственный шанс на победу – бить союзников поодиночке. В августе 1756 года по Европе молнией разносится весть о вторжении Фридриха в Саксонию. 20-тысячная саксонская армия капитулирует без боя, Саксонский курфюрст ищет убежища в Польше. Он так спешит удрать, что забывает уничтожить бумаги с замыслами коалиции. Фридрих немедленно опубликовывает их. Произведенное ими действие огромно: весь мир видит, что он всего лишь жертва неслыханных интриг.
Растерянность союзников так велика, что в этом году они не решаются начать военные действия. А кампанию следующего года Фридрих открыл победой над австрийцами под Прагой.
Русская армия в начале 1757 года долго не двигалась с места, так как при дворе никак не могли выбрать главнокомандующего. Наконец, усилиями Бестужева, им был назначен генерал-фельдмаршал Степан Федорович Апраксин. В конце апреля он прибыл в русский лагерь под Ригой и отдал приказ форсировать Двину. Солдаты, воткнув в шляпы сосновые ветки в знак будущих побед, начали переправу.
Фридрих не знал ни численности русской армии, ни ее боевых качеств.
– Русские – орда дикарей: не им сражаться со мной! – презрительно объявил он генералу Кейту в ответ на его доклад о первых маневрах русской армии.
Кейт, бывший сослуживец Миниха на русской службе, возразил:
– Дай Бог, чтобы Ваше Величество не переменили своего мнения по опыту!
Фридрих отрядил для охраны восточных границ 24-тысячный корпус фельдмаршала Левальда, а сам бросился на австрийцев, но потерпел поражение от фельдмаршала Дауна у Колина и отступил в Саксонию.
Огромная русская армия двигалась к Кенигсбергу крайне медленно, делая переходы по 10—15 верст в день. Движение войск отягощали 15 тысяч повозок с армейским провиантом, фуражом, боеприпасами и офицерским скарбом. Многие офицеры имели не одну, а несколько повозок. Треть армии состояла при обозе. На ночлег располагались заблаговременно, за несколько часов до наступления темноты. Наутро подолгу свертывали тяжелые шатры и не торопясь трогались дальше. Пехотный полк едва строился за час; на марше часто и подолгу стояли, дожидаясь отставших. Разведка производилась нерегулярно и на глазок. Армия таяла на глазах, не вступая в сражение: из 93 709 человек, введенных Апраксиным в Восточную Пруссию, вскоре под ружьем осталось 65 187 солдат и офицеров; 12 796 человек были больны, и 15 726 находились в командировках.
Всю весну и лето русская армия провела в походе, не сделав ни единого выстрела, и все же к середине августа находилась только на полпути к Кенигсбергу. Наконец 18 августа у деревни Гросс-Егерсдорф был обнаружен корпус Левальда, занявший выгодную позицию в узкой лесистой теснине. Апраксин пребывал в уверенности, что в виду более чем двукратного превосходства русской армии пруссаки не решаться дать сражение и поспешил отдать приказ занять оставшиеся лесные прогалины для обходного маневра. Утром 19 числа русская армия покинула лагерь и углубилась в лес. Не было принято никаких мер предосторожности. Около грязного ручья, разрезавшего егерсдорфское поле и впадавшего в крутой буерак, движение затормозилось, пехота смешалась с обозом и походный порядок нарушился. Подходившие сзади части с каждой минутой увеличивали тесноту и замешательство. В это время по всему войску стало разноситься вначале тихая молва о подходе неприятеля, быстро превращавшаяся в общий шум. Воцарилась полная неразбериха, усугублявшаяся отсутствием связи с главнокомандующим.
Действительно, Левальд принял смелое решение атаковать русскую армию на марше. Его замысел, будучи едва ли не следствием полного презрения к русским, в тактическом отношении был превосходен. Прусская армия, заблаговременно построенная в боевые линии, получила почти двойное превосходство в огневой мощи над русскими, которые едва могли вытянуть 11 полков. К тому же русский штаб не принимал никакого участи в руководстве боевыми действиями, и ведение боя целиком легло на плечи полковых и дивизионных командиров.
При таких обстоятельствах судьба русской армии висела на волоске. Отбив контратаку казаков, пруссаки совершенно смяли весь наш фронт и в нескольких местах уже ворвались в обозы. Численное превосходство русских только увеличивало сутолоку и панику. Положение спас случай. Два полка из резерва П.А. Румянцева, стоявшие за лесом, не дожидаясь приказа из штаба, самостоятельно начали продираться сквозь лес, двигаясь наугад на звуки выстрелов. По счастью, они вышли из леса в том самом месте, где русские уже сопротивлялись с безрассудством отчаяния. Их неожиданное появление оказалось решающим. Гренадеры ударили в штыки и, сев неприятелю на шею, уже не дали ему времени прийти в себя и перестроиться. Беспорядочное отступление превратилось в столь же беспорядочное преследование. Егерсдорфское поле в один миг покрылось трупами пруссаков. Армия Левальда бежала, бросив пушки и раненых.
Неожиданная победа над лучшей армией Европы отняла у Апраксина остатки душевной решимости. Потоптавшись на месте, русская армия повернула назад к российским границам. В письме Елизавете фельдмаршал объяснял свое решение большим количеством больных и отсутствием продовольствия. И в самом деле, войска терпели жестокую нужду во всем. Распутица отняла больше людей и лошадей, чем недавнее сражение. От грабежей в этом году еще воздерживались и шли, голодая. Однако сильнее всего Апраксина гнало назад не бедственное положение армии, а полученное им известие о болезни императрицы. Пропрусские симпатии наследника ни для кого не были секретом, и старый царедворец боялся оказаться без вины виноватым. Но Апраксину не повезло. Как полководец он слишком промедлил, как придворный – чересчур поспешил, опередив события на шесть лет. Елизавета выздоровела, отстранила Апраксина от командования и отдала под суд. Новым главнокомандующим был назначен генерал-аншеф Виллим Виллимович Фермор, англичанин, находившийся на русской службе с 1720 года, ученик Миниха, искусный и осторожный тактик. Ему был предписан активный наступательный образ действий.
Отступление русской армии дало возможность Фридриху обрушиться на французов, хозяйничавших в Саксонии, и австрийцев, вновь занявших Силезию. 24 октября у деревни Росбах 22-тысячная армия Фридриха сошлась с 43-тысячным франко-австрийским корпусом маршала Субиза и принца Гильгургсгаузенского. Притворным отступлением с половиной армии Фридрих заманил союзников под удар второй половины, укрывшейся за пригорком, и неожиданно атаковал. После короткой жаркой схватки союзники потерпели невероятный, чудовищный разгром: 17 тысяч убитых, 7 тысяч пленных, тысячи дезертиров; почти вся артиллерия досталась пруссакам. Маршал и принц едва увели с поля сражения 2 тысячи человек. 250 пленных офицеров и 11 генералов были приглашены Фридрихом на ужин. Он ласково угощал обескураженных врагов и просил их не прогневаться, что кушаний мало: он никак не ожидал видеть у себя в этот вечер столь много гостей.
Росбах сделал из Фридриха национального героя. Прежде его победы над другими немцами – силезцами и саксонцами – вызывали восторг только в Пруссии; теперь им восхищалась вся Германия. В росбахской победе она увидела возмездие: немцы еще не забыли пфальцской экзекуции14.
Месяцем позже следует Лейтенское сражение (Силезия), во многом напоминающее битву при Каннах: то же соотношение сил (60 тысяч против 40 тысяч), та же роковая разобщенность командования… Принц Карл Лотарингский, словно нетерпеливый Теренций Варрон, не слушая советов своего Эмилия Павла15 – осторожного фельдмаршала Дауна, – спешит атаковать Фридриха. Через несколько часов кровопролитнейшего сражения поле боя остается за пруссаками. 21 тысяч австрийских солдат и 301 офицер убиты, Фридриху достаются 134 пушки и 59 знамен.
На этот раз успех Фридриху принесло тактическое новшество – знаменитый косой удар, не раз с успехом примененный им впоследствии. Суть его состояла в следующем. Поскольку основная роль в поражении противника отводилась тогда ружейной стрельбе, войска вытягивались в 2—3 линии по 3—4 шеренги в каждой, чтобы обеспечить возможность стрельбы одновременно как можно большему числу солдат. Фридрих начал усиливать один из флангов дополнительной линией, батальоны которой строились уступами. Это наносило ущерб огневой мощи прусской армии на начальной стадии боя, зато последующая атака усиленного фланга, производимая под углом к противнику, позволяла быстро проломить его боевые порядки. Собственно говоря, это новшество, состоявшее в умении создать на направлении главного удара превосходство в силах, применял уже Эпаминонд при Левктрах16, однако оно оказалось совершенной неожиданностью для европейских полководцев XVIII столетия и позволило Фридриху не особенно считаться с разницей в численности своих и чужих войск.
До начала зимы король успел осадить и взять Бреславль, захватив 13 австрийских генералов, 686 офицеров и 17 тысяч солдат; между тем, как Левальд, не тревожимый больше русскими, заставил убраться восвояси шведскую армию.
Случилось невероятное: Пруссия не только отбила нашествие и удержала захваченные территории, но и приобрела новых подданных! Впервые за полтора столетия иноземцы были изгнаны из Германии силами самих немцев. Европа, привыкшая безнаказанно топтать немецкую землю в бесконечных спорах за чье-нибудь «наследство», с изумлением убедилась, что отныне ей придется вести себя сдержаннее.
Однако после прошлогоднего пролога закончился только первый акт драмы. Новый 1758 год начался для Фридриха с потерь. Фермор, исправляя ошибки Апраксина, вернулся в Восточную Пруссию и, пользуясь тем, что корпус Левальда был занят операциями в Померании против Шведов, в январе без боя занял Кенигсберг. «Все улицы, окна и кровли домов усеяны были бесчисленным множеством народа, —рассказывает участник похода Болотов, —стечение оного было превеликое, ибо все жадничали видеть наши войска и самого командира. А как присовокуплялся к тому и звон в колокола во всем городе и играние на всех башнях и колокольнях в трубы и литавры, продолжавшееся во все время шествия, то все сие придавало оному еще более пышности и великолепия.
Граф (Фермор) стал в королевском замке и в самих тех покоях, где до него стоял фельдмаршал Левальд, и тут встречен был всеми членами правительства Кенигсбергского, и как дворянством, так и знаменитейшем духовенством, купечеством и лучшими людьми в городе. Все приносили ему поздравления и, подвергаясь покровительству императрицы, просили его о наблюдении хорошей дисциплины, что от него им и обещано».
Через два дня горожане присягнули на верность русской императрице (вместе со всеми присягу читал и приват-доцент Кенигсбергского университета Иммануил Кант). Странное с современной точки зрения поведение горожан не представляло в XVIII веке чего-то исключительного и тем более предосудительного. Это столетие, хотя и богатое войнами, было одним из самых спокойных для европейского обывателя. Религиозный фанатизм предшествующей эпохи утих, война была признана делом исключительно венценосцев и их армий. Полководцы стремились содержать войска за счет заранее заготовленных продовольственных и фуражных магазинов, необходимые реквизиции у жителей большей частью компенсировались денежными выплатами. Население, оказавшееся в районе боевых действий, хотя и страдало от поджогов, грабежей, насилий, но смотрело на них, как на привычное стихийное бедствие. Муниципальная администрация, передав город противнику, оставалась на своих местах. Завоеватель ограничивался контрибуцией, и жизнь текла по-прежнему. Если возвращался предыдущий хозяин, то ему и в голову не приходило наказывать горожан за отступничество. Недовольство Фридриха кенигсбержцами, присягнувшими русской императрице, выразилось только в том, что после войны он никогда не появлялся в Кенигсберге.
Русские войска расположились на зимние квартиры в Кенигсберге и его окрестностях. Фермор был назначен губернатором Восточной Пруссии. Один немецкий источник так описывает пребывание русских в Кенигсберге: «Фермор пресекал все нарушения установленного порядка, грабителей расстреливал. Регулярно посещал он со своими офицерами… университет, официальные церемонии в актовом зале и лекции Канта. Русская императрица хотела показать себя с лучшей стороны, поэтому правление было поручено гуманным с справедливым офицерам. Фермор ввел новые для здешних нравов порядки – устраивались праздничные обеды с деликатесами русско-французской кухни, балы, маскарады, в которых и молодой Кант принимал деятельное участие. Кенигсберг пробудился от провинциализма».
В летнюю кампанию Фермор планировал наступление на беззащитный Берлин, но Фридрих успел возвратиться из Силезии и прикрыть столицу. В своих бюллетенях он возвещал, что идет освободить свое королевство от грабежей и неистовств «русской орды». Он был намерен продемонстрировать своим генералам, как следует бить «дикарей». Фермор не решился двигаться дальше и занял оборонительные позиции у Цорндорфа. Здесь, 14 августа, 42-тысячная русская армия целый день отбивала атаки 33 тысяч солдат Фридриха. Солдаты обеих армий поклялись не давать пощады неприятелю. К вечеру, когда у каждой из сторон выбыло из строя по трети солдат, русские все еще сохраняли позиции. «Их можно перебить всех до одного, но не победить!» – бормотал король, вспоминая, быть может, прошлогодний разговор с Кейтом.
На следующий день Фермор отдал приказ об отступлении. Пруссаки бросились вдогонку, но были остановлены убийственным огнем единорогов и «шуваловских» гаубиц.
Привычная схема ведения боя на этот раз не сработала, однако Фридриху некогда было размышлять, в чем тут дело. Он уже спешит в Силезию, чтобы отразить австрийскую армию генерала Лаудона и терпит поражение под Гохкирхеном. Фортуна капризничает. Наполеон, хорошо изучивший повадки этой дамы, говорил, что нельзя удачно воевать более 15 лет подряд. Возможно, что к этому выводу его привел опыт не только собственной жизни, но и жизни Фридриха, чью военную деятельность он ценил очень высоко и внимательно изучал.
Все же и 1758 год не принес коалиции ощутимых успехов. Зима вновь развела сражающихся на прежние места.
Первые три года войны Суворов в составе Казанского пехотного полка находился в Прибалтике в войсках, подчиненных фельдмаршалу А.Б. Бутурлину. Несмотря на близость района боевых действий, работа ему была поручена чисто тыловая – формирование резервных батальонов. Должность спокойная, негромкая. Сколько желающих занять ее нашлось бы в действующей армии, а вот, поди ж ты – досталась она Суворову!
Долго на этой должности Александр Васильевич не высидел. Добрые отношения с Бутурлиным позволяют ему добиться от него разрешения препроводить 17 сформированных батальонов в Пруссию. Ближе, как можно ближе к местам сражений! Он ведет новобранцев по тем же дорогам, по которым недавно шла русская армия, и время от времени оглядывается на них: эх, с такими бы молодцами, да в бой! Он совсем не прочь попасть в засаду или натолкнуться на какой-нибудь заблудившийся прусский отряд. Воображение живо рисует ему за показавшейся деревней черные мундиры прусских гренадер. Вот они заметили его, засуетились, спеша построиться в боевой порядок. Нужно немедленно атаковать, не дать опомниться. Батальоны, в две линии стройся! Стрельба плутонгами17, огонь! За мной, ребята, с Богом!.. Пруссаки бегут, и Суворов со вздохом вновь утыкается в Плутарха.
В Мемеле Суворов сдает батальоны и получает новое назначение – он комендант города. Его танталовы муки продолжаются. Он ежедневно видит войну, повозки с ранеными, тянущимися с запада, свежие полки, проходящие через город; командированные офицеры привозят самые последние новости из армии. Суворов устраивает одних, провожает других, улаживает тысячи хозяйственных и административных дел и ищет, ищет способа добиться перевода в действующую армию. Сделать это, в общем, не трудно, достаточно замолвить словечко перед начальством, но у Суворова нет протекции, он малоизвестен и чересчур самостоятелен. Сложную механику чиновыдвижения он освоит гораздо позже, а пока он молод и надеется только на себя, на свои способности и служебное рвение.
И Суворов добивается своего. В 1759 году в чине подполковника отправляется в армию, вначале адъютантом к генералу князю М.Н. Волконскому, а вскоре получает должность дивизионного дежурного (дежурный штаб-офицер) при Ферморе. С главнокомандующим у него сразу и навсегда устанавливаются самые теплые отношения. Исполнительный, скромный офицер пришелся по душе Фермору. Престарелый генерал-аншеф доверяет Суворову, поручает ему ответственные задания и в то же время ласково опекает его, проявляя почти отеческие чувства. «У меня были два отца – Суворов и Фермор», —напишет Александр Васильевич 30 лет спустя. Правда, весной этого же года Фермор был заменен на посту главнокомандующего генерал-аншефом графом П.С. Салтыковым, но, оставляя пост, он рекомендовал тому подполковника Суворова в самых лестных выражениях. Суворов остался на этой же должности, и Салтыков мог быстро убедиться в справедливости данной ему рекомендации. Его помощник отлично разбирается во всех мелочах армейского быта, и в то же время способен широко охватить оперативную обстановку в целом, оценить ее и отдать необходимые распоряжения, не тревожа главнокомандующего по пустякам. Салтыков настолько полагается на Суворова, что на время своей болезни поручает ему временно заменить себя. Суворов не боится ответственности и смело подписывает приказы по армии: «Дежурный подполковник Суворов».
В этом году союзникам, наконец, удалось договориться о совместных действиях против Пруссии. 40-тысячная армия Салтыкова ринулась в Силезию на соединение с 24-тысячным корпусом австрийского генерала Лаудона, состоявшим в основном из кавалерии. По пути русские заняли Кроссен – это было первое дело, которое наблюдал Суворов. Объединенная русско-австрийская армия 12 июля легко разгромила под Пальцигом 27-тысячный корпус Веделя и двинулась на Берлин. Одновременно с запада в Пруссию вторглись французы.
Фридрих перепоручил французов заботам Фердинанда Брауншвейгского, а сам с 48 тысячами солдат, как и в прошлом году, бросился на защиту столицы. Как и в прошлый раз, он успел преградить путь Салтыкову и Лаудону, и так же, как тогда он был уже уверен в победе, еще не увидев неприятеля.
31 июля противники расположились на ночлег друг против друга у деревни Кунерсдорф. Молчаливо признавая право за Фридрихом атаковать, Салтыков расположил армию на трех холмах позади деревни и распорядился укрепить позиции инженерными сооружениями. Лаудон встал в резерве. Фридрих вытянул свои войска полукругом, нависнув над левым флангом русских, позади которого находились болота. Король был в превосходном расположении духа. Накануне он принял курьера от герцога Брауншвейгского с донесением о победе над французами при Миндене. Фридрих приказал гонцу оставаться в лагере, чтобы завтра отвезти герцогу такое же известие.
Наутро 1 августа, едва рассеялся туман, прусская артиллерия открыла огонь по расположению русских войск. В половине одиннадцатого правый фланг Фридриха, усиленный дополнительной линией, при поддержке кавалерии, нанес косой удар по левому крылу русских. В подзорную трубу король наблюдал, как его пехота стройными шеренгами всходит на холм, время от времени окутываясь клубами порохового дыма, как бешено несутся в тыл русским страшные гиганты-кирасиры на огромных конях. Через какой-нибудь час ему донесли, что левого фланга русских больше не существует, не менее 3 тысяч их навсегда остались лежать на холме Мюльберг. Фридрих еще раз взглянул в трубу, удовлетворенно кивнул – для него ничего неожиданного не произошло – и тотчас написал две записки, герцогу Брауншвейгскому и городским властям Берлина, с извещением о полном разгроме «варваров». Правда, до полного разгрома оставалось еще окружить центр русских и оттеснить резерв Лаудона, но это был уже вопрос времени. Кто же может серьезно сопротивляться, не имея одного фланга? Два курьера понеслись к королевским адресатам, воткнув в шляпы зеленые ветви победы.
Однако, к удивлению Фридриха, на двух остальных холмах русские не трогались с места, в их рядах не было заметно ни паники, ни расстройства. Возглавлявший центр русской армии 34-летний П.А. Румянцев, пользуясь тем, что болото за спиной у русских мешает прусской кавалерии зайти ему в тыл, поспешно разворачивал орудия и перестраивал войска, готовясь выдержать фронтальный и фланговый удары. Центр стал одновременно и флангом! Фридриху приходилось начинать все с начала.
Впрочем, король не видел причин для беспокойства. Даже первые неудачные атаки на центральный холм не испортили ему настроение. Он подшучивал над своими бегущими солдатами и сам перестраивал их для новых атак.
В четвертом часу Фридриху стало не по себе. Холм Большой Шпиц был усеян телами его гренадеров, а русские не подались не на шаг, их батареи продолжали равномерно изрыгать на пруссаков груды ядер и картечи. Изнуренная, перепачканная грязью кавалерия возвратилась на позиции ни с чем. Угрюмые всадники не смели поднять глаза на короля. Во многих полках сменилось по нескольку командиров. Глядя на измученных людей, Фридрих понимал, что они сделали сегодня все, что смогли. Нехорошие предчувствия начинали пробуждаться в его сердце. Во что бы то ни стало нужна была передышка.
Тяжелый зной повис над полем. Солнце тускло блестело на запыленных кирасах, шлемах, пуговицах, конской сбруе… Атаки прекратились. Только ядра еще свистели над головами, время от времени вырывая по нескольку человек из рядов. Фридрих кусал губы: что же – еще один Цорндорф? Что за солдаты у этих дикарей?!
В пятом часу на холмах задвигались, артиллерийский огонь усилился. У Фридриха отлегло от сердца – значит, все-таки, отступают. Разгрома не получилось, но победа есть победа.
Король поднес к глазам подзорную трубу, чтобы решить, в какое место лучше бросить кавалерию для преследования, и чуть не вскрикнул от удивления – русские шеренги одна за другой спускались с холмов на равнину и строились для атаки! Для своей первой атаки в этой войне.
С барабанным боем, распустив знамена, русские приближались размеренным шагом, останавливались, давали залп и шли дальше, на ходу перезаряжая ружья. Первая линия прусских войск не выдержала, дрогнула, и, сломав строй, побежала назад. Фридрих на коне бросился наперерез.
– Стойте, негодяи! Вы что же, надеетесь жить вечно? – кричал он бегущим, размахивая шпагой. – Назад, назад, ваш король сам поведет вас!
Призыв подействовал, солдаты устремились вслед за Фридрихом на русские штыки. Противники смешались в беспорядочной свалке. Больше часа ничего нельзя было понять. Эта неизвестность удерживала обе стороны от бегства. Под Фридрихом убило двух лошадей; его мундир был прострелен. С обезумевшим взором король то отъезжал в сторону, чтобы выслушать донесения и отдать распоряжения, то снова бросался в гущу сражавшихся. Известия были неутешительные: почти все его генералы ранены, на правом фланге союзников введен в бой нетронутый резерв Лаудона. Пруссаки дрогнули.
Атака гусар Лаудона решила исход боя. Они опрокинули доселе непобедимых всадников непревзойденного Зейдлица18 и обрушились на тылы прусской армии. К семи часам вечера все было кончено. Преследуемые пруссаки бросали оружие, сдавались в плен. Фридриха видели в самых горячих местах – там, где еще сопротивлялись. Он уже не командовал, не ободрял, не грозил. Он недоумевал: если удача отвернулась от него, то почему он до сих пор не ранен, не убит, почему он должен видеть все это? «Неужели для меня не найдется ядра?» – шептал он, видя, как вокруг него падают люди.
Наконец, полностью сломленный, он отъехал к обозам, спешился, воткнул шпагу перед собой в землю и застыл, скрестив руки на груди. Его глаза были влажны от слез. Неподалеку от него австрийские гусары уже грабили повозки, а он стоял, всеми забытый и никому не нужный. По счастью, какой-то конный отряд узнал своего короля и увлек его за собой. По дороге Фридрих пришел в себя и черкнул одному из министров короткую записку: «Я несчастлив, что еще жив. От армии в 48 тысяч человек у меня не остается и 3 тысяч. Когда я говорю это, все бежит, и у меня уже нет больше власти над этими людьми… Жестокое несчастье! Я его не переживу. Последствия дела будут хуже, чем оно само. У меня нет больше никаких средств и, сказать по правде, я считаю все потерянным…» Король приказывал вывезти из Берлина свою семью и государственный архив. Всего 8—10 часов отделяло эту записку от двух, посланных утром с известием о полной победе над русскими.
Под Кунерсдорфом Фридрих потерял 19 тысяч убитыми, всю артиллерию, обоз и знамена. Но и союзники не сразу оправились от победы. 18 тысяч их – в основном это были русские – оплатили ее своими жизнями. «Ваше Императорское величество не удивитесь великой потере нашей: король прусский не продает дешево побед», —писал Салтыков Елизавете. Из Петербурга пришел рескрипт с благодарностью. Салтыкову присваивалось звание фельдмаршала, все участники сражения награждались медалью с высеченной надписью: «Победителю над пруссаками».
Теперь перед Салтыковым открывались по крайней мере три возможности: идти на беззащитный Берлин, или попытаться совместно с французами зажать в клещи армию герцога Брауншвейгского, или сделать и то, и другое, все равно в какой очередности. Салтыков предпочел четвертое: рассорившись с австрийским главнокомандующим фельдмаршалом Дауном, не желавшим признавать первенство Салтыкова в определении дальнейших действий, он отвел войска в Восточную Пруссию. «Мы много сделали, теперь ваша очередь», —заявил он растерявшимся австрийцам.
Фридрих ошибся, когда писал, что последствия Кунерсдорфа будут хуже, чем само поражение: он ставил себя на место врагов, а это оправдано только в том случае, если имеешь дело с равными. Салтыков же при всей своей смелости относился к тем полководцам, которым судьба, отдавая должное мужеству их солдат, изредка дарит славные, но бесплодные победы.
На Суворова эта бесполезная бойня произвела тяжелое впечатление. Отметив про себя энергичные действия Румянцева, он не скрывал своего возмущения Салтыковым:
– На месте главнокомандующего, я бы сразу пошел в Берлин, – заявил он в беседе с Фермором.
Это первое известное нам критическое замечание Суворова. Пора ученичества заканчивалась. «Я сам, будучи зачислен в армию, после долгой и честной службы, три года никуда не годился, – вспоминал он. – Они (полковники) расслабляют своих офицеров… сибариты, но не спартанцы… Делались генералами – подкладка остается та же». Штабная работа больше не удовлетворяет его. Быть инструментом в руках «сибаритов» – увольте! Лучше уж хоть со взводом, но в поле.
Суворов уже готов нести ответственность – за дело, за людей, за свои решения.
Некоторое время после поражения при Кунерсдорфе Фридрих пребывал в полном отчаянии относительно своего будущего. У него опускались руки, и приближенные слышали из уст короля одни лишь жалобы на судьбу. «У меня нет больше ничего, все погибло. Я не переживу разорения моей страны. Прощайте навсегда», —писал он своей семье. Казалось, несчастья окончательно сразили его. Король сделался угрюм, страшно исхудал, на его глаза часто без причины навертывались слезы. Все знали, что он стал постоянно носить с собой яд, чтобы не попасть живым в руки врагов.
Но зима прошла, и Фридрих вернулся к жизни, преображенный страданиями. «Тяжело страдать так, как я страдаю. Я начинаю чувствовать, что, как говорят итальянцы, мщение есть наслаждение богов. Моя философия подорвана страданием. Я не святой… и признаюсь, что умер бы довольным, если бы мог сперва передать другим долю того несчастья, которое я терплю», – признается он. Мысль о мщении электризует его волю, с нею он ложился спать и пробуждается ото сна. «Дарий, помни об афинянах», – повелел ежедневно напоминать себе персидский царь; Фридрих не нуждается в подобном напоминании, он живет мщением.
И все-таки его возможности уже на пределе. В кампанию 1760 года он еще расстраивает неумелые действия Салтыкова и Дауна, вялыми маневрами в Силезии понапрасну изнурившими свои армии, но достигает этого ценой величайшего напряжения сил. Отчаяние подстегивает короля, он бросается из одной битвы в другую, делает 150 верст в пять дней, рискует, производя фланговые марши на расстоянии пушечного выстрела от неприятеля, совершает головокружительный бросок сквозь три армии и все же, выигрывая в одном месте, теряет в трех. Фридрих понимает, что он обречен, но он уже не в силах заставить себя прекратить бойню. Как зачарованный смотрит он в глаза судьбе, которая почему-то медлит нанести ему смертельный удар.
«Погибну, раздавленный развалинами моего отечества, но ничто не заставит меня подписать моего бесславия», – говорит он перед сражением под Торгау, где после гибели с обеих сторон больше 20 тысяч человек австрийцы оставляют ему поле боя.
Наступательные действия русской армии в этом году ограничились набегом на Берлин, в котором принял участие и Суворов. На этот раз Фридрих не смог прийти на выручку своей столице. 24 сентября отряд генерала Тотлебена, составлявший авангард русской армии, подошел к городу и попытался овладеть им. Берлинский гарнизон состоял всего лишь из трех батальонов, но сумел отбить атаку. Тотлебен расположился под стенами Берлина, ожидая подхода дивизии П.И. Панина и австро-саксонского корпуса Ласси. В ночь на 28 сентября прусские батальоны покинули город. Наутро Берлин был занят союзниками. На городскую казну была наложена контрибуция, а казаки и гусары занялись усиленным грабежом городских и загородных дворцов, не обращая внимания на попытки командиров прекратить беспорядки.
Участие Суворова в берлинской операции вряд ли выходило за рамки штабной работы. Известен лишь один эпизод, связанный с его пребыванием в Берлине. Суворов увидел у казаков красивого мальчика, отнятого, как выяснилось, у некоей вдовы вместе с прочей добычей. Ребенок приглянулся Суворову, и он взял его к себе, выкупив у казаков. Некоторое время мальчик находился при Суворове, а по прибытии русской армии на зимние квартиры, Александр Васильевич отправил матери мальчика письмо: «Любезнейшая маменька, ваш маленький сынок у меня в безопасности. Если вы захотите оставить его у меня, то он ни в чем не будет терпеть недостатка, и я буду заботиться как о собственном сыне. Если же желаете взять его к себе, то можете получить его здесь или напишите мне, куда его выслать». Мать, конечно, предпочла, чтобы сына ей «выслали». История довольно странная и не проясненная другими источниками.
Приближение Фридриха с 70-тысячным войском заставило русский отряд покинуть Берлин и присоединиться к остальной армии, уже расположившейся на зимние квартиры в Польше. Кратковременное пребывание русских в Берлине не имело военного значения, а грабежи и контрибуции только усилили ожесточение пруссаков.
Зимой 1760—1761 годов Суворов часто посещал Кенигсберг. Дело в том, что в декабре губернатором королевства Прусского был назначен его отец, Василий Иванович, ставший к тому времени уже сенатором. Василий Иванович сменил на этой должности генерала Корфа и оставался на ней до окончания войны. В отличие от предыдущего губернатора, жившего на широкую ногу, Василий Иванович больше заботился о доходах государства, сам же жил скромно, и только приезд двух его дочерей, Анны и Марии, заставил его изредка давать у себя балы. Зато Кенигсберг при нем все больше превращался в русский город: здесь чеканилась русская монета, появилась русская духовная миссия во главе с архимандритом. Умелым и осторожным администрированием Василий Иванович оставил по себе добрую память, о его гуманном управлении немецкие газеты вспоминали еще и полвека спустя.
Чем занимался Суворов во время наездов в Кенигсберг, мы не знаем. Конечно, заманчиво представить его слушающим лекции Канта, но для этого нет документальных оснований. Впрочем, то, что он занимался самообразованием, не подлежит сомнению. Жизнь Суворова рано приобрела размеренный ритм: когда Суворов не воевал, он читал. Обычно, кроме русских книг, газет и журналов, его интересовали издания на немецком и французском языках. Известно также, что Суворов посещал немецкие масонские ложи, но вряд ли это было чем-то большим, чем любознательность. Суворов не только никогда не высказывал неудовлетворенности учением Русской православной церкви, но, как уже говорилось, находил живейшее удовольствие в чтении священных книг и участии в церковной жизни.
Влияние отца помогло Суворову покинуть штаб. Впрочем, его имя приобрело уже некоторую известность в армии и без протекции. Генерал Берг даже выпрашивал Суворова под свое начало и получил от нового главнокомандующего, фельдмаршала А.Б. Бутурлина, положительный ответ: «Так как генерал-майор Берг выхваляет особливую способность подполковника Казанского пехотного полка Суворова, то явиться ему в команду означенного генерала». Суворов немедленно сдает дела и летит представляться Бергу. К его удивлению, он получает назначение в кавалерию.
Бутурлину было назначено соединиться с Лаудоном и отвоевать у Пруссии многострадальную Силезию. И вновь русские и австрийцы, словно масло и вода, не смогли объединиться и теряли время в бесплодных препирательствах. В результате 100-тысячное войско союзников было вынуждено отступить перед 50-тысячной армией Фридриха, истребившей неприятельские магазины и лишившей его тем самым возможности глубоких маневров. Война продолжалась лишь в Померании, где особый корпус П.И. Румянцева осаждал крепость Кольберг – опасный клык, который мог вонзиться в спину русской армии и который нужно было вырвать как можно быстрее. Кольберг фактически являлся последней боеспособной прусской крепостью и, понимая это, Фридрих отрядил на помощь его гарнизону 12-тысячный корпус генерала Платена. В июле Платен появился в тылу у Румянцева. Навстречу ему был послан Берг, чтобы не допустить прорыва осады.
Летом 1761 года Суворов впервые участвует в сражениях как полевой офицер. Его боевое крещение состоялось у деревни Рейхенбах, где он был атакован сильным отрядом генерала Кноблоха. О деле не сохранилось подробностей. Сражение ограничилось только одним артиллерийским огнем, от которого взорвались зарядные ящики пруссаков, и они отступили. Суворов ограничился пассивной обороной и не преследовал неприятеля: похоже, он несколько растерялся. Ничто в этом сражении не напоминает будущего «генерала вперед». Однако он быстро обретает свой стиль боя – глазомер, быстрота, натиск. Через несколько недель под Швейдницем, где укрылся король, Суворов с 60 казаками троекратно атакует на холме прусскую заставу из 100 гусар, наконец сбивает их с холма, дожидается подкреплений и с боем доходит до ретрашементов королевского лагеря. Ему уже ясно видны шатры королевской квартиры… Пленный гусар рассказывает, что у Фридриха в Швейднице трехмесячный боевой продовольственный запас. Суворов умоляет Берга скрыть показания пленного от Бутурлина, чтобы не сбить наступательный порыв, но Берг не слушает его. Испуганный Бутурлин немедленно отходит.
На реке Варте Суворов вместе с донским полковником Туроверовым кавалерийским наскоком захватывает город Ландсберг, кладет около 50 вражеских гусар, сжигает полмоста и надолго задерживает переправу войск Платена. А у Фридбергского леса Суворов уже самостоятельно наголову разбивает авангард Платена и берет в плен почти всех вместе с артиллерией. Платен отводит войска за Гольнау, оставив в городе небольшой гарнизон. Суворов подходит к городу одним из первых, но разбить городские ворота артиллерийским огнем никак не удается. Атаковать наобум невозможно – Гольнау прикрыт рекой с единственным охраняемым пруссаками мостом. Но видя сосредоточение русских, пруссаки отходят сами, оставив у моста для прикрытия несколько батарей и конницу. Суворов с подкреплениями стремительно атакует, в один миг оказывается на другом берегу у городских ворот… вдвоем с поручиком Таубуриным. Казаки жмутся на берегу, крича «назад» увлекшимся командирам. Но те не слышат. Приходится выручать их, и русские под огнем проламывают городские ворота. Суворов врывается на городские улицы в первых рядах и сразу натыкается на пушку; звучит выстрел, и он летит на землю вместе с лошадью. Солдаты оттаскивают его и приводят в себя: жив! Первая контузия – в ногу и грудь картечью. В ожидании полкового лекаря Александр Васильевич самостоятельно промывает рану водкой.
В ноябре-декабре Суворов замещает заболевшего командира Тверского драгунского полка и участвует «в разных неважных акциях и шармицелях»19. Берг неизменно отмечает действия Суворова в своих донесениях командующему, говоря, что «Суворов быстр при рекогносцировке20, отважен в бою и хладнокровен в опасности», а Бутурлин сообщает В.И. Суворову, что сын его «у всех командиров особливую приобрел любовь и похвалу». В служебном формуляре Александра Васильевича за 1761 год сказано, что он с порученными ему командами участвовал более чем в 60 больших и малых стычках. В большинстве из них уже чувствуется почерк будущего великого полководца. Суворов и в старости гордился своими схватками со знаменитой конницей Фридриха.
При осаде Кольберга Румянцев сделал главное тактическое открытие XVIII века. Поскольку на пересеченной местности было трудно сражаться в линейном строю, то Румянцев начал использовать стрелков в рассыпном строю, а пехоту строить ударными колоннами. Румянцевские стрелки положили начало зарождению егерской пехоты, а под натиском колонн трещали любые линейные боевые порядки, пусть даже и усиленные дополнительной линией. Атака холодным оружием уже давно стала обычным делом в прусской кавалерии, но наступательный штыковой удар родился в русской армии. Открытие Румянцева оценили вначале немногие (англичане еще и десять-пятнадцать лет спустя будут действовать сомкнутыми линиями против американских фермеров-партизан; прусская же армия осознает преимущества колонн перед косым ударом только после йенского разгрома21), среди этих немногих был и Суворов.
Сочетание ударных колонн с рассыпным строем оказалось необычайно действенным – Кольберг не устоял: в ночь на 5 декабря 1761 года его гарнизон капитулировал.
Пруссия оказалась на краю гибели. Под знаменами короля находилось едва 50 тысяч необученных новобранцев, но население, истощенное военными поборами, не могло содержать и их. По словам самого короля, страна «лежала в агонии, ожидая последнего обряда». Фридрих писал в те дни: «Как суров, печален и ужасен конец моего пути… Я не могу избежать своей судьбы; все, что человеческая осторожность может посоветовать, все сделано, и все без успеха. Только судьба может спасти меня из положения, в котором я нахожусь».
Фридрих не знал тогда, что впереди его ждет еще 24 года спокойного царствования, что все его авантюры не только не низвергнут Пруссию в политическое небытие, но вдвое увеличат ее территорию, что история уже припасла для него титул «Великий»… Судьба отлично выдержала паузу. Помучив своего любимца, она 25 декабря 1761 года отправила ему оливковую ветвь мира из Петербурга: в этот день скончалась императрица Елизавета. Наследник российского престола Петр III поверг весь двор (а потом и всю Европу) в недоумение и ужас тем, что, выскочив из-за стола со стаканом вина в руке, пал на колени перед портретом прусского короля с криком: «Любезный брат, мы покорим с тобой всю Вселенную!»
Фридрих слушал эти новости и плакал. Он охотно бы ущипнул себя, если бы не боялся, что происходящее может действительно оказаться всего лишь сказочным сном.
Русское общество, как подобает добрым подданным, оплакивало кончину Елизаветы, которую поругивало при жизни, и с опаской взирало на нового российского императора. «Родившись и проводив все дни под кротким правлением женским, все мы к оному так привыкли, что правление мужское было для нас очень ново и дико, —несколько наивно признается Болотов. – Все мы наслышались об особливостях характера нового государя и некоторых неприятных чертах оного». Действительно, контраст между доброй, умной, хотя несколько безалаберной и своенравной Елизаветой и назначенным ею самой наследником слишком бросался в глаза. Карл-Петр-Ульрих, герцог Голштинский был, по словам Ключевского, самым неприятным явлением из всего неприятного, что оставила после себя императрица. Пожалуй, никогда еще на российский престол не всходила более одиозная фигура.
Голштинские герцоги долгое время терпели притеснения от Дании, где царствовала старшая ветвь их фамилии. Сильнейшие державы Севера принимали участие в этой вражде, поэтому голштинские герцоги обыкновенно были женаты на принцессах шведского или российского домов. По нелепости, которыми богата история европейских династий, в лице Карла-Петра-Ульриха совершилось загробное примирение двух величайших соперников начала XVIII века: голштинский принц был сыном дочери Петра I и внуком сестры Карла XII. Вследствие этого владельцу маленького герцогства грозила серьезная опасность стать наследником двух крупных престолов – шведского и российского. Счастье иметь его своим государем было вначале предоставлено Швеции. Принца заставили учить лютеранский катехизис, шведский язык и латинскую грамматику; в нем воспитывали любовь к равенству и уважение к закону, подкрепляя уроки гуманизма частой поркой. Но Елизавета, не имевшая детей, командировала майора Корфа с поручением во чтобы то ни стало взять ее племянника из Киля и доставить в Петербург. Корф повел дело очень удачно, шведский престол был предоставлен дяде герцога, а сам он, с удовольствием отбросив катехизис и латынь, предстал перед Елизаветой 14-летним круглым неучем, поразив своим невежеством даже императрицу, не отличавшуюся особой начитанностью. Голштинского герцога Карла-Петра-Ульриха преобразили в великого князя Петра Федоровича и заставили изучать русский язык и православный катехизис.
Быстрая смена обстоятельств, впечатлений и программ воспитания вконец сбили его с толку. Принужденный учиться то одному, то другому, без связи и порядка, Петр кончил тем, что не научился ничему и совсем перестал понимать окружающее. Он казался ребенком, вообразившим себя взрослым, на самом же деле это был взрослый человек, навсегда оставшийся ребенком, и причем ребенком раздражительным, вздорным, лживым и упрямым. Наследник выглядел весьма несуразно в искаженном прусском наряде: штиблеты он всегда стягивал так крепко, что не мог сгибать колен и принужден был садиться и ходить с вытянутыми ногами; узкий прусский мундирчик уродливо обтягивал его тщедушное тельце, а большая, необыкновенной формы шляпа прикрывала маленькое, злобное личико, которое он еще более безобразил беспрестанным кривляньем. Отпечаток легкомысленного ребяческого кривлянья лежал и на всех мыслях, словах и поступках наследника. На серьезные вещи он смотрел детским взглядом, а к детским затеям относился с серьезностью зрелого мужа. В зрелом возрасте он не расставался со своими любимыми куклами, с которыми его не раз заставали посетители. Самым сильным его увлечением был Фридрих II, перед военной славой и стратегическим гением которого он преклонялся до такой степени, что во время войны пересылал ему сведения о русской армии.
Поскольку экспериментировать с русской армией ему еще не позволяли, Петр велел понаделать себе восковых, свинцовых и деревянных солдатиков. Он часами расставлял их в своем кабинете на столах, дергая за протянутые шнурки, издававшие звук, похожий на беглый ружейный огонь. Уже будучи женат на великой княгине Екатерине (будущей императрице), он всякий день скрывался с ней от глаз на несколько часов. Елизавета, ожидавшая, что результатом этих уединений будет рождение второго наследника, не подозревала, что Петр всего лишь демонстрирует жене воинские приемы и свое умение стоять на часах. «Мне казалось, что я годилась для чего-нибудь другого», —вздыхала великая княгиня, рассказывая эти подробности («другим» ей приходилось заниматься с молодым Салтыковым и блестящим Понятовским). Однажды Екатерина, вошедшая к мужу, была поражена представившимся ей зрелищем: с потолка на веревке свисала большая крыса. На вопрос Екатерины, что это значит, Петр отвечал, что крыса совершила уголовное преступление, жесточайше наказуемое по военным законам – она забралась на картонную крепость, стоявшую на столе, и съела двух часовых из крахмала. Преступницу изловили, предали военно-полевому суду и приговорили к виселице.
Чтобы усвоить себе привычки и манеры прусского солдата, Петр начал выкуривать непомерное количество табаку и выпивать неимоверное количество бутылок пива, полагая, что без этого невозможно стать «настоящим бравым офицером». Склонность к шутовству глубоко укоренилась в нем. Однажды он без причины обидел придворного, и, почувствовав свою вину, предложил тому дуэль. Неизвестно, что подумал придворный, но оба они направились в лес, обнажили шпаги и встали в позицию в десяти шагах один от другого. Какое-то время они топтались на месте, стуча по земле своими большими сапогами. Вдруг Петр остановился, сказав: «Жаль, если столь храбрые как мы, переколемся. Поцелуемся».
Общество жены Петр вскоре поменял на объятия Елизаветы Романовны Воронцовой, девицы, во всем его достойной. Болотов, полюбопытствовавший видеть фаворитку наследника, пришел в ужас от ее «толстых, нескладных, широкорожих, дурных и обрязглых» прелестей и уверял, что «всякому даже смотреть на нее было отвратительно и гнусно». Возможно, что странная привязанность наследника к этой женщине объяснялась тем, что Воронцова выказывала больше склонности к совместным военным экзерцициям.
Сама Елизавета приходила в отчаяние от характера и поведения племянника и не могла вынести его присутствия больше четверти часа. У себя в комнатах, когда заходила о нем речь, императрица заливалась слезами и жаловалась, что Бог дал ей такого наследника. Потом она вспоминала, что в этом виноват не Бог, а она сама и чертыхалась, называя Петра «проклятым племянником»:
– Племянник мой – урод, черт его возьми!
Под конец ее жизни поговаривали даже, что она была не прочь отослать его назад в Голштинию, а наследником назначить его шестилетнего сына Павла, но ее фавориты, замышлявшие это, не решились на такой шаг.
Петр, не подозревая миновавшей беды, все же вступил на престол со смешанными чувствами беспечности и робости. Россия пугала его, как маленького ребенка пугает большая комната, в которой он остался один. Он ничего не понимал в России, называл ее проклятой страной и в минуты какого-то странного прозрения выражал уверенность, что ему суждено в ней погибнуть. Но и эти предчувствия нисколько не вызывали у него стремления сблизиться со страной, властителем которой он стал; наоборот, он ничего не хотел знать о России и чуждался всего русского. Став российским императором, Петр сделался еще более голштинцем, чем был дома. В огромной стране он создал себе собственный прусско-голштинский мирок, в котором попытался укрыться от страшившей его России. Но к своему несчастью, он не мог оставить ее в покое и не раздражать своими капризами. Петр завел особую голштинскую гвардию из разноплеменного чужеземного сброда, по большей части капралов и сержантов прусской армии. То была, по выражению княгини Дашковой, «сволочь, состоявшая из сыновей немецких сапожников». К этим гвардейцам по временам присоединялись заезжие певцы и актрисы. Император всерьез считал себя недурным скрипачом и флейтистом и любил музицировать в этой компании. На беду, он еще и подозревал в себе большой комический талант, потому что довольно ловко строил разные смешные гримасы. Он находил забавным передразнивать священников в церкви и высмеивать русские придворные обычаи. Так, он нарочно заменил старинный русский поклон французским приседанием, чтобы потом изображать в своем кругу неловкие книксены пожилых дам. К слову, одна из них, после неудачной попытки Петра развеселить ее гримасами, презрительно отозвалась о нем, что он совсем не похож на государя.
Этот голштинец шагу не мог ступить, чтобы не опрокинуть какого-либо русского обычая, верования или предрассудка. Он одним росчерком пера перечеркнул все успехи русской армии в Семилетней войне, не только немедленно заключив с Фридрихом мир, но и подписав с Пруссией договор о совместных военных действиях против бывших союзников России. В распоряжение прусского короля был направлен русский корпус. Нисколько не стесняясь русских государственных деятелей и военных, Петр публично называл прусского короля не иначе, как «король, мой повелитель, мой государь». Предметом его гордости и тщеславия был пожалованный ему Фридрихом прусский орден, который он носил на своем тесном прусском мундире с видом человека, отмеченного Божьей десницей. В русской внешней политике хозяйничал прусский посланник, всем распоряжавшийся при дворе Петра. Желая, чтобы тот пользовался благосклонностью всех придворных красавиц, Петр запирал его с ними и с обнаженной шпагой становился на караул у дверей. Когда великий канцлер однажды явился к нему с делами в такой час, Петр сказал: «Отдавайте свой отчет принцу Георгу. Вы видите, что я солдат». Принц Георг был ему дядя, служивший некогда генерал-лейтенантом у прусского короля; ему-то Петр иногда говорил: «Дядюшка, ты плохой генерал, король выключил тебя из службы».
Русские, глядя на все это, молча «скрежетали зубами» (Болотов). Но еще худшие чувства испытывали те, кому доводилось услышать речи императора в его сапожно-артистической компании: он то вдруг начинал развивать невозможные преобразовательные планы, то с эпическим воодушевлением принимался рассказывать о небывалом победоносном своем походе на цыганский табор под Килем, то просто выбалтывал в присутствии иностранных министров какую-нибудь государственную тайну. К тому же, вступив на престол, Петр редко доживал до вечера трезвым и все свои речи произносил, будучи сильно навеселе. У придворных, сохранивших хоть каплю чести, сердце обливалось кровью за своего государя.
За пиршествами следовали ужасные экзерциции, которыми Петр теперь вдоволь изнурял настоящих, а не игрушечных солдат. Ни чин, ни возраст не освобождали от маршировки. Сановные люди, давно не видавшие плаца, успевшие обзавестись к тому же ревматизмом и подагрой, должны были выделывать все военно-балетные артикулы прусского военного устава под командой капралов Фридриха. Современники не могли надивиться, как времена переменились, как, по выражению Болотова, ныне больные и здоровые и старички самые поднимают ножки и наряду с молодыми маршируют и так же хорошехонько топчут и месят грязь, как и солдаты.
Со всем тем Петр порой бывал способен на нечто, похожее на справедливость. Двое ближайших к нему любимцев, обещавшие кому-то за деньги ходатайствовать перед императором, были жестоко биты им собственноручно; он отнял у них деньги и продолжал обходиться с ними с прежней милостью. Иностранец донес ему о некоторых возмутительных словах; Петр отвечал, что ненавидит доносчиков, и повелел его наказать. Впрочем, подобные поступки в это царствование кажутся выдающимися именно в силу их редкости.
При Петре было издано несколько дельных указов: упразднена Тайная канцелярия, запрещено преследовать за раскол, бежавшим за границу раскольникам было разрешено вернуться в Россию. Он возвратил из Сибири многих лиц, казалось, навсегда забытых и теперь наводнивших дворец, подобно бледным теням прошлого. В толпе придворных вновь показался Бирон, некогда всесильный временщик, умертвивший 11 тысяч человек и говоривший позже, что Петр III погубил себя мягкостью, ибо русскими надо повелевать не иначе, как кнутом и топором. 82-летний Миних после двадцатилетней ссылки был встречен тридцатью тремя своими потомками, о существовании которых он не имел представления. Двадцать лет назад он спокойно взошел на эшафот, где его должны были рубить на части, и с тем же лицом выслушал прощение Елизаветы с заменой казни вечной ссылкой; теперь он плакал. Петр попытался помирить давних врагов, уговаривая их выпить вместе. Он приказал принести три стакана и между тем, как он держал свой, ему что-то шепнули на ухо, он выпил и тотчас ушел. Бирон и Миних молча проводили его взглядом, пристально посмотрели друг на друга, так же молча отдали обратно полные стаканы и разошлись.
Упомянутые указы были продиктованы не политическими принципами, а практическими расчетами близких Петру людей – Воронцовых, Шуваловых и других, которые, спасая свое положение, хотели царскими милостями упрочить положение императора. Вершиной их либерализма стал указ о вольности дворянства – документ сам по себе весьма похвальный, но совершенно не принимавший в расчет, что в России существуют и другие сословия, еще более дворян нуждающиеся в охране личного достоинства и прав.
Сам же Петр нимало не заботился о своем положении и очень скоро вызвал единодушный ропот в обществе. Он как будто нарочно спешил вооружить против себя все классы, и прежде всего духовенство. Император публично дразнил религиозные чувства русских, задорно щеголяя своим пренебрежением к церковным православным обрядам. В придворной церкви во время богослужения он принимал послов, ходя взад и вперед, точно у себя в кабинете, громко разговаривал, показывал язык священнослужителям. Однажды на Троицын день, когда в храме все опустились на колени, Петр с громким смехом вышел вон. Синоду был дан приказ «очистить русские церкви», то есть оставить в них только иконы спасителя и богоматери, русским священникам обрить бороды и одеваться, как лютеранские пасторы. Умные люди с исполнением этих приказов повременили, но духовенство и общество всполошились: люторы надвигаются!
Особенно раздражено было наиболее влиятельное, черное духовенство за предпринятую Петром секуляризацию церковных недвижимых имуществ. Церковные земли предписано было отдать крестьянам и установить для монастырской братии и архиереев ограниченные штатные оклады. Этим, конечно, император убедил последних сомневающихся в близком конце православия на Руси.
Во внутреннем государственном управлении Петр приказал руководствоваться не русскими законами, а так называемым Кодексом Фридриха – сводом законов Прусского королевства. По бедности тогдашнего русского юридического языка ни один сенатор не понимал этого творения Фридриха, из-за чего внутренние трудности и беспорядки, с грехом пополам устраняемые прежним законодательством, усилились неимоверно. Но наиболее опасным было возмущение гвардии, перед которой вновь вставал грозный призрак раскассирования по армейским полкам и участия в войне под началом прусского короля. Не чувствуя полицейского страха, общество бранилось и отплевывалось, без всякого опасения порицая государя. Собственно говоря, Петру можно было поставить в вину только два преступления: он был взбалмошным ничтожеством и хотел управлять Россией в мундире прусского офицера. Екатерина II несколько позже без всякого шума сделала многое из того, что не удалось сделать ее супругу, – секуляризовала церковные земли, дала России европейское законодательство; она даже пошла дальше, возродив Тайную экспедицию и превратив русское крестьянство в бессловесный скот. Однако она демонстрировала свою приверженность православному обряду и ласкала гвардию, и потому сумела остаться «матушкой» и «северной Семирамидой». Царствование же ее мужа осталось в памяти русских людей, по словам Ключевского, «как время правительственных шалостей и капризов далеко не невинного свойства».
Недовольные Петром объединялись вокруг императрицы, успевшей снискать широкую популярность, особенно в гвардейских полках. Екатерина завоевала любовь солдат довольно простым способом: милостиво разговаривая с ними и давая целовать им свою руку (впрочем, других способов в ее распоряжении и не было). Однажды, в темной галерее караульный солдат отдал ей честь ружьем; она спросила: почему он ее узнал? Солдат отвечал несколько в восточном вкусе: «Кто тебя не узнает, матушка наша? Ты освещаешь все места, которыми проходишь».
Семейная жизнь императорской четы давно расстроилась. Петр грозил разводом и даже заточением в монастырь. Екатерина долго терпеливо сносила свое положение, не вступая в прямые отношения с недовольными. Но сам Петр вызвал ее к действию. 9 июня, за парадным обедом по случаю заключения мира с Пруссией, Петр провозгласил тост за императорскую фамилию. Екатерина выпила свой бокал сидя. На вопрос императора, почему она не встала, она отвечала, что не посчитала этого нужным, так как императорская фамилия вся состоит из императора, из нее самой и их сына. «А мои дяди, принцы голштинские?» – возразил Петр и приказал стоявшему у него за креслом генерал-адъютанту Гудовичу подойти к Екатерине и сказать ей бранное слово. Но, пока тот шел к императрице, Петр, опасаясь, как бы Гудович не смягчил неприличного слова, сам выкрикнул его через стол во всеуслышание. Екатерина расплакалась. В тот же вечер Петр приказал арестовать ее, но был смягчен ходатайством одного из его дядей, невольных виновников оскорбления императрицы. С этого дня Екатерина начала внимательнее прислушиваться к предложениям, которые делались ей, начиная со дня смерти Елизаветы.
Заговору сочувствовало множество лиц высшего петербургского общества, большей частью лично обиженных императором. Наибольшим доверием императрицы пользовалась княгиня Екатерина Романовна Дашкова и братья Орловы. Княгиня Дашкова, сестра фаворитки императора, была 19-летней дамой, воспитанной на новейших европейских идеях, весьма начитанной и независимой. Быть в оппозиции с ранних лет сделалось ее потребностью. Дочь великого канцлера Воронцова с детства привыкла видеть у себя в доме иностранных министров и послов, но с 15 лет желала разговаривать только с республиканскими. Она явно высказывалась против самодержавия и заявляла о своем желании жить в Голландии, в которой хвалила гражданскую свободу и религиозную терпимость. В этом же возрасте она раз и навсегда отказалась от употребления румян и белил (чтобы понять степень «оппозиционности» молодой княгини, следует знать, что эти принадлежности дамского туалета были во всеобщем употреблении: банка белил непременно присутствовала при любом праздничном подношении, а нищенка постыдилась бы пойти под окно просить милостыню предварительно не нарумянившись). Сделавшись наперсницей отвергнутой императрицы, Дашкова надеялась осуществить в России в случае успеха заговора некие конституционно-республиканские проекты.
Самая деятельная часть заговорщиков – гвардейская молодежь, среди которой был и унтер-офицер Потемкин, —объединялась вокруг гнезда братьев Орловых, из которых особенно выдавались двое – Григорий и Алексей, рослые и красивые силачи, бесшабашно-ветреные и отчаянно-смелые, организаторы чудовищных попоек на петербургских окраинах и кулачных боев, зачастую со смертельным исходом. Во всех полках они были известны, как идолы тогдашней золотой молодежи. Старший из них, Григорий, артиллерийский офицер, давно был в любовных отношениях с императрицей, которые искусно скрывались. Братьев Орловых в заговоре прельщала возможность с блеском рискнуть головой – возможность, которую люди подобного сорта редко упускают добровольно, особенно, если риск окрашен в романтические тона служения любимой женщине.
Из влиятельных людей заговору больше других втихомолку содействовал малороссийский гетман и президент Академии наук граф Кирилл Разумовский, богач, чрезвычайно любимый за щедрость и простоту в своем гвардейском Измайловском полку; а также граф Никита Панин, елизаветинский дипломат и воспитатель наследника, великого князя Павла, желавший произвести переворот в пользу своего воспитанника с предоставлением Екатерине прав регентства. К заговору примыкало и много случайных людей, вроде некоего пьемонтца Одара, крутившегося возле Панина и Дашковой и объяснявшего мотивы своего участия в заговоре следующим образом: «Я родился бедным; видя, что ничто не уважается в свете так, как деньги, я хочу их иметь, для чего сей же вечер готов зажечь дворец; с деньгами я уеду в свое отечество и буду там такой же честный человек, как и любой другой». Накануне переворота Екатерина рассчитывала на поддержку 40 офицеров и около 10 тысяч солдат гвардии.
Несмотря на столь широкий охват заговор некоторое время зрел в полной безопасности. Разумеется, к Петру шли доносы, но он не обращал на них внимания, продолжая веселиться в Ораниенбауме со своими любимцами. Император являлся, по сути, самым деятельным заговорщиком против самого себя. Окончив бесполезно для России одну войну, он затевал другую, еще менее полезную, разорвав отношения с Данией, чтобы возвратить своему незабвенному голштинскому отечеству утерянный Шлезвиг. В то же время он упорно вводил свободу вероисповедания в России, за три дня до своего падения декларировав равенство всех христианских вероисповеданий, необязательность постов, неосуждение грехов против седьмой заповеди22, «ибо и Христос не осуждал», и требовал от Синода неукоснительного выполнения всех императорских предписаний. Во дворце ходили какие-то нелепые слухи, соперничавшие в сумасбродстве с действительными распоряжениями Петра. Так, утверждали, что император хочет развести придворных дам с их мужьями, а для примера первым развестись с женой и жениться на Елизавете Воронцовой; что уже заготовлены 12 одинаковых кроватей для первых 12-ти свадеб и т. п. Гвардия с тоской ожидала приказа выступить в заграничный поход, и приезд государя 29 июня в Петербург на проводы Панин считал удобным моментом для переворота.
Однако взрыв был ускорен внезапным обстоятельством. Один из участников заговора, капитан Пассек, выражавший горячее желание поразить императора среди бела дня на виду у всей гвардии, наболтал лишнего солдату, которого недавно побил. Тот донес на него в полковую канцелярию, и вечером 27 июня Пассек был арестован. Арест его поднял на ноги всех заговорщиков, опасавшихся, что арестованный может выдать их под пыткой. Как выяснилось позже, тревога их была, в общем-то, напрасной: когда Петру на следующий день доложили об аресте злоумышленника, он коротко ответствовал: «Это дурак», – чем и закончил расследование. Но предвидеть такой беспечности, разумеется, никто не мог; к тому же, хладнокровие не было отличительной чертой братьев Орловых. Рано утром 28 июня Екатерина вместе с Дашковой и своим парикмахером была привезена А. Орловым из Монплезира в казармы Измайловского полка. Давно подготовленные солдаты по барабанному бою выстроились на площади и тотчас присягнули, целуя руки, ноги, платье императрицы. В других гвардейских полках повторилось то же самое. Оттуда отправились в Сенат и Синод. Орловы обменялись заряженными пистолетами, дав клятву застрелить друг друга в случае неудачи. Екатерина не приготовила себе ничего и думала о казни равнодушно. Неожиданностей не произошло, все послушно присягали ей. На молебне в Казанском соборе она была провозглашена самодержавной императрицей. Вечером того же дня Екатерина верхом, в гвардейском мундире старого петровского покроя и в шляпе, украшенной зеленой дубовой веткой, с распущенными длинными волосами, во главе нескольких полков двинулась на поимку свергнутого мужа. Рядом с ней ехала княгиня Дашкова – тоже верхом и в гвардейском мундире.
Во всем Петербурге лишь один человек, некий иностранец, надумал уведомить императора о случившемся. Петр весело продолжал свой путь в Петергоф в сопровождении Воронцовой, прусского посланника и большого придворного общества. Только обшарив весь Петергоф и убедившись, что императрица действительно сбежала, Петр прозрел. Он побледнел и кричал растерявшимся придворным: «Что за глупость?» Три сановника, в том числе и канцлер Воронцов, смекнув в чем дело, вызвались усовестить императрицу. Екатерина всенародно уверяла после, что им велено было убить ее в случае надобности. Встретив императрицу, посланники присягнули ей и обратно не возвратились.
Петр, между тем, пребывал в кипучей деятельности. Он назначил генералиссимусом камергера, который известил его о побеге императрицы и повелел ему набирать войско из окрестных крестьян и ближних полков. Он бегал большими шагами, подобно помешанному, часто просил пить и диктовал против супруги два больших манифеста, изобиловавшие отборными ругательствами. Придворным было поручено развозить копии. Наконец, вспомнив о национальности своих подданных, Петр решился снять свой прусский мундир и ленту и возложил на себя знаки Российской империи.
В разгар этих воинственных приготовлений к императору подошел Миних и предложил укрыться в Кронштадте под защиту многочисленного гарнизона и снаряженного флота. Петр не соглашался, называл всех трусами и попусту терял время. Только известие о приближении Екатерины с 20-тысячным войском заставило его последовать совету старого фельдмаршала.
Но время было уже упущено. Когда вечером императорские галеры подплыли к Кронштадту, вице-адмирал Талызин уже успел склонить гарнизон присягнуть Екатерине, уведомив, что император лишен престола. Флотилию беглецов встретил грозный оклик:
– Кто идет?
– Император.
– Нет императора.
Петр вышел вперед и, скинув плащ, чтобы показать орден, закричал:
– Это я – познайте меня!
В ответ он услышал крик Талызина:
– Удалитесь! В противном случае в вас будут стрелять из пушек!
Петр увидел, как 200 фитилей засверкали в темноте над таким же количеством пушек, и без чувств повалился на руки приближенным. Бесстрашный Миних еще убеждал его плыть в Ревель и оттуда в Померанию, в заграничную русскую армию, клянясь через полтора месяца возвратить страну к покорности. Но Петр только твердил в слезах: «Заговор повсеместный – я видел это с первого дня царствования».
Императорская галера поплыла назад в Ораниенбаум. Сопровождавшие экспедицию придворные дамы рыдали. Миних спокойно стоял на палубе и наслаждался тишиной ночи.
Слуги со слезами встретили императора на берегу. «Дети мои, —сказал он им, – теперь мы ничего не значим».
Попытка вступить в переговоры с Екатериной не удалась: предложение помириться и разделить власть осталась без ответа. Петр был вынужден подписать акт о «самоотречении» от престола. Утром 29 июня Екатерина с полками заняла Петергоф, Петр добровольно сдался супруге. Солдаты обошлись с ним весьма невежливо, и от непосильных потрясений низложенный император упал в обморок. Когда несколько позже его посетил Панин, Петр ловил его руки, умоляя оставить ему четыре наиболее дорогих ему вещи: скрипку, любимую собаку, арапа и Елизавету Воронцову. Ему позволили удержать три первые вещи, а четвертую отослали в Москву и выдали замуж. Бывшего императора удалили в Ропшу, загородную мызу, подаренную ему императрицей Елизаветой, под надзор А. Орлова, Потемкина и еще нескольких деятельных заговорщиков, а Екатерина на следующий день торжественно вступила в Петербург. Так закончилась эта наиболее веселая и пикантная в российской истории революция, не пролившая ни одной капли крови, настоящая «дамская революция», по замечанию Ключевского. В династическом смысле она была полным абсурдом, так как под лозунгом возвращения к доброй русской старине законный внук Петра Великого был лишен короны в пользу ангальт-цербстской принцессы, спасенной браком с Петром III от участи супруги прусского полковника или генерала. Радость русских людей по этому случаю была так велика, что три года спустя в Сенате еще производилось дело петербургских виноторговцев о вознаграждении их «за растащенные при благополучном ее величества на императорский престол восшествии виноградные напитки солдатством и другими людьми».
Екатерина сыпала вокруг себя милостями, и все, даже ближайшее окружение Петра, спешили воспользоваться удобным случаем. Семейство Воронцовых поверглось к ее ногам. Княгиня Дашкова, тоже преклонив колени, сказала, указывая на них: «Государыня, вот мое семейство, которым я вам пожертвовала». Увидев в толпе придворных невозмутимого Миниха, императрица обратилась к нему:
– Вы хотели против меня сражаться?
– Так, государыня, – отвечал он. – А теперь мой долг сражаться за вас.
На заговорщиков сыпались звания, чины, деньги, имения, крестьяне. Упомянутый пьемонтец Одар на все предложения Екатерины возвысить его, отвечал: «Государыня, дайте мне денег», —и, получив их, отбыл в свое отечество честных людей.
У этой веселой революции был печальный эпилог. Вечером 6 июля Екатерина получила от А. Орлова записку, писанную испуганной и едва ли трезвой рукой. Можно было понять лишь одно: в тот день Петр за столом заспорил с одним из своих стражей; Орлов и другие бросились их разнимать, но сделали это так неловко, что хилый узник упал замертво. «Не успели мы разнять, а его уже и не стало; сами не помним, что делали». Екатерина, по ее словам, была тронута и даже поражена этой смертью. Орлов валялся у нее в ногах, прося о помиловании. Прощение он, конечно, получил, «но, – сказала Екатерина, – надо идти прямо – на меня не должно пасть подозрение».
Наутро 7 июля подданные новой самодержицы узнали, что ее супруг император Петр III накануне скончался от прежестокой геморроидальной колики.
Фридрих, получив известие о петербургском перевороте, пришел в ужас и немедленно приказал увезти казну в Магдебург. В заграничной русской армии возликовали, узнав, что теперь нет надобности класть свои головы за голштинское отечество. Салтыков, возвративший себе звание главнокомандующего, не дожидаясь на этот раз приказа, занял Восточную Пруссию. Но возобновления войны не последовало. Екатерина сохранила мир с Пруссией, разорвав лишь союзный договор. Она была слишком занята упрочением своего шаткого положения, совсем не желала каких-либо осложнений в Европе и разделяла со всеми общую жажду покоя после семилетних военных потрясений. Откровенно и болтливо признавалась она в том же 1762 году послу совсем не дружественной Франции, что ей нужно не менее пяти лет мира, чтобы привести свои дела в порядок, а пока она со всеми государями Европы ведет себя, как «искусная кокетка» (вскоре она увидела, что ошиблась в кавалерах). Фридрих, заболевший к тому времени новой болезнью – войнобоязнью – и признававшийся, что ему снятся казаки и калмыки, также делал все, чтобы избежать новой войны с Россией. Он был счастлив и тем, что Екатерина возвратила ему все захваченные русскими земли в Восточной Пруссии. Франция, растерявшая в этой войне свой столетний военный престиж, а вместе с ним Канаду, Флориду, Восточную Луизиану и большую часть индийских колоний, конфузливо косилась на «наследство» очередного европейского «больного» – Турции. А энергичная Мария-Терезия, так и не получившая назад Силезию, довольствовалась тем, что Фридрих уважительно произносил относящиеся к ней эпитеты и глаголы в мужском роде.
Русская армия возвращалась на родину, восстановив свою несколько померкшую за последние десятилетия славу. Покидали Пруссию и оба Суворова, отец и сын. Василий Иванович был отозван в Петербург еще при воцарении Петра III за то, что чересчур рьяно заботился о русских интересах в Восточной Пруссии. Александр Васильевич последовал за отцом летом, после того как 8 июня Румянцев представил его к производству в полковники, особо отметив, что будучи пехотным офицером, Суворов отлично действовал в кавалерии. Это повышение не очень обрадовало Суворова: полковник в 33 года – не Бог весть какой карьер. Он чувствовал досаду и неудовлетворенность. За семь лет войны ему не удалось совершить ничего значительного, все лавры достались другим. «В Пруссии я чинами обойден», – с горечью замечал он позднее. В этом замечании больше слышен упрек самому себе, чем столь характерная для позднего Суворова жалоба на чужие интриги и завистничество.
Вместе с тем Суворов многое увидел, многое попробовал. Он узнал, каков в бою русский солдат, раз и навсегда возненавидел австрийское «наступление средствами обороны», изучил сильные и слабые стороны господствовавшей стратегии и тактики. Особенно пристально Суворов анализировал боевое искусство Фридриха, чья неувядаемая на протяжении всего XVIII столетия слава не давала покоя Суворову до самой кончины. Более чем тридцать лет спустя, на склоне лет Александр Васильевич горделиво напомнит: «Я лучше покойного великого короля, я милостью Божией баталии не проигрывал».
В августе Суворова посылают с депешами в Петербург. Здесь, 26 августа он впервые был представлен Екатерине и получил именной указ о производстве в полковники Астраханского пехотного полка. Суворов запомнился Екатерине, императрица умела замечать людей.
Командир Суздальского полка (1763—1768)
L`age des illusions est passe23.
Людей и свет изведал он
И знал неверной жизни цену.
А.С. Пушкин
В Астрахань Суворов не поехал, потому что в апреле 1763 года получил назначение в Суздальский пехотный полк, квартировавшийся тогда в Петербурге. Новый командир сразу принимается за обучение полка, хотя петербургские условия этому вовсе не способствуют. Но Суворову не терпится, в голове у него уже сложилась та система обучения войск, которую позже станут называть «суворовской». Осенью императрица делает суздальцам смотр и остается довольной: офицеры полка допущены к ее руке, нижним чинам роздано по рублю.
Все сведения о петербургской жизни Александра Васильевича в 1763—1764 годах содержатся в одном его письме к знакомой даме (судя по слогу – не любовнице). Кажется, это первое суворовское письмо, дошедшее до нас в подлиннике. Суворов жалуется на свое здоровье: он исхудал и стал подобен «настоящему скелету, лишенному стойла ослу, бродячей воздушной тени»24. У него боли в голове, груди, особенно донимает его желудок, и Суворов приписывает эти недомогания действию невской воды. «Я почти вижу свою смерть, – пишет он, – она меня сживает со света медленным огнем, но я ее ненавижу, решительно не хочу умереть так позорно и не отдамся в ее руки иначе, как на поле брани». Однако он не только не лежит, но даже не сидит дома. Он приглашает знакомую приехать в Петербург, заманивая и тем, что здесь она может еженедельно два-три раза находиться на костюмированных балах и столько же раз посещать спектакли. Суворов прибавляет, что и сам пользуется этими удовольствиями, насколько позволяет здоровье. Это письмо, между прочим, показывает, что знаменитое суворовское закаливание совсем не уберегало его от заболеваний и не делало его здоровым человеком. Скорее, оно было способом отгонять болезни или переносить их.
Осенью 1764 года Суворов уводит полк в Новую Ладогу на полгода. В марте 1765 года он по каким-то делам вновь в Петербурге, где представлен наследнику престола Павлу. В июне он ведет полк форсированными маршами к столице для участия в Красносельских маневрах.
При Елизавете и Петре III воинским маневрам придавали небольшое значение и проводились они нечасто. Екатерина повелела устраивать их ежегодно; она сама выезжала в расположение войск – в Москву, Кронштадт, Лифляндию и Эстляндию. В этих смотрах проявлялось то внимание, которое императрица постоянно оказывала армии.
Красносельские маневры проводились с размахом. В них принимали участие три дивизии под командованием князей А.Б. Бутурлина, А.М. Голицына и графа П.И. Панина: 17 пехотных и 7 кавалерийских полков, 500 казаков и 30 калмыков – всего до 30 тысяч человек. Войска должны были разыграть настоящее сражение по всем правилам военного искусства.
Правила эти состояли в следующем.
Наступательное действие заключалось в движении войск, растянутых и рассеянных на возможно большем пространстве, чтобы, как тогда говорили, охватить оба крыла противника и поставить его между двух огней. Оборонительное действие не уступало в нелепости наступательному. Вместо того, чтобы, пользуясь распылением сил противника, нанести всеми силами удар в центр, разреженный и ослабленный ввиду чрезмерного растяжения линии, и, разорвав войска неприятеля на две части, уничтожить каждую порознь (так обычно поступал с приверженцами линейной тактики Наполеон), обороняющиеся тоже растягивали свои линии, как бы копируя наступавших, занимая и защищая каждую тропинку, каждый проход, по которому неприятель мог к ним приблизиться.
Некоторые полководцы решались переходить от обороны к контратаке (одно это уже приносило им славу превосходных военачальников). Они принимались еще более растягивать свои силы, чтобы самим охватить оба крыла неприятельской армии и зажать ее между двух огней. К этому надо добавить обычай производить демонстрации частями армии для отвлечения противника, отчего численность главной массы войск уменьшалась еще более; фальшивые атаки, которые никого не обманывали; размеренные переходы войск, позволявшие неприятелю точно рассчитывать время их прибытия на место и, наконец, огромную заботу о подвозе пищи в определенные сроки, не позволявшую удаляться более, чем на три перехода от своих продовольственных магазинов и ставившую полководца в полную зависимость от интенданта.
Тактика не уступала в нелепости стратегии. Главное внимание полководцы уделяли выбору места сражения: предпочитали холмистую и пересеченную местность, укрепясь на которой, старались отражать неприятельские усилия, не двигаясь с места. При этом больше действовали огнем, чем холодным оружием.
15 июня войска разбили лагерь. Следующие два дня ушли на приведение в порядок обмундирования и ружейные экзерциции. 18-го числа в лагерь прибыла Екатерина. Наутро под несмолкающие приветственные крики она верхом объехала полки и нашла их в отличном состоянии. Она разделила войска на две неравные по количеству армии: дивизии Бутурлина и Голицына поступали под начало императрицы, им противостояла дивизия Панина. Суздальский полк вошел в корпус Екатерины и занял позиции на левом фланге. Императрица сама произвела рекогносцировку и, возвратясь, отдала приказ начать маневры. Сражение разыгрывалось в полном соответствии с описанными выше правилами. Кавалерия предприняла охват панинских войск, а пехота медленно двинулась вперед, занимая высоты и очищая путь императрице для осмотра неприятельских позиций. Благообразная размеренность этот маневра была нарушена неожиданным своевольным порывом Суворова. В ходе одного из самых сложных движений войск, связанных с залпами плутонгами и полуплутонгами, он вдруг приказал своему полку прекратить стрельбу, вывел его из линии, на штыках ворвался в центр противной стороны, смешал ее боевые порядки, спутал планы обоих начальников и обратил их в замешательство. Панин не знал, что делать. Свита императрицы громко выражала свое возмущение, но Екатерина была довольна: полный успех ее войск! Она только запретила Суворову преследовать отступающего Панина. Считалось недопустимым деморализовывать часть непобедимой русской армии даже на учениях. Расчет Суворова оказался верным: присутствие императрицы позволило ему безнаказанно нарушить дисциплину, чтобы продемонстрировать образ действий, более приличный, по его мнению, духу русского солдата. Екатерина не дала его в обиду. В печатном отчете о маневрах в Красном Селе из всех штаб-офицеров, принимавших в них участие, упоминалась фамилия одного Суворова. Отличная подготовка Суздальского полка и решительность его командиров пришлась по душе императрице.
Спустя несколько месяцев, когда Суворову было предписано идти с полком из Петербурга в Ригу, он не упустил и этого случая, чтобы обратить внимание на пользу стремительных, не поддающихся расчетом переходов. Посадив один взвод на подводы и взяв с ним полковую казну и знамя, он прибыл в восемь дней в Ригу и оттуда послал донесение в военную коллегию, изумленную такой поспешностью. Остальная часть полка прибыла на место не в 30 суток, как предписывалось по маршруту, а в 14. И на этот раз одна Екатерина поняла малоизвестного полковника и данные им уроки, отозвавшись о нем: «Это мой собственный будущий генерал!»
Следующие три года Суворов прожил в Новой Ладоге, никуда не отлучаясь. Все свое время он проводил среди офицеров и солдат, целиком отдавшись службе. Здесь суворовская система впервые нашла свое теоретическое и практическое выражение. Суть ее состояла в том, что Суворов предал анафеме всякое оборонительное, а тем более отступательное действие, и раз и навсегда предписал русскому солдату действовать наступательно. Многолетний боевой опыт и наблюдения в минувшую войну привели его к убеждению, что если коренное, так сказать, природное качество русского солдата – стойкость – соединить с энергичным, осмысленным наступательным порывом, сделав его привычным благодаря ежедневным упражнениям, то при условии умелого командования с таким солдатом можно творить чудеса.
«Хотя храбрость, бодрость и мужество всюду и при всех случаях потребны, только тщетны они, если не будут истекать от искусства, которое возрастает от испытаний, при внушениях и затвержениях каждому должности его», – объяснял он суть своего метода. Условия победы всегда и всюду остаются одни и те же: они коренятся в организованности и боевом духе солдатской массы. Поэтому именно на нее обращено внимание Суворова. Свои требования он переносит на бумагу и раздает в батальоны и роты для заучивания.
Рассуждения Суворова ясны и здравы, а его бойкий язык как нельзя лучше понятен солдату. «Экзерциция состоит: 1-е – в хождении и захождении… 2-е – в скорой и исправной пальбе». Солдат следует учить «движению ног (маневры) и «движению рук (обращению с оружием)». Обучение начинается с того «как стоять во фронте». Рекруты должны иметь «на себе смелой и военной вид», то есть чтобы «головы вниз не опускали, стояли станом прямо и всегда грудь вон, брюхо в себя, колени вытягивали и носки розно, а каблуки сомкнуто в прямоугольник держали, глядели бодро и осанисто, говорили со всякою особою и с вышним, и с нижним начальством смело…» Если начальство спрашивает, то чтобы рекрут «громко отзывался, прямо голову держал, глядел в глаза, станом не шевелился, ногами не переступал, колени не сгибал».
Затем следует учить хождению, «сдваиванию рядов, взводов и шереног». «Полный военный шаг – аршин, большой шаг – полтора аршина», – не уставал всю жизнь повторять Суворов. После того, как рекрут освоил «движение ног», его вооружали. Следовали упражнения с ружьями, приемы на месте, в движении поодиночке и «всем скопом». Стрельбе уделялось важное, но не главное место в упражнениях. Атаковать следует «на палашах и штыках, кроме что стреляют егеря». Отдельно учили чиститься, мыться, стирать белье, чтобы солдат был здоров и бодр. «Знают офицеры, что я сам того делать не стыдился», —добавляет Суворов, может быть, в острастку каким-то «сибаритам».
Обучение не должно быть изнурительным для солдат, его следует проводить «без жестокости и торопливости, с подробным растолкованием всех частей особо и показанием одного за другим». Поэтому график занятий определялся так: понедельник, вторник, четверг – одиночная подготовка для «кратких свидетельств в экзерциции»; пятница – подготовка всего подразделения; среда и суббота – отдых. По воскресениям и праздничным дням трех-четырехчасовое чтение военных артикулов, выписок из указов, списков начальников и т. п.
Часто после строевого учения Суворов подводил солдат к берегу Волхова, приказывал раздеться и, раздевшись сам, производил переправу. Также уводил полк на несколько дней на марш «аршинным» и «полутороаршинным» шагом. Однажды, оказавшись неподалеку от монастыря, приказал устроить его штурм. Братия капитулировала быстро, но настоятель донес в Петербург. Случай наделал много шума и достиг ушей императрицы. Рассказывают, будто Екатерина сказала, улыбаясь: «Оставьте, я его знаю» – и не дала хода делу. «Я их приучал к смелой, нападательной тактике», – отвечал Суворов на расспросы любопытных, и это не звучало, как оправдание.
Штурм монастыря не являлся следствием пренебрежительного отношения Суворова к религии. Александр Васильевич оставался чрезвычайно набожным человеком. Едва устроившись в Новой Ладоге, он в первую очередь выстроил полковую церковь и во вторую – полковую школу для дворянских и солдатских детей. В храме Суворов читал Апостол за обедней и пел на клиросе, а в школе учил детей арифметике и закону Божьему, для чего написал математический учебник, составил молитвенник и коротенький катехизис. Для дворянских детей он преподавал еще и начала драматического искусства.
Посетивший Новую Ладогу генерал-губернатор Сиверс весьма одобрительно отозвался о суздальском полковнике. Суворов показал ему новую полковую конюшню, сад, разбитый на ранее бесплодной земле, и дал в его честь комедию на любительской сцене. Сиверс уехал довольный.
В то же время начали распространяться первые слухи о чудачествах Суворова. Молва всегда сильно преувеличивала суворовские странности, мало-помалу создавая особую легенду вокруг его имени. До поступления на службу Александр Васильевич не обнаруживал никаких странностей. В Семеновском полку, как мы видели, он слыл «чудаком» за свою необщительность. Теперь же Суворов удивлял людей тем, что ходил, припрыгивая, говорил отрывисто, пересыпал речь поговорками и присловьями, иногда странно кривлялся и посмеивался, слушая других; молчал, когда ждали его речей, или, начав говорить умно, красноречиво, вдруг останавливался, смеялся и убегал, прыгая на одной ноге. К причудам относили и его закаливание, раннее вставание, отказ от роскоши, предпочтение грубой пищи изысканным яствам и лакомствам.
Действительно, Суворов был «чудак», но он совершал не только чудаковатые поступки. За этими странностями скрывался живой, оригинальный ум, лукаво предлагающий окружающим считать личину подлинной сутью и таким способом оберегающий свою свободу и независимость суждений. «Тот еще не умен, о ком рассказывают, что он умен», – любил повторять Суворов.
Самые различные чувства и стремления, смешиваясь и дополняя друг друга, определили суворовскую манеру поведения. Меньше всего в ней было грубого, дешевого гаерства и капризного потакания своим наклонностям к сумасбродству, что было так характерно для натуры Петра III. Суворовские странности вырастали из отличного знания людей, глубоко уязвленной гордости и возвышенного, чистого идеализма. Годы шли, Суворов все более и более страдал от неудовлетворенного честолюбия, боялся «не состояться». Отсюда его кривлянья, выставление себя в смешном виде, чтобы не дать заметить постороннему глазу величия своих замыслов и одновременно усмирить свою гордыню, а также заранее оправдать перед собой возможное крушение надежд. Внутренняя независимость, таящая в себе зародыш властного деспотизма, и еле переносимое подчиненное положение в деле, в котором он не видел равных себе, рождали желчную иронию, маскирующуюся под грубоватую прямоту старого служаки, дающую в свою очередь, как бы не от большого ума, право высказывать «правду», то есть публично говорить неприятности вышестоящим особам. Наконец, при отсутствии покровителей в Петербурге, это был еще и способ не дать затереть себя в толпе сослуживцев, заставить говорить о себе.
С годами Суворов так сросся с надетой некогда личиной, что уже не хотел и не мог снять ее с себя. «Если вся жизнь этого изумительного человека, одаренного нежным сердцем, возвышенным умом и высокой душой, была лишь театральным представлением и все его поступки заблаговременно обдуманы, – весьма любопытно знать: когда он был в естественном положении?» – задавал себе вопрос Денис Давыдов и уподоблял Суворова героям шекспировских трагедий, поражающим «в одно время комическим буффонством и смелыми порывами гения». Если уж искать литературные параллели суворовским чудачествам, то, думается, гораздо ближе к ним окажется пушкинский Николка из «Бориса Годунова» с его «взяли мою копеечку; обижают Николку». Корни этих чудачеств лежали в той же области человеческой души, что и юродство, которое будучи абсурдной формой сохранения внутреннего достоинства перед лицом сильных мира сего, столь часто встречается в русских людях.
Детские мечты о славе разбились, лавровый венок обернулся служебной лямкой. Суворов узнал жизнь, узнал людей и проникся к ним глубоким недоверием.
Против Барской конфедерации (1768—1772)
Уже давно между собою
Враждуют эти племена…
А.С. Пушкин
Напомним, что Екатерина II в начале своего царствования говорила о пяти годах мира, которые ей необходимы для упрочения внутреннего положения в стране. Но мир с Пруссией был нужен ей еще и для улаживания польских дел, которые выдвинулись на первое место в российской внешней политике сразу же после восшествия Екатерины на престол.
События, происшедшие в Польше во второй половине XVIII века, явились итогом почти 800-летнего спора двух славных народов, великополянского и великорусского, за преобладающее влияния в славянском мире и в Восточной Европе в целом. Не сплоченные ни общей исторической судьбой, ни единой верой, обе стороны предпочитали решать дело мечом и с невероятным ожесточением пользовались каждым удобным случаем для нападения друг на друга.
К началу XVIII столетия стало окончательно ясно, что Речь Посполитая безнадежно проигрывает этот затянувшийся спор. Россия, доказавшая ранее свое превосходство в военной и административной организации, благодаря Петровским реформам начала обгонять Польшу и в культурном отношении, отказавшись от ее услуг посредника в передаче плодов европейской культуры. Cо времен Петра I русские дипломаты смотрят на Польшу как на беспокойную провинцию, а на польских королей – как на русских ставленников. На смену уважительному отношению к сильному противнику приходит полупрезрение к не очень опасному врагу и не слишком верному союзнику.
Собственно говоря, случилось то, что должно было случиться рано или поздно. Польша клонилась к упадку не из-за сокрушительных ударов извне – напротив, ее история полна славными войнами и блестящими победами, – а подтачиваемая изнутри шляхетскими вольностями и бесчинствами. Уже в «золотой век» Речи Посполитой ее легендарный король Стефан Баторий предостерегал: «Поляки! Вы обязаны сохранением вашей самобытности не вашим законам, которых вы не знаете, не вашему правительству, которому вы не повинуетесь; вы обязаны тем случаю». Но случай пока что неизменно благоприятствовал, и все катилось по-прежнему: король продолжал оставаться «первым среди равных»; шляхта, пользуясь «liberum vetо»25, срывала все попытки укрепить королевскую власть (из 50 сеймов, созванных на протяжении 100 предыдущих лет, 48 закончились ничем); время от времени по стране прокатывались «рокоши» – узаконенные войны дворянства против короля в случае какой-нибудь феодальной обиды. Ослепленная былым величием, Польша и не заметила, как со всех сторон оказалась окруженной могущественными соседями – Турцией, Австрией, Пруссией, Швецией, Россией. И если от Турции и Швеции еще кое-как удалось отбиться, то с притязаниями России и Австрии пришлось смириться. В 1735 году после двухлетней войны этих держав с Францией, которая прочила на польский престол своего ставленника Станислава Лещинского, польским королем был избран угодный союзникам Август III. С этого времени польская независимость стала быстро блекнуть и таять, превращаясь в призрак и только изредка тревожа напоминанием о себе наиболее буйные головы.
За влияние на короля боролись две придворные партии: саксонская, во главе со всемогущим при Августе III министром Брюлем, и прорусская, возглавляемая братьями Чарторийскими. Обе партии имели мало общего с подлинными интересами страны и отстаивали в основном притязания соперничавших знатных фамилий. Расположение их вождей обыкновенно покупалось за немалые деньги.
После Семилетней войны, опустошившей казну, и внутренних неурядиц, расстроивших управление, России требовалось большого труда поддерживать свое влияние в Польше и оплачивать услуги своих сторонников. Но Екатерина II не думала уступать. «Сообщите мне, —писала она русскому посланнику при польском дворе, – что нужно для усиления моего значения там, моей партии; я не пренебрегу ничем для этого». Посол доносил ей, что требуется лишь одно – деньги: около 50 тысяч червонных в год на пенсии, чтобы иметь в Постоянном совете своих людей. Однако как раз денег у Екатерины II и не было. «Мои сундуки пусты и останутся пусты до тех пор, пока я не приведу в порядок финансов, – жаловалась она, – моя армия не может выступить в поход в этом году». Императрица пыталась найти другие способы влияния: «Разгласите, – приказывала она послу, – что если осмелятся схватить и отвезти в Кенигсштейн какого-нибудь из друзей России, то я заселю Сибирь моими врагами и спущу запорожских казаков, которые хотят прислать ко мне депутацию, с просьбой позволить им отомстить за оскорбления, которые им наносит король польский». Но угрозы мало помогали. Саксонская партия понемногу брала верх, оттирая Чарторийских и их сторонников от управления делами. В Польше распространялись антирусские настроения и ширились преследования диссидентов – так тогда называли православных русских, украинцев и белорусов, проживавших на ее территории.
Все же вскоре Екатерине II представился случай поправить свои дела в Польше, и она не упустила его. В октябре 1763 года скончался Август III. Его смерть дала возможность русской партии обратиться за посредничеством к императрице. В Польшу были введены русские войска. Наиболее влиятельные противники Чарторийских – великий гетман коронный Браницкий, сам мечтавший о короне, и первый богач Литвы князь Кароль Радзивилл – бежали за границу, остальные притихли.
Идя на такой шаг, Екатерина II нуждалась в союзнике, чья помощь обеспечила бы равенство сил и позволила бы избежать новой войны. Нетрудно предположить, что этим союзником могла быть только Пруссия, так же давно имевшая свои планы насчет Польши. Действительно, Пруссия легко пошла на сближение. Фридрих, узнав за обедом о кончине Августа III, в волнении вскочил из-за стола. Мечта нескольких поколений Гогенцоллернов о расширении Пруссии на восток была как никогда близка к осуществлению. Екатерина II, не подвергшаяся оскорбительному злословию прусского короля и к тому же сама будучи немкой, не имела причин ни ненавидеть Фридриха как человека, ни опасаться его как государя. Оба монарха вступили в переписку относительно кандидата на польский престол. Инициатива принадлежала Екатерине. «Я предлагаю вашему величеству, – писала она Фридриху, – между пястами26 такого, который более других будет обязан вашему величеству и мне за то, что мы для него сделаем. Если ваше величество согласны, то это стольник литовский, граф Станислав Понятовский, и вот мои причины. Из всех претендентов на корону он имеет наименее средств получить ее, следовательно, наиболее будет обязан тем, из рук которых он ее получит». Фридрих не имел ничего против, выразив уверенность, что избрание Понятовского не вызовет сопротивления: «Поляки горды, когда считают себя вне опасности, и ползают, когда видят опасность. Я думаю, что не будет пролито крови: разве отрежут нос или ухо у какого-нибудь шляхтича на сеймике… все и ограничится шумом».
7 сентября 1763 года Станислав-Август Понятовский был избран польским королем. Франция и Австрия промолчали.
Выбор Екатерины II был, конечно, не случаен. Понятовский был одним из ее первых любовников, и Екатерина настолько хорошо изучила его характер, что ни разу не обманулась в нем за все время его правления. Понятовский обладал блестящим, но несколько поверхностным умом, был острословом, владел несколькими языками, много читал, путешествовал и, посещая знаменитостей своего времени, набрался того лоску (poloru), за которым польские паны и ездили в Европу. Он знал толк в искусстве, насколько это ему позволяли его образование и вкус, и в женщинах, которых, впрочем, как любой Дон-Жуан, изучил несколько односторонне. Он был с ними очень ветрен и обыкновенно быстро давал отставку с назначением пенсиона, что сильно обременяло его состояние. В Лазенковском дворце показывали целую галерею с портретами его любовниц. Понятовский вообще был щедр к другим и расточителен, когда дело касалось его самого. Он любил жить весело и видеть вокруг себя веселые лица. Многолетнее женское влияние (до 16 лет он воспитывался матерью) наложило отпечаток женственности на его характер. Отличаясь мягким и кротким нравом, Понятовский не обнаруживал и тени обычного самодурства знатных и богатых панов. Принц де Линь, один из главных жуиров эпохи, называл его любезнейшим государем Европы. Конечно, как и все монархи, король обнаруживал двоедушие и хитрость, но, попав в затруднительное положение, становился безволен и чересчур доверчив. Зная свое обаяние, он всегда пускал его в ход там, где нужно было помирить или помириться, и, действительно, легко обвораживал, но не привязывал к себе людей. Еще меньше привязанности к другим обнаруживал он сам. Равнодушие позволяло ему часто демонстрировать великодушие. Его иногда обижали до слез, но он никогда не мстил и всегда был готов протянуть руку обидчику. Король был способен на энергичную деятельность, он легко приставал к смелым и рыцарственным предприятиям, однако скоро терял задор и легко оставлял начатое. Вместе с тем он любил прихвастнуть и приписать себе доблести, которыми не обладал, и заслуги, принадлежащие другим. Поляки не могли желать себе лучшего государя в какое-нибудь иное, более спокойное время, Екатерина II – именно теперь.
Станислав-Август фактически не имел ни власти, ни денег, ни армии. По спискам в полках числилось 18 тысяч человек, на деле едва набиралось 8 тысяч. Все воинские чины и должности были синекурами. Количество офицеров превышало число солдат, были конные полки, не имевшие в своем составе ни одного рядового. Служить в пехоте считалось унизительным, поэтому она набиралась из уголовников или насильно завербованных простолюдинов. Воинских учений и упражнений не существовало. Почти все офицеры находились в отпусках, в полках едва насчитывалось по 200 человек. Кавалерия единожды или дважды в год собиралась на сборы пощеголять лошадьми и мундирами. Шляхтичи пировали, вспоминали Жолкевского и Ходкевича27, величали своих начальников Александрами Македонскими и Юлиями Цезарями и разъезжались по домам. Иногда, перед тем как разъехаться, новые Юлии и Александры еще более увеличивали свою славу бесшабашными сшибками с разбойными шайками запорожцев и украинских гайдамаков.
При дворе и в стране царила анархия и господствовало право сильного. Современник, имевший возможность наблюдать вельможные нравы, писал: «Вельможи постоянно недовольны, в постоянном соперничестве друг с другом, гоняются за пенсиями иностранных дворов, чтоб подкапываться под свое отечество. Потоцкие, Радзивиллы, Любомирские разорились вконец от расточительности. Князь Адам Чарторийский часть своего хлеба съел еще на корню. Остальная шляхта всегда готова служить тому двору, который больше заплатит. В столице поражает роскошь, в провинциях – бедность… Ежедневно происходят такие явления, которые невероятны в другом государстве: злостные банкротства вельмож и купцов, безумные азартные игры, грабеж всякого рода, отчаянные поступки, порождаемые недостатком средств при страшной роскоши… Преступления совершаются людьми, принадлежащими к высшим слоям общества. И какому наказанию подвергаются они? Никакому! Где же они живут, эти преступники? В Варшаве, постоянно бывают у короля, заведывают важными отраслями управления, составляют высшее, лучшее общество, пользуются наибольшим почетом. Хотите знать палатина, который украл печать? или графа, мальтийского рыцаря, которому жена палатина русского [Галицкого] недавно говорила: «Вы украли у меня часы, только невелика вам будет прибыль: они стоят всего 80 червонных». Кавалеры Белого Орла крадут у адвокатов векселя, предъявленные им заимодавцами. Министры республики отдадут в заклад свое серебро через камердинера, отошлют потом этого камердинера в деревню, да и начинают иск против того, кто дал деньги под заклад, под предлогом, что камердинер украл серебро и бежал, а через полгода вор опять служит у прежнего господина. Другой министр захватил имение соседа; Постоянный Совет решил, что он должен возвратить захваченное; несмотря на то, похититель велел зятю своему, полковнику, вооруженною рукою удерживать захваченное, загорается битва между солдатами полковника и крестьянами законного владельца, полковник прогнан, но 30 человек осталось на поле битвы. Один палатин уличается перед судом в подделке векселей; другой отрицается от своей собственной подписи; третий употребляет фальшивые карты и обирает этим молодых людей, в числе обобранных был родной племянник короля; четвертый продает имения, которые ему никогда не принадлежали; пятый, взявши из рук кредитора вексель, раздирает его в то же мгновение и велит отколотить кредитора; шестой, занимающий очень важное правительственное место, захватывает молодую благородную даму, отвозит в дом, где велит стеречь ее там своим лакеям и там насилует… Покойный маршал Саксонский, – заключает автор, – имел право говорить, что немецкий полумошенник в Польше – честнейший человек». Чем не речи социалиста? Между тем, это пишет не будущий якобинец, не русский, не австриец и не пруссак – это письмо саксонского резидента Ессена, человека, лояльного Польше и вроде бы не заинтересованного в сгущении красок. «Я трепещу при мысли, что курфирст возложил на меня обязанность указать ему между поляками троих значительных и вместе честных людей: я не могу указать ему ни одного», – добавляет он. Кончено, это донесение имеет все черты сатиры, но сатиры весьма характерной.
Мелкопоместная шляхта не отставала от столичной в совершении беззаконий. Мемуары и судебные архивы того времени полны свидетельств самых невероятных бесчинств в различных уголках Речи Посполитой. Особенно прославился ими Николай Потоцкий, староста Каневский. Убийство было для него простым движением руки. Он приказывал расстреливать или вещать каждого, чье лицо ему чем-нибудь не понравилось. Однажды, убив еврея, принадлежавшего соседу, он взамен привез ему целый воз соплеменников убитого, поймав их в ближайших местечках. Несчастные лежали на возу один на другом, придавленные сверху гнетом, словно снопы. От него не было спасения никому: ни положение, ни возраст, ни пол не спасали от смерти, глумления или надругательств старосты и его приспешников. Потоцкий заставлял женщин залезать на деревья и кричать оттуда «ку-ку», пока он сбивал с веток «дичь» мелкой дробью. Монахов-доминиканцев, носивших белые сутаны, он заставлял пролезать сквозь дегтярные бочки; судей, неоднократно судивших его, сек, положив лицом на утвержденные ими приговоры. Под старость грешник осудил себя на покаяние, выстроил церковь на Погаеве и удалился в монастырь, но и там не оставлял своих пьяных выходок.
Другой выродок, Шанявский, староста Малогосский, проводил время в постоянных наездах на соседей, убивая и мучая людей. Не было ни одного выездного трибунала, где бы ни выносили ему приговор, но его многочисленная шляхта всюду защищала его. Когда же Шанявский начал обижать и своих защитников, они составили против него заговор. Он бежал в Варшаву, где продолжал творить преступления: из дома, который он занимал, слышались крики его жертв. Жена Шанявского выхлопотала у королевы развод и бежала в монастырь, боясь оставаться в миру.
Женщины придумывали развлечения, более подходящие их полу. Некая пани Коссовская приказывала слугам затаскивать к себе во двор проезжих людей. Гостеприимная хозяйка поила, кормила своих гостей, а потом заставляла их плясать до упада. Если кто-то из них валился с ног от усталости и, случалось, тут же засыпал, то его обливали водой, приводили в чувство и после порки возвращали в круг. Бедный муж этой дамы, находившийся у нее под каблуком, ничем не мог помочь несчастным.
Более человеколюбивые господа проводили время в беспрестанных попойках. Размеры пьянства теперь трудно вообразить: пили, что называется, в усмерть. Несколько человек усаживались вокруг бочки – ибо что ж молодцам зря подметки стирать! – и пили, отваливаясь от нее по мере убывания сил. Принимая гостей, считали главным делом напоить их. В одном местечке на всю округу славился хозяин имения и его кубок Орла невероятных размеров, который подносили опоздавшим или новичкам. Под угрозой розог кубок осушался ими до дна, зачастую после такого угощения человек падал замертво.
К беспорядкам частной жизни время от времени добавлялись беспорядки политические, происходившие на польских сеймиках. Эти республиканские учреждения собирались по воеводствам, землям и повятам для избрания депутатов на сейм. В XVIII веке к выборам допускалась вся шляхта, но верховодили на них, конечно, паны. Мелкая провинциальная («загоновая») шляхта по своему образу жизни, образованию, одежде ничем не отличалась от хлопов (крестьян), ее можно было опознать лишь по karabele – сабле, висевшей сбоку, и по разбойным привычкам. Наглость и самое низкое лизоблюдство были ее отличительными чертами. Заниматься чем-либо иным, кроме набегов, воровства и грабежей, считалось в этой среде предосудительным. Шляхтичи пользовались правами свободных граждан, чтобы продавать панам свои голоса на сеймиках и поддерживать их своим буйством. Ближе к открытию сеймика пан составлял договор с местной загоновой шляхтой и вез ее на своих повозках в город, где должен был происходить сеймик. Здесь шляхту размещали, поили, кормили и посылали на сеймик выполнять волю пана. Собрания проходили в костелах. Несмотря на это, ни один сеймик не обходился без кровопролития. Поляки настолько привыкли к этому, что уже не обращали внимания на святотатство, считая его неотвратимым сопутствием своих республиканских свобод. Сначала каждая партия кричала «vivat!» своему пану, стараясь перекричать противную сторону, потом дело переходило к драке. Бежавшая сторона проигрывала, победители голосовали, и польская вольность торжествовала. Случалось, что доставалось и ксендзу, если он пытался разнять буянов. У него выбивали из рук распятие, мяли бока, а то и отрубали пальцы. Затем костел закрывали до нового освящения. После сеймика победивший пан выполнял свою часть договора – платил наемникам и устраивал для них пирушку; обычно на ней бывало несколько опившихся и объевшихся до смерти. Побежденные вознаграждали себя сами за счет обывателей.
Таковы были политические и нравственные опоры государственного строя в Польше. Разумеется, Россию и Пруссию в высшей степени устраивала развращенность польского господствующего класса и анархия в управлении. Соседи Польши стремились сохранить существующее положение вещей и особенно liberum vetо – этот бич польской государственности.
Недовольство победой русской партии выразилось в новом всплеске притеснений диссидентов. Гонения поддерживали противники нового короля и часть католического духовенства. На увещевания русского посланника князя Репнина поляки отвечали довольно дерзко. Понятовский сообщал Екатерине II: «Вопреки мнению всех моих советников… я поднял вопрос о диссидентах, потому что вы того желали. Чуть-чуть не умертвили примаса28 в моем присутствии». Оппозиция русскому влиянию принимала религиозную окраску. Стремясь не допустить этого и заодно разом покончить с давней проблемой диссидентов, Екатерина II приказала Репнину, чтобы на ближайшем сейме 1766 года дело было решено в пользу равноправия православных и католиков при сохранении за католичеством, как государственной религией, некоторых привилегий.
В 1653 году посол царя Алексея Михайловича, князь Борис Александрович Репнин, потребовал от польского правительства, чтобы «православным людям впредь в вере неволи не быть, и жить им в прежних вольностях». Польское правительство не согласилось. Результатом этого несогласия стало отпадение от Речи Посполитой Малороссии.
Почти через сто лет, в 1766 году, потомок Б.А. Репнина, посол Екатерины II, князь Николай Васильевич Репнин, повторил это требование и вновь получил отказ. На этот раз события повернулись так, что следствием нетерпимости польского правительства стал первый раздел Польши.
Князь Репнин, как и многие русские вельможи того времени, к религии относился более чем равнодушно. А поскольку в Польше основная масса православных была к тому же простолюдинами, чернью, то к их участи Репнин относился с полным презрением. По его мнению, высказываемому в донесениях императрице, коль скоро среди польских православных не было дворян, то незачем было и хлопотать об их равноправии с католиками. Более того, русский посол всегда предостерегал против того, чтобы расширение прав православных не выглядело ущемлением прав католиков, и выражал особую озабоченность тем, как бы униаты не начали вновь переходить в православие. Такое «насилие», считал Репнин, уронило бы престиж России в глазах Европы. Вместе с тем Репнин умел, отбросив личное мнение, точно выполнять повеления императрицы.
Так он поступил и на этот раз: получив ясный и конкретный указ Екатерины II обеспечить равноправие православных с католиками, Репнин энергично принялся за дело, уже не считаясь с тем, что скажет Европа. Различными посулами он подкупил польскую знать, собрал 80 тысяч подписей под прорусской конфедерацией и расположил русские войска рядом с местечками, где должны были проходить сеймики. Таким образом было обеспечено преобладание на сейме сторонников России.
Все же на сейме составилась небольшая оппозиция. Ее главными представителями были епископ Солтык и краковский воевода Ржевусский со своим сыном. Солтык выбрал весьма своеобразный метод борьбы, по принципу «чем хуже, тем лучше» и всячески провоцировал Репнина на репрессии. Своим единомышленникам Солтык говорил: «Каждый из нас пусть ищет средств к спасению отечества, сообразно своему характеру. Я, со своей стороны, желаю принудить москалей поступить со мной явно по-тирански. Зло, которое они мне сделают, принесет пользу отечеству». Не забудем, что пользу отечеству этот добрый пастырь видел в продолжении глумления над религиозными чувствами сотен тысяч христиан другого обряда. Каменецкий епископ Красинский шел ради спасения отечества еще дальше. Чтобы не дать «проклятой греко-татарской ереси» стать наравне со святой матерью католической церковью, он прибег к покровительству турецкого султана и заручился от него уверением, что Турция не останется в стороне, если поляки перейдут от словопрений к чему-нибудь более серьезному.
Раздраженный Репнин сначала подверг разорению имения Солтыка, Ржевусского и других оппозиционеров, а потом арестовал их самих. Солтык дал себя арестовать во время молитвы, с распятием в руке. При виде русских солдат он возопил к Богу о прощении своим мучителям, ибо не ведают, что творят. В этом он был прав: русский отряд не подозревал, что участвует в спектакле, в котором роли распределил арестованный.
После арестов на сейме все пошло, как по маслу. На все возражения поляков Репнин отвечал: «Так хочет императрица». Было решено допустить православных ко всем должностям, исключая королевское достоинство. Католичество осталось господствующей религией. У шляхты было отнято право жизни и смерти над хлопами; последние получили право судиться общим, а не господским судом. Также панам было запрещено под угрозой кары совершать разбойничьи наезды друг на друга. Россия выступила гарантом этих прав. Фактически это означало, что Польша вступила на путь легальной зависимости от России.
К началу 1768 года в Петербурге думали, что польские дела окончены. Репнин был щедро награжден, конфедерация распущена, русские войска вышли из Варшавы и готовились покинуть королевство. В этот момент Репнина известили о начавшемся восстании.
28 февраля в Подолии подкоморий (камергер) розаньский Красинский (брат епископа) вместе с И. Пулавским, известным адвокатом, и своими сторонниками захватили город Бар (княжество Любомирское) и подняли знамя восстания за веру и свободу. Они подписали акт конфедерации, требуя упразднения престола и прав диссидентов. В Галиции составилась другая конфедерация под руководством литовского вельможи И. Потоцкого; в Люблине действовал Рожевский. Отряды конфедератов быстро выросли до 8 тысяч человек, но состояли почти исключительно из шляхты. Народ оставался в стороне от восстания, одинаково равнодушный и к шляхетской свободе, и к защите веры, которую никто не притеснял. Станислав Понятовский пассивно поддерживал действия русских войск. Главную надежду конфедераты возлагали на поддержку извне. Епископ Красинский объездил Дрезденский, Версальский и Венский дворы, повсюду проповедуя, что Россия хочет овладеть Польшей и какая беда от этого будет Европе. Но более всего помощи вере ожидали от Турции.
В соответствии с духом времени патриотизм восставших уживался с феодальным разбоем. Отряды конфедератов, состоящие из той же загоновой шляхты, рассыпались по стране, захватывая казенные деньги, грабя друга и недруга, католиков и диссидентов, духовных и светских. Пограбив вдоволь, они укрывались в Силезии или Венгрии и, спустив все до нитки, возвращались в Польшу за новой добычей. Особой «удалью» отличался ротмистр Хлебовский. Всех попадавшихся на его пути нищих, евреев, хлопов он тотчас вешал на обочине дороге, так что, по словам самих же поляков, русским не нужны были проводники – его отряд можно было найти по веренице повешенных. Отряд Игнатия Малчевского русские войска преследовали полтора года и били всюду, где встречали, но она вновь пополнялась охотниками до дарового разврата и унижения гордых панов, которые теперь униженно заискивали перед шляхтичами-конфедератами. За один-два часа страха перед русскими конфедераты вознаграждали себя роскошью разгула по всей стране.
Особую злобу конфедераты проявляли в отношении православных – «песьей породы». Священников запрягали в плуги, били киями, секли терновыми розгами, засыпали им в голенища горячие уголья, забивали в колодки, отнимали имущество. Млиевского ктитора Данилу Кушнира обвязали паклей и сожгли. Православные некоторое время терпеливо сносили истязания за свою «собачью» веру и утешались тем, что вспоминали песни, как некогда их предки-казаки гатили болота панскими трупами. От песен перешли к делу. Первым к отмщению призвал Максим Железняк, запорожец, который уже было хотел стать иноком. Вместе с отрядами крестьянина Гонты он начал резать панских управителей и евреев – ростовщиков и неростовщиков – и рассылать воззвания к освобождению холопов. В своем ожесточении восставшие не щадили никого. Пана Кучевского, добровольно сдавшего местечко Лисянку, казаки оседлали, ездили на нем, потом закололи. Всех католиков, укрывшихся в костеле, перебили, а на дверях повесили ксендза, еврея и собаку: «Лях, жид и собака – у всех вера одинака!» В осажденной ими Умани, где поляки из-за недостатка воды перепились медом и вишневкой, голытьба Железняка и Гонты ворвалась в город и утопила его в крови. Ксендзов запрягали, гоняли по улицам, заставляя читать «верую», били по щекам и потом убивали. Иным отрубали руки и ноги и оставляли мучиться. Детей поднимали на копья. Сбежавшиеся хлопы потешались над муками ляхов. Осатанев от крови, они переодевались в католические облачения, кривлялись в них, плевали в костелах на образа и распятия, топтали святые дары: «Ото Бог ляцкий!» Тела убитых свалили в глубокий колодец. Поляки уверяли, что их погибло в Умани до 20 тысяч, но даже если это не так, то все равно уманская резня резко выделялась из общей картины зверств как той, так и другой стороны. Русские войска получили распоряжение вмешаться. Отряд донских казаков обманом взял Железняка и Гонту. Первого сослали в Сибирь, а второго выдали польским королевским войскам, действовавшим заодно с русскими против конфедератов. Своим поведением на эшафоте Гонта подтвердил, что у него мало что осталось от человеческих чувств. Когда перед четвертованием палач срезал у него со спины двенадцать полос кожи, Гонта громко кричал в толпу: «От казали: буде болiти, а воно нi кришки не болит, так наче блохи кусают!»
Военный суд над мятежниками, возглавляемый полковником Стемпковским, получил от короля неограниченное право меча (jus gladii). Стемпковский обосновался в местечке Кодня, которое вскоре стало кошмаром православных крестьян – визит к пану Стемпковскому заканчивался казнью или увечьем при пытке. Еще в конце XVIII века по польским дорогам бродили калеки со следами посещения Кодни. Они кричали вслед тем, кто плохо подавал милостыню: «А щоб тебе святая Кодня не минула!»
Восстание Железняка имело и более важное политическое значение. Один из его отрядов преследовал несколько десятков конфедератов до местечка Балты на турецкой границе. Турки взяли поляков под защиту и напали на преследователей, но были отогнаны. Преследуя их, русские сгоряча перешли на турецкую сторону и перебили поляков, укрывшихся в татарском селе.
Более удобного повода к войне трудно было придумать. Султан немедленно заключил в Семибашенный замок русского посланника Обрезкова и объявил войну России.
Общее командование русскими войсками в Польше было поручено генерал-поручику фон Вейнмарну – опытному начальнику, хотя и педанту, придерживающемуся общепринятой кордонной стратегии. Вейнмарн сразу же ввел в русской армии единство действий, которого не было у конфедератов. Поэтому, несмотря на свое численное превосходство последние повсеместно терпели поражения: Бердичев, Краков, Бар были захвачены русскими в первые же месяцы войны. Все же, чтобы вести эффективные действия против полупартизанских отрядов конфедератов у Вейнмарна не хватало сил: его корпус насчитывал всего около 10 тысяч человек, рассеянных по гарнизонам. Все, что было можно, Россия выставила против Турции. В Петербурге было решено укрепить русские войска в Польше четырьмя пехотными и двумя кирасирскими полками, квартировавшимися в Смоленске под началом генерал-поручика Нуммерса. В их состав входил и Суздальский полк Суворова.
Суворов получил в октябре 1768 года чин бригадира, а в ноябре – предписание идти с полком в Смоленск. Время для похода было самое тяжелое – холод, грязь, ранние сумерки. Идти приходилось по заболоченной местности. Но Суворов не зря водил своих солдат в течение пяти лет «аршинным» шагом: 850 верст, отделяющие Новую Ладогу от Смоленска, были пройдены им за 30 суток. При этом выбывших из строя было всего 7 человек: 6 захворавших и 1 дезертир (обычные цифры потерь при передвижениях в подобных условиях в то время составляли 20—30 % от общего числа солдат).
В Смоленске Суворов получает в распоряжение бригаду, в которую входит и Суздальский полк. Зима проходит в непрерывных учениях, особенно часты ночные марши.
Весной Суворов ведет бригаду в Оршу, затем через Минск к Варшаве. В августе он представляется Вейнмарну и сразу получает задание очистить район Бреста от отрядов братьев Пулавских, сыновей одного из видных вождей Барской конфедерации. 400 человек и 2 пушки – вот все, что Вейнмарн выделяет Суворову для этой операции. По пути Суворов пытается связаться с полковниками Ренном и Древицем, имеющими в своем распоряжении около 3 тысяч человек, но те нерешительно топчутся на месте, и Суворов продолжает движение один. Он обнаруживает Пулавских на лесной поляне возле деревни Орехово. Казачий разъезд доносит ему, что там скопилось не менее 2 тысяч всадников с несколькими пушками. Суворов и не думает уточнить численность неприятельского отряда, его солдаты помнят, что о враге спрашивают не «сколько?», а «где?». Он бросает пехоту через болото на мост, а кавалерию против пушек. Поляки, оправившись от неожиданности, спешно увозят орудия с позиций и затем четырежды атакуют русскую пехоту. Братья Пулавские лично возглавляют эти атаки. Польские кавалеристы с разных сторон набрасываются на русские каре. Был момент, когда один из состоящих при Суворове офицеров не выдержал и закричал: «Мы отрезаны!» Александр Васильевич тут же приказал арестовать паникера. В разгар боя русский офицер Кастелли с заряженным пистолетом оказался рядом с Казимиром Пулавским29. Франц Пулавский кинулся на помощь брату и получил пулю в упор вместо него. Неожиданная потеря ослабила польский натиск. Суворов замечает, что наступающая темнота скоро поможет польской кавалерии безнаказанно скрыться. Русские артиллеристы получают приказ зажечь в тылу у конфедератов деревню Орехово. Несколько выстрелов – и бомбы падают через соломенные крыши в избы, ветер мгновенно разносит огонь по соседним домам. Становится светлее, и Суворов посылает пехоту в штыки. Конфедераты не выдерживают и сломя голову мчатся сквозь горящую деревню к лесу. Лошади и люди обезумели, только небольшая часть конфедератов пытается перестроиться, но и она быстро приходит в смешение под ружейным и артиллерийским огнем и исчезает в лесу. Русская пехота останавливается на опушке, дает еще несколько залпов в лесной сумрак и опускает ружья. До темноты солдаты успевают подобрать убитых – в основном это поляки. Пленных мало, так как из-за малочисленности своего отряда Суворов перед боем приказал «не давать пардону».
После этого успеха Суворову поручается командование бригадой в Люблинском районе. Древний край был в запустении, среди лесов и холмов затерялись редкие деревушки с соломенными крышами; города с немногочисленным населением по старинке деревянные. Только древние монастыри и замки грозят каменными укреплениями. Люблин очень важен в стратегическом отношении: город расположен почти на одинаковом расстоянии от Варшавы, Бреста, Кракова. Его стены давно разрушены, но внутри сохранился укрепленный замок. Здесь Суворов учреждает «капитал» – главный пункт сосредоточения сил. Под его началом всего около 4 тысяч человек, с ними он должен удерживать весьма протяженную кордонную линию. Конфедератские отряды, почти сплошь состоящие из кавалерии, легко просачиваются сквозь русские посты, и около года Суворов безуспешно пытается очистить от них район.
Несмотря на слабость русских сил, поляки в течение всего 1769 года действовали вяло, переложив все тяготы войны на плечи турок. Временами в Польше наступало полное затишье. Военные операции ограничивались малыми поисками, иногда, впрочем, довольно лихими, вроде следующего эпизода. Отряд капитана Набокова – 18 гренадеров и 12 казаков – проведал, что у местечка Казеницы скопилось около 150 польских кавалеристов. Суворовская выучка дала себя знать. Недолго думая, Набоков пошел на конфедератов. Тихо подойдя к Казеницам, он разделил отряд на две части и внезапно ударил с разных сторон. После жаркой схватки поляки бежали, бросив казну и два десятка лошадей. На обратном пути Набоков рассеял еще один отряд численностью в 60 человек и захватил обоз. Суворов был в восторге от действий своих подчиненных и, посылая донесение о поиске капитана Набокова Вейнмарну, советовал прочесть его «вместо сказочки 1001 ночи».
В течение года таких «сказочек» набралось изрядное количество для того, чтобы 1 января 1770 года произвести Суворова в генерал-майоры.
Не всегда, правда, боевой порыв суворовских солдат подкреплялся умелым командованием младших офицеров. Случались и чувствительные неудачи. Так, поручик Веденяпин с 80 солдатами в одной из стычек уложил половину своего отряда, а с остальными сдался в плен. Негодованию Суворова не было пределов. В донесении об этом поражении он бранит Веденяпина, что тот «безрассудно и беспорядочно вступил в дело; ему не велено было соваться, кроме разве малых и ближних набегов; по своему расслабленному безумию он с 80 почти человеками не сумел разбить 300 бунтовщиков; всем внятно внушено, что на них можно нападать с силами в 4 и 5 раз меньшими, но с разумом, искусством и под ответом; будучи окружен, он стал беспорядочно отстреливаться, а на смелый и храбрый прорыв не пошел». В этом отрывке ярко виден характер суворовских требований к своим офицерам.
Поставленные перед Суворовым чисто оборонительные, вспомогательные задачи утомляли его, обширная служебная переписка по различным мелочам вызывала раздражение. Он жалуется знакомому в Варшаве: «Здоровьем поослаб, хлопот пропасть почти непреодолимых, трудности в будущем умножаются… Коликая бы мне была милость, если бы дали отдохнуть хоть один месяц, т. е. выпустили бы в поле. С Божьей помощью на свою бы руку я охулки не положил». Александр Васильевич сетует, что не может гнаться за конфедератами по неимению казаков и что несмотря на звание генерал-майора ему не поручают настоящих дел. Самолюбие Суворова особенно уязвлено тем, что Вейнмарн явно отдает предпочтение не ему, а полковнику Древицу, которому выделил крупные силы, в то время как Суворов обречен гоняться по лесам за отрядами конфедератов. Этот Древиц был ненавистен Суворову еще и по другой причине. Выходец из мекленбургской шляхты, наемник на русской службе, он вел войну с чрезвычайной жестокостью и вероломством, грабил имения польских дворян-конфедератов, наживался за счет мирных жителей; однажды приказал отрезать кисти рук у пленных польских офицеров, сдавшихся под его честное слово. Суворов негодовал по поводу действий Древица: «Употребляем он есть главнокомандующим в стыд наш, степенями его высших, якобы не имеющих ни качеств, ни заслуг ему подобных; в стыд России, лишившейся давно таких варварских времен». Древиц был одним из главных виновников дурной славы о русских в эту кампанию (несмотря на это Древиц позже был произведен в генералы, пожалован деревнями, сделался Древичем и спокойно зажил в отставке). Образ действий Суворова в этом отношении был прямой противоположностью поступкам Древица, чему сохранилось немало свидетельств. Александр Васильевич мог с полным правом записать в автобиографии: «В бытность мою в Польше сердце мое никогда не затруднялось в добре, и должность никогда не полагала тому преград».
В 1770 году самолюбие Суворова страдало особенно сильно еще и по другой причине. С театра турецкой войны приходили потрясающие известия о блестящих победах Румянцева при Ларге и Кагуле, о разгроме турецкого флота в Чесменской бухте. А он, Суворов, продолжал оставаться на невидных должностях, при делах, о которых даже в случае успеха нечего было сказать. Некоторое утешение ему принесли знаки ордена св. Анны, доставленные 30 сентября вместе с благодарственным письмом министра иностранных дел Панина.
Осенью Суворов чуть было не утонул при переправе через Вислу. Осеннее половодье усилило и без того бурное течение реки. Суворов не устоял на понтоне и упал в воду. При этом он так сильно ударился грудью о понтон, что лишился чувств. Волны уже почти сомкнулись над его телом, когда один гренадер ухватил его за волосы и вытащил из воды. Последствия ушиба сказывались в течение нескольких месяцев.
Словно сжалившись над Суворовым, новый 1771 год принес с собой бурное оживление военных действий в Польше, став самым богатым на события годом за всю польскую кампанию. Это оживление было связано с военной и финансовой помощью, полученной конфедератами из Франции. Еще в 1769 году министр иностранных дел Франции герцог Шуазель направил в Польшу своего агента де Толеса с деньгами для конфедератов. Однако де Толес вскоре возвратился во Францию, не истратив ни единого су. «В этой стране я не нашел ни одного коня, годного для королевской конюшни, а кляч покупать не хотел, почему и возвращаюсь с деньгами», – объяснил он Шуазелю причину неуспеха своей поездки. Де Толес с презрением говорил о том, что поляки не способны договориться друг с другом, что их отряды терпят повсеместные поражения и занимаются одним грабежом. Действительно, многие вожди конфедератов перессорились насмерть, их взаимная ненависть превышала враждебные чувства к русским. Дело дошло до того, что Потоцкий оговорил И. Пулавского перед турками, в результате чего этот главный создатель Барской конфедерации умер в константинопольской тюрьме. Правда, эта потеря была несколько возмещена тем, что к восстанию примкнул Радзивилл, снарядивший на свои деньги крупные отряды. Однако это не подвигло конфедератов на активные действия. Они обосновались в пограничном с Польшей венгерском городе Эпериеше (австрийское правительство смотрело на это сквозь пальцы), ограничиваясь неглубокими прорывами на польскую территорию.
Здесь их и застал следующий посланник Шуазеля, полковник Дюмурье, способный, проницательный, энергичный военный, будущий покоритель Голландии, знаменитый революционный генерал и не менее знаменитый предатель революции. Ознакомившись с положением дел, он так же, как де Толес, поначалу пришел в отчаяние. Дюмурье доносит Шуазелю, что верховный совет конфедератов – это общество знатных кутил и волокит, проводящее время в попойках и бешеной игре. Совет состоит из предводителей восьми независимых отрядов, не ведающих ни тени дисциплины, погрязших во взаимных раздорах и обидах. Дюмурье говорит, что они пришли в восторг от его приезда, потому что думали, что он привез им сокровища, и пришли в полное отчаяние, когда он заявил им, что приехал без денег, в которых, кстати, судя по их образу жизни, они и не нуждались. Дюмурье дал знать Шуазелю, чтобы тот прекратил выплату пенсий конфедератским вождям, что и было сделано незамедлительно.
Дюмурье по-французски свысока и довольно поверхностно характеризует руководителей восстания. Генеральный маршал Пац, пишет он, предан удовольствиям, очень любезен, но ветрен, в нем больше честолюбия, чем способностей, больше смелости, чем твердости и мужества, он красноречив, благодаря сеймам, что вообще Дюмурье считает национальной чертой поляков; Казимир Пулавский очень храбр, предприимчив, но чрезвычайно горд и независим, не умеет ни на чем остановиться, невежда в военном деле, гордый своими небольшими успехами, которые поляки ставят выше подвигов Собеского; князь Радзивилл – совершенное животное, но это самый знатный человек в Польше; наиболее же деятельным и дельным лицом является генеральный писарь конфедерации Богуш, деспотически управляющий всеми делами. Поляки, пишет Дюмурье далее, храбры, великодушны, учтивы, общительны. Они страстно любят свободу и охотно жертвуют ей имуществом и жизнью, но социальная система и конституционные законы сводят на нет их усилия. При аристократическом правлении «у благородных нет народа для управления», потому что нельзя назвать народом 8 или 10 миллионов рабов, которых продают, как домашних животных. Польша, по словам Дюмурье, – это чудовище, составленное из голов и желудков, но без рук и ног.
Блеснув слогом, Дюмурье переходит к описанию армии конфедерации, которая, по его мнению, вполне соответствует своим вождям. Дюмурье нашел, что из 16 тысяч человек, значащихся на бумаге, в наличии имеется не больше 10 тысяч. У поляков нет ни пехоты, ни артиллерии, ни крепостей, их отряды не устоят даже против казаков, не говоря уже о регулярной армии, беспокоился Дюмурье. Анархия пронизывает армию сверху донизу. Шляхта не хочет стоять на часах и посылает в караул вместо себя завербованных крестьян. Во время вылазок в Польшу конфедераты занимаются только грабежами своих соотечественников. Русские, по мнению Дюмурье, настолько преисполнены презрения к полякам, что даже не считают нужным выставлять против них хороших полководцев.
Осмотревшись и преодолев первое возмущение, Дюмурье энергично взялся за дело. Прежде всего он позаботился о введении в армии конфедерации единоначалия, предложив в главнокомандующие принца Карла Саксонского, обещавшего выставить 3 тысячи человек. С этим предложением согласились все, кроме К. Пулавского. Затем Дюмурье выписал из Франции офицеров всех родов оружия, создал опорные пункты вдоль границы, сформировал отряды пехоты из польских крестьян, которым паны ранее опасались давать оружие, и дезертиров прусской и австрийской армий. Он надеялся собрать 60 тысяч человек, с которыми намеревался двинуться через Краков и Варшаву в тыл войскам Румянцева в Молдавии, а затем вместе с турками – на Смоленск и Москву. Замыслы Дюмурье были более чем химеричны, но все же это был план и причем план наступательный. Весной 1771 года Дюмурье приступил к его осуществлению. 18 апреля русские войска в краковском округе были повсеместно атакованы конфедератами и отброшены за Вислу. Успех был ошеломляющим и для самих поляков. Одуревшие от радости шляхтичи предались самому буйному пьянству и кутежу, творя насилия над хлопами и евреями. Дюмурье призывал к порядку, наказывал, даже расстреливал, но никакие меры не могли остановить разгула. Его самого спасал от покушений только личный отряд из 220 французов.
Все же краковское наступление явилось полной неожиданностью для русских дипломатов и военных. Вейнмарн растерялся и думал только об обороне. Чтобы придать ему решительности, русским посланником в Варшаве был назначен Салдерн – человек энергичный, но до крайности раздражительный, яростный противник оборонительных действий. Он застал в Польше и Литве не более 16 тысяч русских войск, но сразу же заявил о своей решимости переломить ход событий. «Солдаты приучены к неряшеству и занимаются мелкой торговлей, – доносил он Екатерине II. – Я займусь серьезно установлением лучшего порядка и лучшей полиции в столице и ее окрестностях, нимало не беспокоясь, будет ли это нравиться его польскому величеству или магнатам. Я выгоню из Варшавы конфедератских вербовщиков: дело неслыханное, которое уже два года подряд здесь делается! Я не позволю, чтобы бросали каменья и черепицу на патрули русских солдат; дерзость доходит до того, что в них стреляют из ружей и пистолетов…»
Салдерн ищет подходящих для его планов офицеров и сразу останавливает свое внимание на Суворове: «Недостаток в офицерах, способных командовать отрядами или маленькими летучими корпусами, невероятен… На способность и благоразумие офицеров генерального штаба положиться нельзя. Все, что здесь делается хорошего, делается только благодаря доблести и неустрашимости солдат. Исключая генерал-майора Суворова и полковника Лопухина, деятельность других начальников ограничивается тем, чтобы делать от времени до времени щелчки конфедератским шайкам». Не останавливаясь перед самыми суровыми мерами, Салдерн издал декларацию, в которой объявил всех конфедератов бунтовщиками и разбойниками, вследствие чего предписал впредь не считать сдавшихся в плен поляков военнопленными и поступать с ними, как с уголовными преступниками, то есть вешать. Вейнмарн устрашился этой энергии и подал в отставку. В сентябре он был заменен генералом А.И. Бибиковым, вполне одобрявшим распоряжения нового посланника, но и его суровый Салдерн считал недостаточно твердым и чересчур подверженным женскому влиянию, от которого сам, кстати сказать, был совершенно свободен.
Говоря о Суворове как о генерале, не ограничивавшемся одними «щелчками» по врагу, Салдерн имел в виду довольно крупную операцию по очистке люблинского и краковского округов от конфедератов, предпринятую Суворовым в феврале. 6-го числа он вышел из Люблина и 9-го захватил город Ланцкорону, расположенный в 28 верстах от Кракова. Конфедераты укрылись в городском замке. Суворов лично повел отряд на штурм ворот, и уже было вломился в них, но удачный выстрел неприятельской пушки переранил всех офицеров атаковавшей роты; под Суворовым рухнула лошадь, ему самому картечь пробила платье, шляпу и оцарапала тело. Суворов отступил и, получив известие, что К. Пулавский подходит к Кракову, снял осаду Ланцкороны, не возобновив штурма. Неудача под Ланцкороной глубоко задела его. В донесении Вейнмарну он даже пытался свалить ее на волю Провидения: «Неудача сия не зависела ни от предусмотрения, ни [от] продерзости, ниже [ни от] диспозиции, которая от всех офицеров наблюдаема была… все то зависит от судьбы Божией». Но горькая правда, все же, вырывается из-под его пера: «Ланцкоронское происшествие зависело от суздальцев, кои ныне совсем не те, как при мне были (Суздальский полк уже около года находился под командованием полковника Штакельберга. – Авт.). Сих героев можно ныне уподобить стаду овец… Не упрекайте меня, милостивый государь, я думал с суздальцами победить весь свет». Ниже мы увидим, что Штакельберг, действительно, сильно распустил вверенные ему войска. Суздальцы же вскоре сослужили Суворову хорошую службу.
16 или 17 февраля Суворов ночью атаковал местечко Рахов. Передовая колонна тихо приблизилась к городку и сорвала польский пикет. Поляки, не успев даже выскочить из домов, запирались в них и сдавались после незначительного сопротивления. Русские солдаты разбрелись по улицам, и Суворов случайно остался один. Заметив в корчме польских драгун, он подъехал к ним и начал уговаривать их сдаться. Через некоторое время офицер вышел из дома, за ним показались драгуны с лошадьми на поводу. Они уже готовы были побросать оружие, как вдруг на улице показались казаки, которые, не заметив Суворова, открыли по ним стрельбу. Конфедераты, отстреливаясь, снова заперлись, при этом ни один из них не выстрелил в Суворова. Суворов снова вступил в переговоры, но на этот раз поляки оказались неуступчивее. Только после того, как он пригрозил зажечь корчму, они сложили оружие. Драгунов оказалось 50 человек – половина всех захваченных пленных. В этом деле отличились именно суздальцы. «Пехота поступала с великою субординациею, и я с нею помирился», —доносил Суворов Вейнмарну.
Следует добавить, что в этом деле казаками командовали пехотные офицеры, и Суворов впоследствии часто поступал таким же образом и всегда с хорошим результатом.
После Рахова состоялось еще несколько стычек с конфедератами, но пленные и обоз настолько обременяли Суворова, что «было уже не до атаки, а только бы пленных с рук сжить в Люблин».
Возвратясь в Люблин, Суворов узнал о наступлении Дюмурье, а вскоре получил предписание от Салдерна идти на Краков, возле которого сосредоточились главные силы конфедератов. Ему приходилось действовать совместно с Древицем. Предвидя это, Суворов еще ранее писал Вейнмарну: «Все сии движения выйдут пустыми, если он [Древиц] в точной моей команде состоять не будет. Два хозяина в одном доме быть не могут… Сие я доношу, как честный человек, в противном случае я от ответственности свободен». Вейнмарн пытался создать своему любимцу особое положение при Суворове, нечто вроде советника («для пользы службы»), но Александр Васильевич настоял на полном подчинении себе Древица.
В начале мая Суворов выступил в поход на Краков, приказав Древицу соединиться с ним в районе Ланцкороны. Весь путь был проделан очень быстро. Дюмурье узнал о том, что Суворов уже в Кракове вечером 9 мая, за ужином. Дюмурье приказал конфедератам сосредотачиваться у Тынецкого монастыря, неподалеку от Ланцкороны, и сам немедленно помчался туда. На всем пути он встречал спокойно спящих конфедератов, лошади были расседланы. Никто не ожидал нападения.
Тынецкий монастырь занимал польский гарнизон. Монастырь был хорошо укреплен: с одной стороны его прикрывала Висла, с трех других – стены со рвом и волчьи ямы. Уроки Дюмурье пошли на пользу конфедератам. Суворовские войска дважды брали восточный редут и оба раза были выбиты оттуда пехотой, сформированной из австрийских дезертиров. В бесплодных атаках прошло два часа, в течение которых Дюмурье стянул к Тынцу войска и вынудил Суворова отойти к Ланцкороне под огнем выстроившихся на высотах конфедератов.
На подходе к Ланцкороне к Суворову, имевшему 1600 человек, присоединился 2-тысячный корпус Древица. Получив подкрепление, Суворов сразу же двинулся на конфедератов. В свою очередь Дюмурье, стянувший к Тынцу около 4 тысяч кавалеристов и 200 французских егерей, требовал к себе К. Пулавского, но тот спокойно отвечал, что не желает подчиняться иностранцу и будет вести войну самостоятельно.
Дюмурье расположил войска на высотах, покрытых на скатах кустарником. Левым флангом конфедераты упирались в Ланцкорону, центр и правый фланг прикрывались рощами, в которых засели егеря. Дюмурье спокойно ожидал появления русских, имея превосходство в силах и выгодную позицию.
Суворов прибыл на поле боя вместе с авангардом и сразу дал приказ казакам атаковать центр до подхода главных сил. Видя, как казаки с гиканьем понеслись на высоты, Дюмурье решил, что русский военачальник сошел с ума, и запретил своим егерям стрелять до тех пор, пока казаки не поднимутся на гребни высот, чтобы Суворов не отложил безрассудную атаку.
Последующие события развивались столь стремительно, что Дюмурье так и не сообразил, где он допустил ошибку. Беспрепятственно обогнув рощи, казаки на высотах мигом сомкнулись в лаву и обрушились на центр и правый фланг конфедератов. Поляки сразу обратились в бегство. Сапега, командующий центром, пытался с саблей в руке остановить бегущих, и был убит ими. Командира правого фланга Оржевского зарубили казаки. Гусарский резерв Шюца тоже бежал.
Подоспевшая русская пехота выбила из рощ французских егерей и расположилась на высотах. Контратака кавалеристов Миончинского была ею отбита, после чего бегство стало повальным. Только небольшие отряды Дюмурье и Валевского сохранили присутствие духа и отступили в порядке.
Все сражение продолжалось не более получаса. 500 конфедератов остались лежать на поле боя; потери русских были ничтожны.
Дюмурье через несколько недель после разгрома навсегда уехал во Францию. «Мурье, – доносил Суворов, – управясь делом и, не дождавшись еще карьерной атаки, откланялся по-французскому и сделал антрешат в Белу, на границу». Похода на Москву не получилось. Позже Дюмурье неуважительно отзывался о действиях Суворова в этом сражении, уверяя, что они неминуемо должны были привести русских к поражению, если бы поляки не бежали позорно после первых же выстрелов. Александр Васильевич держался иного мнения: считал, что поражение поляков «произошло от хитрых маневров французскою запутанностью, которою мы воспользовались; они хороши для красоты в реляциях». Дюмурье забыл одну очень важную вещь: даже если бы поляки не побежали от казаков, он все равно смог бы одержать победу только в том случае, если бы Суворов дал себя разбить. Главную ошибку в этом сражении допустил, все же, Дюмурье, не дав стрелять егерям – ядру своей армии. Суворов же немедленно воспользовался этой ошибкой, не слишком заботясь о соответствии своих действий понятиям французского командующего о принципах военного искусства. Поступи Дюмурье иначе, Суворов выбрал бы другое решение. «Неприятелю времени давать не должно, пользоваться сколько можно его наименьшею ошибкой и брать его всегда смело с слабейшей стороны; но надлежит, чтобы войска предводителя своего разумели» – таковы были его «правила», опровергнуть которые не смог ни один из его многочисленных противников.
Польские же офицеры уверяли, что Суворов и понятия не имеет о военном искусстве, и с комической серьезностью приводили примеры суворовской неуклюжести. Бывало, займешь позицию, говорили они, ждешь русских с фронта, а он бросается на нас либо с тылу, либо во фланг. Мы разбегались более от страха и внезапности, нежели от поражения, с гордым видом заявляли они, – им казалось, что Суворов поступал так из презрения к их войскам. С этого времени о Суворове и начала распространяться слава, как о «диком» полководце, обязанном своим успехам лишь невероятному «военному счастью».
Лавры победы вместе с Суворовым разделял Древиц, и надо сказать, что Суворов, не колеблясь, воздал ему должное, отметив, что «полковник Древиц на сражении под Ланцкороной все дело сделал; он атаковал с искусством, мужеством и храбростью и весьма заслуживает императорской отличной милости и награждения». Справедливость, считал Александр Васильевич, необходимо входит в число добродетелей генерала. Так, когда К. Пулавский, зажатый между войсками Суворова и русскими крепостями, сумел ловким фланговым маневром прорваться к венгерской границе, избежав участи армии Дюмурье, Суворов с похвалой отозвался о его действиях и в знак уважения послал ему изящную фарфоровую табакерку.
На 17-е сутки после выступления Суворова из Люблина от грозного нашествия Дюмурье не осталось и следа. За это время Суворов прошел 700 верст, почти ежедневно имея стычки и сражения с неприятелем. Но он отводил от себя похвалы:
– Это еще ничего, римляне двигались шибче, прочтите Цезаря.
По возвращении в Люблин Суворов получил при указе императрицы от 19 августа знаки ордена св. Георгия Победоносца III класса.
В Польше наступило нечто вроде прежнего затишья, но ненадолго. Великий гетман литовский Огинский, до сих пор скрытно мирволивший конфедератам, теперь открыто перешел на их сторону. Огинский был честолюбец, помышляющий даже о польской короне. Прежде он долго колебался, не решаясь ни поддержать конфедератов, ни воевать с ними. Во время успехов Дюмурье он не примкнул к нему и стал загадкой для всех. По-видимому, он рассчитывал на помощь из Курляндии и на всеобщее восстание в Литве, явно переоценивая популярность своего имени.
Прорвавшийся в Литву отряд Коссаковского принес Огинскому ложное известие о низложении короля. Гетман решил, что его час настал. Его собственное войско насчитывало около 4 тысяч человек. Вместе с Коссаковским Огинский в ночь на 30 августа внезапно напал на отряд Албычева, которому было поручено наблюдать за гетманом. Албычев был убит, большая часть его отряда попала в плен. Манифест Огинского о присоединении к конфедератам вызвал у них ликование, особенно бурное после недавней катастрофы. К нему отовсюду начали стягиваться мелкие отряды. Огинский выступил из Несвижа, гоня перед собой слабый отряд полковника Диринга.
