Журнал «Парус» 74, 2019 г. бесплатное чтение
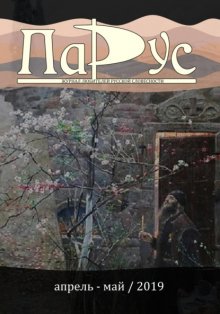
Цитата
Афанасий ФЕТ
ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ
Снова птицы летят издалёка
К берегам, расторгающим лед,
Солнце теплое ходит высоко
И душистого ландыша ждет.
Снова в сердце ничем не умеришь
До ланит восходящую кровь,
И душою подкупленной веришь,
Что, как мир, бесконечна любовь.
Но сойдемся ли снова так близко
Средь природы разнеженной мы,
Как видало ходившее низко
Нас холодное солнце зимы?
1848
Художественное слово: поэзия
Еп. Геннадий ГОГОЛЕВ. Благовещение
МУЗА
Сошла из облака на твердь,
Явилась, бледный лоб нахмуря,
Неотвратимая, как смерть,
Неодолимая, как буря.
Присяду молча у стола,
Глаза ладонями закрою,
Чтобы не сжег меня дотла
Твой взор, простертый надо мною.
Ты входишь в замки и в тюрьму,
Подъемлешь мертвецов в могилах,
И самовластью твоему
Никто противиться не в силах.
Что в лике пламенном твоем?
Каким меня отметишь даром?
Испепеляющим огнем?
Неутихающим пожаром?
Виски руками обхвачу,
На миг дыханье потеряю —
И вновь покорно прошепчу:
Диктуй… скорей… запоминаю.
АПРЕЛЬСКАЯ НОЧЬ
Апрельскою ночью глядела страна
В лицо торжествующей злобе.
Недобрая нынче случилась весна,
Но снова час мужества пробил.
Мой город блокадный, бежит тебя сон.
И мне не до сна и ночлега:
Не верю, что будешь ты вновь окружен
Чумой двадцать первого века.
Я лиру и душу настрою свою
Под теплой луной в Алатау.
Подобно акыну, молюсь и пою
Твои испытанья и славу.
Здесь горы пытаются спорить со мной,
Но вижу сквозь скалы и стены:
Носилки поставлены в ряд на Сенной, —
И слышу, как воют сирены.
Все флаги радушно мой город встречал
Волны доверительным плеском
И каждому гостю всегда открывал
Объятья собора на Невском.
Но если с проклятой и черной чумой
Зашлют нам посланцев из ада,
Их ангел могучий на шпиле твоем
Отгонит от стен Петрограда.
Не дремлет мой город святого Петра,
Не прячет орлиного взора.
Он силой любви победит навсегда
Звериную злобу террора.
4 апреля 2017 г.,
на следующий день после теракта в Санкт-Петербурге
РЖЕВ
Землей засыпаны траншеи,
Напитан кровью прах камней.
Кусты сожженные чернеют
В пустых провалах блиндажей.
Здесь два зарыты поколенья
Под грубый мертвенный гранит,
Здесь тяжкий молот истребленья
В холодном воздухе висит.
И, головы не подымая,
Шепча молитву нараспев,
Покажет женщина седая,
Где поворачивать на Ржев.
ГЛЕБУ СВЕШНИКОВУ
Прекрасно озеро Чудское…
Николай Языков
Прекрасно озеро Чудское
В туманный предрассветный час,
Когда сокрыто всё живое
От зорких и холодных глаз.
Не катит волны ветер быстрый
На усыпленные пески,
И воздух, молодой и чистый,
Безмолвно трогает виски.
Ничто не блещет, не сверкает.
Среди таинственных теней,
Лишь одиноко выступает
Гряда далекая камней.
Разбился, вспыхнув, луч рассвета,
Ни звезд, ни блеска, ни огня.
Печальным сумраком одета,
Природа спит, покой храня.
Качаясь, движутся виденья
В тумане влажном и густом.
Все наши страсти и стремленья
Безмолвно умирают в нем.
Прекрасно озеро Чудское
В туманный предрассветный час,
Когда сокрыто всё живое
От наших беспокойных глаз.
НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ В АЛМА-АТЕ
Правее от ограды – сад,
Левее – рынок потеснился.
А сам ты сделал шаг назад,
От шумных улиц отстранился.
Ты не имел парадный вид,
Ты высоко не устремлялся,
Ты не был славен, знаменит:
Благословлял и покорялся.
Когда расчетливая лесть
Плодила споры и раздоры,
Ты не желал похитить честь
У Вознесенского собора.
Но лишь суровый час настал
И полилася кровь рекою,
Ты всех гонимых принимал
И тихо жертвовал собою.
Ты знал и скорбь, и тесноту,
Но всё же вырвался из плена,
И пусть навеки правду ту
Святые сохраняют стены.
И снова на широкий двор
Войдем, душою замирая.
И улыбнется нам собор
Улыбкой старца Николая.
ОПТИНА
Прекрасны фотографии твои,
И акварели все твои чудесны,
И вновь прохладный, алый свет зари
Встречает ангел и трубит над лесом.
Проста, легка в полете, высока,
Под ранним солнцем блещет колокольня.
Кто говорил, что Божия река
У стен твоих волнуется привольно?
Раздался первый в колокол удар,
И капли рос, дрожа под ним, спадают.
Открылись кельи, выпуская пар.
Здесь по двору не ходят – а летают.
Всё больше молодых колоколов
В заутреню восторженно вступали,
И гул висит над речкой, как покров,
Что иноки молитвами соткали.
Какая радость слышать этот гул!
Ко входу в храм, проснувшись, пробираться.
И старец мне, мальчишке, намекнул:
«Вам хорошо бы в Оптиной остаться!»
***
Плавание злое кончаю…
Св. Григорий Богослов
Плаванье скоро окончу,
Вижу: в тумане далеком
Близится берег пустынный.
Что меня там ожидает?
Дремлют высокие горы,
В небе бледнеют вершины,
Стынут под снегом тяжелым,
Редко и тяжко вздыхают.
Пусто и тихо на бреге,
Только огромные камни —
Лики немых великанов
Замерли, словно в испуге.
Гибнет здесь всякая воля,
Взор не найдет себе пищи,
Ветер холодный уныло
В море уносит надежду.
Мёртвы соленые скалы…
Что это? Слышу я звуки!
Кто-то упрямо и мерно
Будто стучит за скалою.
Гнутся о камень лопаты:
В ярких цветастых нарядах
Два эфиопа, сутулясь,
Темную роют могилу.
ПАМЯТИ ПРОТ. АНДРЕЯ КАЗАРИНА
Милый друг, зачем такой далекий
И глухой избрал себе погост?
В небе ходит месяц светлоокий,
На кресты роняет капли слёз.
Комьями канавку завалило.
Спотыкаюсь и бреду по ней.
Самая печальная могила
На краю – окажется твоей.
Здесь до храма четверть часа ходу.
Тридцать лет – у твоего пути.
По камням, в неясную погоду
Нам с тобою довелось идти.
Ты упал, подкошенный до срока,
Оборвав неловко жизни нить.
Ты прости: из моего далека
Я тебя не прибыл схоронить.
На краю далекого погоста
Светлый месяц бьется с темнотой.
Молодая слабая березка
Одиноко гнется над тобой.
Тяжелы туманы на Ветлуге,
Надышаться ими – умереть.
Я останусь – о покойном друге
Панихиду грустную пропеть.
РОССИЯ
В краю печальном, бездорожном
Умолкли крики журавлей.
Там зверь ступает осторожно
На иней замерших полей.
Там, словно в горестном раздумье,
К воде склоняются кусты,
И пар от речки в новолунье
Согреет ветхие листы.
Там звезды меркнут в тучах серых,
Там на исходе сентября
Дрожит на бревнах обомшелых
Неясный свет от фонаря,
Там птичьи звучные напевы
В лесной умолкнут глубине,
И говорят, что ходит Дева
По умирающей стране.
Там ночь покроет снежным прахом
Во мхе нарубленную гать —
Лишь там дано любить монаху
И четки красные вязать.
ПОКРОВ
Сыпет туча снегом на траву,
Гонит лист в проулках непогода.
Ранний вечер смоет синеву
С треснувших осколков небосвода.
Утром холод до костей пробил:
Надеваю потеплее рясу.
Лето я еще не проводил,
А гляжу: зима приходит сразу.
Задышал легко Алмарасан,
Мягкий снег кружится над Талгаром.
Серых птиц залетный караван
Скроется за горным перевалом.
Расписные домики малы,
Яблоками катятся по склонам.
Над пустой дорогой две скалы
Замерли с почтительным поклоном.
Изо всех любимых городов
Ты одна становишься судьбою.
Нынче Богородичен Покров
Опустился над Алма-Атою.
ЛИСА
Снегири слетелись,
Сели у кормушки.
На мохнатой ели
Снежные подушки.
Тяжело ступая
Меж крутых сугробов,
Снеговик, вздыхая,
Выйдет из чащобы.
Ветерок колючий
Принесет снежинки
И крупой сыпучей
Заметет тропинки.
Снежная завеса
Застилает лица,
Семенит по лесу
Старая лисица.
Зайцу на потеху
Иль к лосихе в гости?
Заболят под мехом
Слабенькие кости.
Помнишь, как, бывало,
К деревенским курам
По ночам бежала
Путаным аллюром?
А теперь незримо
Слезы проливаешь,
Доживаешь зиму,
Снегирей пугаешь.
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
Белый голубь взвился над собором,
Вырвавшись стремительно из пут.
И вослед ему прощальным хором
Дети Благовещенье поют.
В светлый край, в лазурные чертоги
Улетай, родимый, поскорей,
Где Царица неба молит Бога
За своих балованных детей.
Валентина ДОНСКОВА. В час блуждания в мироздании
АМАЗОНКИ
О, праматери амазонки!
В жизни яростной круговерти —
Кровь горячая, голос звонкий,
А глаза – отрицанье смерти!
Стрелы острые посылали
Тетивою звенящей к цели,
Амазонками гордо звали
Дочек маленьких, с колыбели.
У костра под звездой падучей,
Помолившись богам недобрым,
Положась на себя и случай,
Отправлялись опять в дорогу.
Косы за спину, ногу в стремя,
И над полем – степною птицей
Сквозь пространство и через время,
Чтоб легендою возвратиться…
СЫН
Дремлющих глаз улыбка,
Розовых губ движенье…
В русской старинной зыбке
Спит моё продолженье.
Спит он – надежд созвездие,
Суд мой и искупленье,
Неправоты возмездие,
Вечной любви мученье.
В жизни поток великий
Влился росинкой малой,
Снов моих повелитель,
Мой до кровинки алой.
Очередное звёнышко
В сонмище поколений.
Небо, Земля и Солнышко,
Будьте к нему добрее!
В ЧАС БЛУЖДАНИЯ В МИРОЗДАНИИ
*
Взбудораженный, неналаженный,
На семи ветрах,
На семи бедах —
Мир страдающий,
Мир отважный, —
Непричесанный, неприглаженный,
Побеждающий смертный страх!
*
Если любишь – в любви обманешься,
Иль другого обманешь сам,
О предательство ближних ранишься,
Станешь плакаться… небесам…
*
Обещающий больше некуда,
Отправляющий в никуда.
А грядущее – было некогда…
Иль не сбудется никогда…
АЛЕШКИН ДЕД
У Алёшки дед —
Девяносто лет.
Галуны, лампасы,
Табака запасы.
Тёсом крышу крыл,
Лёньке говорил:
«Подновлю курень,
Доплету плетень,
Отпасу коров —
И придет Покров.
К Покрову ко дню
Соберу родню,
И как с плеч гора —
Помирать пора!»
А пришел Покров —
Дед как был – здоров!
Ладит целый день
На базу плетень.
У Алешки дед —
Девяносто лет.
***
Как мало нам дано,
Чтобы творить добро;
Спасти и уберечь —
Всегда ли в нашей власти?
А вот для зла
Довольно безучастья:
Смолчал, отвёл глаза —
И совершилось зло.
***
Я уйду, и тропа зарастёт сон-травой,
И забудется всё. Только мне бы хотелось,
Чтобы солнце вставало над мирной землёй,
Чтоб весной соловьям в светлой радости пелось.
Чтоб струилась река, чтобы вишни цвели,
Чтобы летней порой поле щедрое зрело,
Чтобы песня плыла над простором земли,
Чтоб в ней русское слово с другими звенело.
Чтобы смех да улыбки, да меньше вражды.
Чтобы в жизни везло не коварным, а правым,
Чтобы пахарь-кормилец не ведал нужды,
Чтоб не стало пути лицедеям кровавым.
Чтобы детям хватало любви и тепла,
Чтобы юности жизнь тупиком не казалась,
Чтобы смерть не звала бесприютная старость,
Чтобы Родина сильной и доброй была.
Я уйду, и тропа зарастёт сон-травой,
И забудется всё…
Анатолий СМИРНОВ. Грусти родной истома
ОТТЕПЕЛЬ
День воскресный и тает зима,
кроет улицы снежная слякоть.
Ветки, люди, машины, дома
и души беззащитная мякоть.
Скрыв её за сетчатками глаз,
молчаливо по городу кружишь,
напрямик рассекая подчас,
как слепец, тротуарные лужи.
Снег газонов бесцветен и рыхл,
стёкла окон в размывах рыданий,
и по следу свиданий былых
тебя память толкает меж зданий.
Память юности застит зрачки:
лик девичий, любовь и остуда,
даже имя забылось почти,
но живёт ощущение чуда.
Память юности тычет иглу
в ткани чувств воспалённых и мыслей…
Как в них был ты порывист и глуп,
сам, тот юный, себе ненавистен!
Берег Волги. Над той же рекой
тот же ветер, такие же тучи,
тот же шорох, а ты стал другой,
но не факт, что хоть в чём-нибудь лучше.
Не скопил ни богатств, ни ума,
лишь в желаньях стал мягок и розов…
День воскресный, раскисла зима
накануне никольских морозов.
ХОЧУ
Вновь снилось: ночь, вагон, и вдоль дороги
зубцами лес строгает небосвод,
еловый лес… Сквозь край, теплом убогий,
колючий край экспресс меня несёт.
Твой город дрёмный… Синеволоока
в выси апрельской Сириус-звезда…
Ты там давно, мне пишут, одинока.
Я здесь один и грустен, как тогда.
Добились мы того, чего хотели,
в карьерных распрях суетных времён.
Что ж сердце грустью мёрзнет, а к постели
уж столько лет слетает тот же сон?
Хочу, чтоб рядом вздёрнула ты брови,
лицом блеснула, как луна в окне,
и зяблой дрожью полыхнувшей крови
мне всколыхнуло кожу на спине!
Хочу губами тронуть твою руку,
чтоб нервов ток прожёг меня насквозь.
Хочу забыть про ссору, про разлуку,
про тридцать лет, что прожили мы врозь.
Хочу, хоть с вопрошающей улыбкой,
сказать у тверди мира на краю:
«Прости! Вся жизнь моя была ошибкой.
Одна в ней правда: я тебя люблю».
***
Край лесов и болот окаянных,
Отвоёванных палом полей.
Запах хвои, дурманы туманов,
Над болотами – клик журавлей.
Прилепились, как гнёзда, деревни
На угорах над вёрткой рекой.
В тишине лишь, как стражники, певни
Перекликами рушат покой.
Да с утра, когда солнца квадрига
Перекатит еловый лесок,
Под обрывом горбунья Шишига
Зазывает нырнуть в бочажок.
Занырни, если жизни не жалко…
Лучше ж спрячься за вербным кустом
И смотри, как на стрежне русалка
Губы струй рассекает хвостом.
А русальей забавой натешась,
Ляг спиной в шерсть травы на лугу
И внимай, как забывчивый Леший
Рассыпает по лесу «агу»,
Как сквозь воздух, что вкусен и плотен,
Отвечают ему через миг
То Бирюк, то Лаюн, то Болотник,
То хозяин лесов Боровик.
С их натурой не спорят здесь люди,
Что растут с топорами в руках,
Белоглазые правнуки чуди,
Затерявшейся в мшистых веках.
В полдень солнце прожаривает небо,
Засыхает в траве ветровей…
В край какой не забрёл б за потребой,
Помню: сам я от этих кровей.
Здесь вспоён духом елей и сосен,
Здесь на круге природного сна
Мне родня и кудесница Осень,
И колдуньи Зима да Весна,
И лягушка, и ворон на ветке,
И пчела, что сбирает нектар,
И Ендарь, и мохнатый Медведко,
И горячая птица Витар…
Как бы Бог ни раскинул дороги,
Верю: будет последняя мне
В этот край по Сити и Мологе,
В этот мир по Ухре и Шексне.
МАЛЬЧИК И ОСЕННЯЯ ЖУТЬ
Ветер сорвал с заката
шёлк лепестков георгина,
лунным быком рогатым
голову в звёзды вскинул.
Ночь, словно дочь саванны,
кожей чернея голой,
щиплет с гусей тумана
перья в пустой просёлок.
В мокром пере по пояс
ивы блестят перстами.
Жуть распускает пояс
злобы, шурша кустами.
Мальчик идёт просёлком
в каплях морозной ртути,
в щёки впились иголки
злого дыханья Жути.
Что тебя гонит, мальчик,
сквозь эти своры страха?
Грусти по дому зайчик?
Дней интернатских плаха?..
Свет занебесный тонок,
впутан он в звёздный кремний.
Кто тебя ждёт, дитёнок,
в глохлой твоей деревне?
Ночь, словно дочь саванны,
кожей чернея голой,
щиплет с гусей тумана
перья в пустой просёлок.
Мальчик идёт просёлком
в каплях морозной ртути;
словно глазищи волка,
в ивах глазищи Жути.
Над запустевшей Русью
ветер читает святцы…
Мальчику Бог попустит,
даст через Жуть продраться.
Грусти родной истома,
дней интернатских плахи…
Мальчик дойдёт до дома,
мальчик убьёт все страхи!
***
В хмелю труда, в заботах праздной скуки,
В изломах дней и в косности ночей
Всё вспоминает косы, плечи, руки,
Всё воскрешает даль её очей.
Та даль была синя, как даль июля
За многоцветной тканью луговой,
Когда шмелей оранжевые пули
На взлёте дня поют над головой.
Ни тени зла, ни облачка раздора,
Ни в перехлёст полынного куста
Не притемняло царственного взора,
В нём жизнь цвела иконна и чиста.
Он был снесён, как вихрем, по Отчизне
Прочь от неё в бурьян и лопухи,
А лишь она могла изгнать из жизни
Его души лукавства и грехи.
ТЕНЬ
Октябрьский полдень прозрачен и чист,
В небе самолёт дымит колею.
Срывается с ветки берёзы лист
И медленно падает в тень свою.
Весёлой бабочкой лёг на тень,
Что вжалась в песок у сухого пня;
До снега с листом будут ночь и день,
А тень уже не увидит дня.
Пусть ветер сумеет листок сволочь
То вправо, то влево от комля пня,
Для тени настала вечная ночь
Под тем, кто ей был и творец, и родня…
А он, что в душе всё твердит мне «ты»,
И я, говорящий то же в ответ,
Мы – тень и лист на ветру суеты,
Где и ветка жизни, и неба свет.
Но иных законов над нами сень,
Которую не отодвинешь прочь:
Умру, с друзьями останется тень,
А я под ней сразу лягу в ночь.
Пересаженные цветы
Кейседин АЛИЕВ.
Мы все – родня, как зерна для посева
Перевод с лезгинского Евгения Чеканова
***
Всё то, что началось, окончится когда-то.
Развалины гробниц гласят о том щербато.
Так есть ли у всего начало и конец?
Ученые в ответ смолкают виновато.
***
Как ни ряди, а наша жизнь – короткая игра.
Чем ближе срок, тем мир темней. И вот уж в гроб пора.
Но и тогда на все куски рты разеваем мы:
И аппетит у нас хорош, и манят повара!
***
Растенье рвется к солнцу,
Покуда не увянет.
Того, кто заблудился,
К огням далеким тянет.
И мать летит к ребенку
На крик, что душу ранит.
И реки вперегонку
С гор мчатся – море манит!
Бег, бег!.. Дай нам вернуться
В привычное забвенье!
Коль не к чему тянуться,
Тогда бежать – мученье.
***
И ангел есть, и черт… Не оттого ли
У многих на Земле двоятся роли?
Желают быть и другом каравана,
И тех воров, что поджидают в поле.
***
Когда б язык наш не хулил, а нес хвалу,
Не знали б мы скорбей в земном углу.
Счетов за блага и грехи не ждали б долго,
При жизни получая их к столу.
***
Сколь ни тошна нам смерть с ее скорбями,
Ее не предпочтем ли мы бессмертью?
Не лучше ль быть тут вечными гостями
И дань платить земному круговертью?
Коль перестанем Землю покидать мы,
То вечными предстанем перед Богом.
Но где мудрец, который скажет твердо,
Что станем мы честней и благородней?
***
Помочь отчизне хочешь ты душою всею,
Согласья в людях ищешь ты душою всею.
Но вот опять встречаешь ты людскую низость
И плачешь горестно опять душою всею.
***
Снова сетуешь? Скажи-ка, много ль проку в том?
Были сетованья прежде, будут и потом.
Только вот в законах жизни изменений нет:
Плач – одним, другим – веселье в мире обжитом.
***
Передают, что, завершая жизнь,
Спросил Мусу один почтенный житель:
«Скажи, Пророк, откуда мы взялись?
Кто сотворил нас? Кто наш прародитель?»
И тот ответил: «На лице Земли
Мы все – родня, как зерна для посева.
Нас всех сюда однажды привели
Отец-Адам и наша матерь-Ева».
Передают, что, завершая жизнь,
Спросил Ису другой почтенный житель:
«Скажи, Пророк, откуда мы взялись?
Кто сотворил нас? Кто наш прародитель?»
И тот ответил: «На лице Земли
Мы все – родня, как зерна для посева.
Нас всех сюда однажды привели
Отец-Адам и наша матерь-Ева».
Передают, что, завершая жизнь,
Мухаммеда спросил почтенный житель:
«Скажи, Пророк, откуда мы взялись?
Кто сотворил нас? Кто наш прародитель?»
И тот ответил: «На лице Земли
Мы все – родня, как зерна для посева.
Нас всех сюда однажды привели
Отец-Адам и наша матерь-Ева».
Как славно было б, коль, входя во гнев,
Припомнил всяк про древний тот посев,
Спасенный от губительного зева,
Про то, что мы – родня в садах Земли,
Что нас сюда однажды привели
Отец-Адам и наша матерь-Ева.
***
Ну что скрывать: дрянного много на Земле,
Живут на ней дрянные люди, в том числе.
Не потому ль новорожденный плачет горько,
И недовольство на младенческом челе?
***
Где нынче совесть, честь и долг?
Не могут многие взять в толк,
Куда ушли они… Как встарь,
Овца – овцой, и волком – волк.
***
А вот и осень… С дождиком на пару
Гуляет ветер, рощицу очистив.
Увянув разом, прямо к тротуару
Летят с вершин десятки желтых листьев.
Теперь уж не споет им песен птица,
По скользким веткам бегая украдкой.
И лишь один, быть может, сохранится
В девичьей книжке – желтою закладкой.
…Стихи ведь тоже вянут – знаем мы!
И потому от радости заплачем,
Когда придет не знающий зимы
Поэт, обличьем схожий с карагачем.
Но тленно всё во тьме веков земных
И всё сгорает в бренном мире этом…
Коль не увянет хоть один мой стих,
Тогда смогу назвать себя поэтом.
***
И душа моя, и мысли, и дела
У Всевышнего в руках?.. Ему хвала!
Но зачем тогда за глупости мои
Одному мне достается вся хула?
***
Забыть готовясь про земное бытие,
Опять берешь чужое, как свое…
Убогий! Разве ты – не сын Вселенной
И не наследник всех богатств ее?
Художественное слово: проза
Дмитрий ЛАГУТИН. Апельсин
Рассказ
Окно бабушкиной кухни выходит во двор. Сарай, теплица, грядки, старая сутулая яблоня – всё укрыто толстым слоем мерцающего снега. Всё погружено в густую тишину. Всё спит. Редкие звезды рассыпаны по черному небу.
В кухне тепло, мягко светит настольная лампа – свет не добирается до углов, и они теряются в полумраке. На холодильнике бормочет радио, сам холодильник то и дело принимается гудеть и вздыхать.
Над чашкой качаются лепестки пара.
Из-за стены доносится приглушенная музыка – летит издалека, трется, меняет очертания. Бабушка смотрела свою «Культуру», задремала, а у меня нет ключей – уйти сам я не могу; но будить ее не хочется – здорово спать под классическую музыку! – и вот я сижу в теплой кухне, обжигаю ладони о чашку и смотрю в окно.
Век бы так сидел.
Радио перестает бормотать и запевает гнусавым голосом – голос сливается с просачивающейся сквозь стену музыкой и по кухне плывет туман из звуков, обволакивает меня, убаюкивает.
По двору, поджимая к животу лапы, проваливаясь в снег, крадется соседский кот. Добирается до теплицы, исчезает за ней.
За теплицей – яблоня, за яблоней – забор, за забором – уходящие вдаль сугробы крыш. Кое-где торчат черенки труб, из них вырастают сизые столбы дыма.
Я вижу свое отражение, вижу, как блестят глаза, как блестит на безымянном пальце кольцо. Какие у меня длинные, худые пальцы. Вижу зыбкое отражение кухни – предметы дрожат, растворяются, шкаф растерял все стенки, кроме одной, от холодильника осталась лишь дверца, сверкает кружок часов, он висит не на стене – стены нет – а на широкой яблоневой кроне, вместо отсутствующей луны.
Отворачиваюсь от окна, выглядываю в коридор. Показалось. Лампа бросает в коридор бледный тлеющий прямоугольник света, выхватывает полукруг столешницы, сервант, крючки вешалок. Яркими пятнами висят в воздухе широкие овальные листья, на них свет ложится с готовностью – останавливается, застывает.
Это апельсин.
Я оставляю чашку на столе и выхожу в коридор – моя тень вытягивается, ныряет за порог, раскалывает надвое тлеющий прямоугольник.
Апельсин стоит на толстоногой табуретке, у окна, в огромном горшке. Поднять горшок можно только вдвоем. Апельсин тянется к окну, упирается макушкой в потолок, ветви его покрыты сухой морщинистой корой, но по мере удаления от ствола они истончаются и нежнеют. Листья – широкие, плотные, налитые соком.
Это окно также смотрит во двор – и странно видеть на белом фоне раскидистый силуэт апельсинового дерева. От окна на листья, на кору падает прозрачной пленкой серебряный отсвет. На листьях – ни пылинки, я точно знаю, что бабушка раз в неделю протирает их влажной тряпочкой. Вот и тряпочка – на подоконнике.
Осторожно – точно боюсь разбудить – касаюсь тех листьев, на которых покоится свет лампы. Сухие и теплые. Апельсин пьет очень много воды, но все время кажется, что ему ее не хватает.
Радио перестает петь и снова бормочет, «Культуры» отсюда почти совсем не слышно. Зато с улицы летит собачий лай – в частном секторе собаки частенько устраивают ночные «переклички»: лают по очереди из-за заборов, для порядка.
Существует все же какая-то глубинная связь между человеком и деревом, которое он посадил, – я не могу сказать, в чем она выражается, но ощущаю ее всякий раз, когда касаюсь этих листьев. В детстве я все ждал, что однажды между ними запылает оранжевая кожура. Это было бы, конечно, совсем чудом – но и в самом наличии апельсинового дерева, в том, как оно появилось, я всегда видел нечто чудесное.
Крошечный зеленый росток показался из земли под широким крылом молочая – в первом горшке, если считать от стены, из тех, что стояли тогда на подоконнике в столовой. Окно столовой выходит на улицу, и малыш рос, глядя на теснящуюся в палисаднике сирень, рыжую коробку гаража и возвышающийся над гаражом клен.
Первой, конечно, росток заметила бабушка – листочки апельсина очень скоро приобретают характерную форму.
Открыли энциклопедию и ахнули:
– Апельсин!
И я вспомнил, что именно в этот горшок я ткнул апельсиновую косточку, которую поленился выкидывать. Я очень живо это вспомнил – быть может, тогда впервые сверкнула таинственная связь человека и дерева – и помню по сей день: мне семь лет, я сижу на диване, в уголке, у самого окна, на экране телевизора сверкает, переливается, звенит что-то новогоднее: звучат песни, музыка, там пьют шампанское и смеются. Рядом с телевизором горит огнями елка – живая – и по столовой плывет вязкий запах хвои. Вся семья – вокруг праздничного стола. Мама чистит апельсин, с глухим треском отрывая от него толстую кожуру, протягивает мне несколько холодных долек. В нос бьет душистый аромат, я чавкаю – так вкуснее. Нащупываю косточку, ловлю ее большим и указательным пальцами, но меньше всего я сейчас хочу вставать и куда-то идти – даже два шага, отделяющие диван от стола, кажутся пропастью. Я протягиваю руку к окну, за штору – стекло дышит холодом – нащупываю цветочный горшок и одним движением погружаю влажную косточку в землю.
Воспоминание обрывается.
Я был чрезвычайно горд – шутка ли! Ходил, надувшись, подмигивал росточку и даже несколько раз поливал его под присмотром бабушки.
Думаю, если бы апельсин умел оценивать окружающую обстановку, он обязательно отметил бы атмосферу веселья и гостеприимства, царившую в нашем доме. Не проходило и двух недель, чтобы к нам не заявлялись гости – бесчисленные дядюшки, тетушки, братья и сестры, кумушки и кумовья. Стол неизменно накрывали в столовой – и музыка, разговоры, а то и песни не смолкали до поздней ночи.
Спустя полтора года родился мой младший брат и к общей гамме звуков прибавился тонкий детский плач, в положенное время сменившийся агуканьем, балаканьем и прочими премилыми нотами. Гости стали приходить еще чаще – и приводить с собой маленьких детей; дом превратился в шумную музыкальную шкатулку, и я просто не могу вспоминать свое детство без улыбки – все праздники слились в непрекращающийся круговорот огней и музыки…
За окном начинается снегопад. Крупные, грузные хлопья медленно тянутся сверху вниз – так медленно, словно их спускают на ниточках. По забору, спихивая лапой налипший снег, семенит соседский кот – неймется ему, нет бы дома сидеть.
Очень скоро апельсин пересадили в отдельный горшок – и на месте молочая я бы загрустил. Апельсин рос красивый, тоненький, нежно-нежно-зеленый, листочки у него просвечивали на солнце, и можно было разглядеть каждую жилку. Ни о какой коре еще и речи не шло – страшно было докоснуться: вдруг поранишь?
Я мог забраться на гараж, с него – на клен, зарыться в самую гущу пятипалых кленовых звезд, выглянуть и увидеть в нашем окне стройное деревце. Я говорю «мог», потому что не помню наверняка, высматривал ли я с улицы – тем паче, с клена – свой апельсин, но мне хочется думать, что хотя бы раз да высматривал.
Когда ствол апельсина уже был покрыт светлой и тонкой, как ее звала бабушка, «корицей», брат – к тому времени знавший наизусть несколько стихотворений Агнии Барто – зачем-то вздумал карабкаться на подоконник. Неловко повернулся – и апельсин полетел на пол вместе с горшком. Горшок раскололся, одна веточка сломалась. Брат испугался, заплакал, я разозлился на него и побежал за бабушкой. Когда она пришла, брат так и сидел на подоконнике – ревел.
– Ничего, – сказала она. – Все равно пересаживать пора, смотрите, какие корни.
За то время, что апельсин жил в собственном горшке, его корни удивительно разрослись – тугой клубок белых нитей поджал под себя почти всю землю, и поэтому на пол ее просыпалось совсем чуть-чуть.
Брат перестал реветь и только шмыгал носом, поглядывая то на меня, то на бабушку – в то время апельсин его почти совсем не интересовал: цветок и цветок. Бабушка погрозила мне пальцем и велела собирать черепки. Брат сполз с подоконника – помогать.
Много лет спустя, когда бабушка уже жила одна – и по счастливой случайности именно в тот вечер гостила у нас – в дом забрался вор. Забрался через это самое окно, опрокинул горшок с бегонией. Апельсин уже ни на одном подоконнике уместиться бы не мог, но я, увидев жалкую смятую бегонию, сразу вспомнил тот случай с братом. Вор вытряс из комода ящики, выгреб на пол содержимое книжного шкафа – тайник, что ли, искал? – и ушел дворами, захватив с собой две шкатулки с украшениями, основная ценность которых заключалась в воспоминаниях. На полу кухни остался лежать разбитым экраном вниз телевизор – злоумышленник в последний момент понял, что с телевизором под мышкой через заборы не попрыгаешь.
Бабушка потрясала кулачками и храбрилась, но видно было, что она напугана – как пугается, казалось бы, понапрасну, человек, за спиной которого промчался с ревом автомобиль. Вора искала вся улица, от крыльца к крыльцу ходил участковый; через два дня на каждом окне бабушкиного дома красовалось по решетке. Бабушка посокрушалась для виду, но вздохнула с облегчением. Отец убеждал ее какое-то время пожить у нас, но она оставлять дом отказалась, требовала себе охотничье ружье – и еще почти месяц отец ночевал в комнате, которую когда-то занимали мы с братом…
Снег усиливается – и больше не кажется, что каждая снежинка привязана к нитке. Теперь кажется, что снежинки – живые, что они танцуют. Где же луна? Почему не видно луны? Я опираюсь о подоконник, заглядываю, насколько хватает глаз, влево, вправо. Луны нет, в небе ни облачка. На стекле остается мутный кружок от моего дыхания – я смотрю, как он тает, уменьшается, превращается в точку и исчезает. В призрачном серебряном свете листья выглядят неживыми, холодными, вырезанными из картона.
Радио снова поет – на этот раз веселее, тонким женским голосом. Холодильник невпопад вздыхает, радиаторная решетка устало дребезжит.
После инцидента с братом апельсин пересадили в новый горшок – побольше – и перенесли из столовой в зал, на подоконник у пианино – это место почему-то показалось бабушке более безопасным. Теперь апельсин видел не только сирень, гараж и клен, но и пышную иву, примостившуюся у дома напротив, на той стороне улицы. Под водопадом ивовых ветвей строили шалаши девчонки – они боялись лазать на клен. Мы, мальчишки, совершали на шалаши набеги, разоряли, рушили, а девчонки раз за разом отстраивали их заново – рассаживали по углам кукол, обвязывали ветви потрепанной новогодней мишурой. Когда на иву падали солнечные лучи, она начинала блестеть – сквозь листву.
«Нужно посмотреть, – думаю я, – наверняка что-то сохранилось, блестит по сей день».
Радио звонко поет, и мне хочется шагнуть на кухню, сделать звук громче, но я не иду.
В зале не накрывали праздничных столов, и там, вероятно, было не так весело, как в столовой, но зал – самая светлая комната в доме, с самыми широкими окнами, в солнечные дни кажется, что ты не в комнате, а на веранде. Поэтому на месте апельсина я бы не особенно огорчился переезду.
Но кое-какому переезду огорчиться пришлось. Когда мне было тринадцать, родители купили квартиру в центре города – и мы все в нее перебрались. Все, кроме бабушки – она уже не требовала ружья, но мысли о том, чтобы покинуть дом, по-прежнему не допускала. Ее можно понять – здесь она родилась; между человеком и домом, в котором этот человек живет столько лет, тоже существует, вероятно, какая-то особая связь.
Острее всего изменения переживал, по-видимому, я. Мы регулярно приезжали к бабушке, и стол в столовой продолжал ломиться, и даже мама вдруг снова полюбила пианино, играть на котором зареклась много лет назад, – но какие-то нити внутри меня стали обрываться. Иву теперь грабили без моего участия, и однажды я осознал, что не переживаю по этому поводу. Круговорот огней и музыки стал удаляться, хотя гостей меньше не становилось и они теперь кочевали от дома к квартире и обратно, – но я уже не чувствовал себя вовлеченным во всеобщее веселье. Наверное, все это совпало с тем временем, когда я переходил рубеж между детством и… что там следует за детством?
Мой брат, к слову, вообще не помнит тех лет, что он провел в бабушкином доме, – он был совсем мал и для него сознательная мальчишеская жизнь началась уже на новом месте, в гулком дворе четырехэтажного дома с прямоугольной баскетбольной площадкой в центре.
Апельсин сперва переехал вместе с нами – но затосковал и стал чахнуть на глазах. Листья поникли, некоторые съежились – хотя и света, и воды, и свежего воздуха хватало с избытком.
Вспоминаю про чай – он совсем остыл. Возвращаюсь к столу, сажусь, в два глотка осушаю кружку. Радио почему-то молчит и холодильник замер – зато музыка за стеной разошлась не на шутку. Сухо и, кажется, строго щелкают часы, гудит равномерно газовый котел. Я смотрю на оранжевые в свете лампы листья, выглядывающие из коридора.
Разумеется, тому, что апельсин чуть не зачах в новой квартире – его таскали из одной комнаты в другую, пока не решили перевезти обратно – наверняка можно подобрать рациональное ботаническое объяснение, но мне хочется думать, что дерево – а это уже было настоящее дерево – именно затосковало. По дому, по бабушке.
Его привезли и поставили в коридоре – на том самом месте, на котором он стоит сейчас. В зале и в столовой стало прохладнее. Приземистую толстоногую табуретку смастерил на уроке труда брат. Сейчас он учится на втором курсе университета, и если перестанет бриться, на его щеках заколосятся бакенбарды почище пушкинских.
С началом лета апельсин, сменивший – ввиду стремительного роста – уже седьмой или восьмой горшок, выносят во двор. Час или полтора – пока для нас с братом есть хозяйственные поручения особой важности – дерево стоит между грядок, и может показаться, что оно растет прямо из земли. Мы поливаем клумбы, лазаем на крышу, спускаемся в холодный тесный погреб, пьем чай в кухне, прилежно слушаем бабушкины наставления или просто сидим на лавочке возле сарая, щурясь от солнца – а апельсин тянет во все стороны свои изумрудные ветви и впитывает в себя лето, тепло, птичий щебет, голубое небо, шелест листвы. Я чувствую, как он оживает, как бежит под корой терпкий прозрачный сок. Брат поливает апельсин из шланга, прижимает к струе большой палец, сквозь веер капель плывет нам навстречу радуга – и ее тоже впитывают широкие сверкающие листья. Все радуется лету – даже сутулая яблоня одобрительно качает склоненными ветвями, кивает по-старушечьи, а в ее зелени щебечут, снуют птицы.
Однажды на апельсин приземлилась, мельтеша крыльями, трясогузка – прошлась туда-сюда с важным видом и упорхнула.
Полив дерево, мы затаскиваем его в теплицу – вглубь помидорных джунглей. Тепличные условия более всего похожи на среду, в которой положено пребывать апельсину. Осенью, когда ветер носит над дворами красные кленовые листья, а в воздухе мерцают загадочно паутинки, мы возвращаем апельсин в дом, в коридор, к окну, ставим на ту самую, толстоногую табуретку, укрепленную для надежности железными скобами.
Теперь апельсин снова в доме – он слушает, как скрипит под бабушкиными шагами пол, как бормочет на холодильнике радио, как басит лучшими тенорами – отсюда слышно только лучших из лучших – телеканал «Культура». За окном льют дожди, им на смену приходит первый сухой снежок, но быстро отступает – и опять дожди, дожди. Ветер свистит все надрывнее, все капризнее отмахивается от него яблоня – и, наконец, после долгого гнетущего безвременья приходит зима, застилает все белыми перинами. Как странно, наверное, апельсину наблюдать зиму вблизи!
Каждый, кто входит в дом, видит в глубине коридора могучие ветви – и если видит впервые, неизменно удивляется. Оставляет ботинки у двери – вокруг них на полу образуется лужица – и идет здороваться с апельсином: гладит листву, качает головой: то ли восхищается, то ли сочувствует теплолюбивому гостю, запертому в русской зиме.
Приходят к бабушке подружки – маленькие, сухонькие – и апельсин подолгу слушает, как воркуют они на кухне, как хвалят пироги, обсуждают новый состав симфонического оркестра, вспоминают далекие времена, посмеиваются. Долго прощаются, долго стоят на пороге, поправляют шапки, платки, ругают синоптиков. Наконец, бабушка закрывает дверь, идет по коридору. У зеркала она останавливается и поправляет выбившуюся прядь. Проходя мимо апельсина, неизменно задевает плечом широкий лист, – не из неловкости, а как-то привычно, будто так и надо, будто это тоже часть общения.
Потом долго звенит посуда, шипит в раковине вода, радио тихо поет, бабушка ему подпевает. Потом она гасит свет и уходит в комнату – радио тут никогда не выключается, ему вторят, игнорируя время и пространство, лучшие тенора. Но ближе к полуночи «Культура» отправляется на боковую, дом погружается в сон. Апельсин неподвижно стоит у окна, озаряемый лунным светом – свет отражается от сугробов, от налипших на яблоню комьев снега, и за окном совсем светло. По стенам коридора плывет черная витиеватая тень, обрамленная серебряным сиянием – ветви, листья, иголки шипов. Кажется, что это узор, что он нарисован – и останется здесь, даже когда взойдет солнце и по коридору поплывут розовые и лиловые волны света…
Меня начинает клонить в сон. Воет ветер. Краем глаза вижу, как бушует за окном метель. Кухня качается, точно я на корабле. Мысли принимают причудливые формы, плывут через кухню караваном, поднимают в воздух облака золотого песка. Яркие пятна листьев переплетаются и сливаются.
Что, если растения способны видеть сны? Что, если моему апельсину снится… Откуда к нам везут апельсины? Что, если ему снятся раскаленные пески, черные жерла колодцев, журчание драгоценных источников, всхрапывания верблюдов, крики погонщиков – на языке, которого он никогда не слышал? Горизонт, дрожащий в знойной дымке, грохот редких дождей, пышные разноцветные сады… Я думаю об этом, и мне уже кажется, что я сам стою по щиколотку в песке, вместо рук у меня ветви, и ветер гладит широкую изумрудную листву, покрывающую их. Мне кажется, что я накрепко привязан к самому сердцу земли тонкими белыми нитями, что небо надо мной похоже на водную гладь – и по нему пробегают прохладные волны. Кажется, что птицы садятся мне на плечи и щебечут что-то, щекочут шею крыльями, а откуда-то издалека льется, переливается женский голос, тянется песня…
Я и впрямь слышу песню – но почти сразу понимаю, что это запело после недолгого перерыва радио на холодильнике. Выныриваю из объятий сна, вздрагиваю и едва не сталкиваю на пол пустую чашку, которую все это время, оказывается, придерживал рукой.
За тридевять земель скрипит пол. Я слышу, как открывается дверь, вижу, как в коридоре показывается бабушка. Лицо у нее строгое, она спрашивает, почему я ее не разбудил. Я говорю, что сам задремал. Строгость исчезает с ее лица, сменяясь улыбкой. Бабушка идет к плите, проверяет, есть ли в чайнике вода.
Я встаю, потягиваюсь – давно пора ехать.
– И даже не поел?
Я вру, что не голоден, целую ее в макушку, ставлю чашку в раковину и иду в коридор, к вешалке.
Апельсин стоит неподвижно – и нельзя понять, провожает ли он меня в молчаливой торжественности или задумчиво смотрит на метель, в которой растворились и сарай, и яблоня, и двор, и крыши с черенками труб – только зернистая белая пелена приникает с той стороны к стеклу.
– Застегивайся лучше, – командует бабушка у порога. – У вас как, не холодно?
– У нас – это у нас или у нас?
Я ведь уже год как переехал – сразу после свадьбы. Мы теперь живем в однушке на другом краю города, у самой реки. Сейчас река похожа на широкую белую дорогу, по ней ходят рыбаки, раскладывают свои табуреточки.
– У вас, – поясняет бабушка с улыбкой.
Я улыбаюсь в ответ.
Как только я открываю дверь, в коридор влетает горсть звонкой белой крупы.
– Всё, – суечусь я, поправляя шапку, – не держи открытой.
Выпрыгиваю на крыльцо, захлопываю дверь. Слышу, как щелкают замки. Один, второй…
Метет немыслимо – но от этого мне почему-то весело, хочется так и стоять, в самом центре метели, задыхаться, жмуриться. На гараже лежит слой снега толщиной чуть ли не в сам гараж, черный силуэт клена проглядывает сквозь пелену и кажется то ли великаном, то ли сторожевой башней. На той стороне улицы едва угадываются покатые плечи ивы.
Я спускаюсь с крыльца, нарочно сую ногу в сугроб, сходя с расчищенной тропинки – утром отец приедет и будет расчищать заново – смеюсь, задираю голову и вижу высоко в небе, за белой кутерьмой, сияющий диск луны.
Наталья КРАВЦОВА. Живи и здравствуй!
Из цикла рассказов «Алькины истории»
– Когда ты – только что вылупившийся цыпленок, скорлупа рассыпалась на осколки и никак не вернуться обратно, никуда не спрятаться от этого нового мира, – живи! Дыши, кричи, открывай глаза, осваивайся. Я дам тебе проводников – маму и папу, и ты не пропадешь.
Ты пришел сюда из небытия, чтобы жить, любить, страдать.
Кто ты – муравей, птенец, человечек – это все равно. У меня на тебя – планы.
Ты еще влюбишься в эту жизнь – в ее краски, запахи, мелодии, ты почувствуешь, как она прекрасна. Ощутишь, как неповторимо каждое мгновение, ускользающее, тающее помимо твоей воли.
Ты не сможешь управлять временем, ты в этом мире – гость. Запоминай всё, что случится с тобой, потом расскажешь, а я решу – какой срок отмерить тебе.
Твой уход неизбежен, ибо каждый гость рано или поздно должен уйти. Но сегодня живи и здравствуй. И постарайся быть счастливым…
***
Алька нечасто возвращалась в своих мыслях к этому монологу. Но Голос звучал в ней, подбадривал, торопил жить. Иногда, правда, он сердился и замолкал… или просто она теряла способность слышать?
Но в тот момент, когда вдруг безжалостно рушился ее маленький мир, когда она была напугана и растеряна, кто-то всегда держал ее крепко и уверенно, не позволяя струсить, сдаться, опустить голову.
– Живи и здравствуй, и будь счастливой…
***
– А где же была я? – вопрошала Алька, рассматривая старый черно-белый снимок. На снимке была бабушка – совсем еще молодая, с маленькой дочкой на руках, и дед, которого Алька помнила смутно. Слишком мала была, когда он умер. Но познакомиться с внучкой успел, нянчился с ней, пока мог. А девочка с фотографии выросла, вышла замуж и дала жизнь Альке.
Мама смеялась:
– Ты была в планах! Ждала своего часа. У Господа Бога всё по полочкам. Всему свое время, и для каждого свой черед.
К удивлению Альки, и бабушка когда-то была маленькой девочкой. Правда, давно это было, так давно, что трудно даже представить. Но она так же плела косички, смотрела на радугу, провожала взглядом облака, похожие на лошадок. Так же любила свою маму.
Алька жила и в ее планах. Иначе и быть не могло.
– Правда ведь, бабушка? Ты меня ждала?
– Ждала! Только это наш с тобою секрет.
– Вот какая я, – радостно улыбалась Алька, – долгожданная!
А секреты хранить она научится. Непременно научится! Сколько их еще впереди…
***
Один секрет у Альки был всегда. Это был Голос. На него она шла, как на свет, ему верила безоглядно и не перечила никогда. «Ты только не молчи, – просила она, – только не молчи…»
Голос приходил к ней откуда-то из тишины, из самой ее глубины:
– Жизнь – это драгоценная длинная лента. От мамы к дочке и дальше, дальше тянется она из века в век. Прими ее с радостью. Не оброни. Не оборви. Продолжи. Раскрась в свои цвета. Вплети в свой венок.
Забудь о страхе неизвестности. О своем неизбежном уходе. Сделай первый вздох. Сделай первый шаг. Живи и здравствуй! И будь счастливой…
***
– Мама, мы в экране телевизора, да? Там вся наша жизнь, и за ней наблюдают оттуда? – стремилась разгадать тайну Голоса маленькая Алька, запрокидывая голову и глядя вверх, пытаясь заглянуть высоко-высоко. Туда, где, распустив белые паруса, медленно плыли в бездонной синеве небес воздушные кораблики – облака.
Мама удивленно пожимала плечами:
– С чего ты взяла? Что за фантазии? Мы сами себе хозяева. Вольны жить как хотим. Но правильнее все-таки жить по совести, украшать мир, радовать людей, нести в мир добро и любовь.
Алька шла к самой мудрой:
– Бабушка, а жизнь, она и вправду – лента? Она не исчезнет? И ты всегда будешь рядом? Я слышу, как Голос говорит: «Живи и здравствуй»… а никого рядом нет. Не таи, бабушка, расскажи!
Бабушка обнимала внученьку, гладила по головушке бедовой:
– Буду с тобой долго-долго. Здесь, на земле. А на небе всех нас ждет Господь Бог, Отец наш небесный. Все мы – его дети, все к нему и уйдем. На небеса. Когда-нибудь. А сегодня, видишь – в небе радуга стоит… Добрый знак! Живи да радуйся, деточка!
***
– Почему свой черед для каждого? – допытывалась Алька. – Почему нужно будет уйти?
В тонких руках держала она венок из одуванчиков нежного цыплячьего цвета и алую ленту из бабушкиного сундука: как вплести покрасивее и не обронить?
– Так уж устроен наш мир, доченька, – отвечала мать. – Когда прийти нам, когда уйти из него, – это решает Бог. Длина нашей жизни – его воля. Но вот чем она будет наполнена, наша жизнь, – это зависит от нас самих. И глубина ее, и ширина – всё зависит от нас. Ты должна это знать. Живи честно. Живи радостно!
– Живи и здравствуй? И будь счастливой? – загадочно, словно произнося вслух слова секретного пароля, улыбалась Алька.
Мама согласно кивала:
– Верно. Верно, девочка моя. Живи, здравствуй, будь счастливой! Давай-ка сюда эту ленту, вплетем ее вместе. Желтый, зеленый, красный… это цвета радуги, цвета жизни и радости… Красивый веночек, тебе к лицу. Не спеши взрослеть, доченька. Живи и здравствуй, и храни тебя Бог…
Судовой журнал «Паруса»
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись девятая: «Струна звенит в тумане»
«…ужасно люблю вообще эту первую, юную, горячую пробу пера. Дым, туман, струна звенит в тумане. Статья ваша нелепа и фантастична, но в ней мелькает такая искренность, в ней гордость юная и неподкупная, в ней смелость отчаянная; она мрачная статья-с, да это хорошо-с».
Так говорит Порфирий Петрович главному герою в романе «Преступление и наказание» о его «идее», «безобразной мечте», как в начале повествования обзывает её сам Раскольников. Подмечено литературоведами, что эта «струна в тумане» заимствована Достоевским у Гоголя из «Записок сумасшедшего»:
«Спасите меня! возьмите меня! дайте мне тройку быстрых, как вихорь, коней! Садись, мой ямщик, звени мой колокольчик, взвейтесь, кони, и несите меня с этого света! Далее, далее, чтобы не видно было ничего, ничего. Вон, небо клубится передо мною; звездочка сверкает вдали; лес несется с тёмными деревьями и месяцем; сизый туман стелется под ногами; струна звенит в тумане; с одной стороны море, с другой Италия; вон и русские избы виднеют».
А Гоголю, возможно, это навеяно В. А. Жуковским, из его «старинной повести в двух балладах» – «Двенадцать спящих дев»:
И вся природа, мнилось,
Предустрашенная ждала,
Чтоб чудо совершилось…
И вдруг… как будто ветерок
Повеял от востока,
Чуть тронул дремлющий листок,
Чуть тронул зыбь потока…
И некий глас промчался с ним…
Как будто над звездами
Коснулся арфы серафим
Эфирными перстами.
А во второй балладе («Вадим») есть и гремящий «серебряный звонок», схожий с гоголевским колокольчиком. (У Достоевского Порфирий Петрович: «Колокольчики-то эти, в болезни-то, в полубреде-то?») И лик девы за туманом, и «под воздушной пеленой печальное вздыхало». У гоголевского Поприщина схожее состояние дается в пародийном освещении. И дорога: «несет» сумасшедшего на тройке, как челнок мчит по реке Вадима – «быстрее, быстрее» к его «прелестному виденью».
То есть «струна звенит в тумане» – хоть у Достоевского, хоть у Гоголя, хоть у Жуковского – у Василия Андреевича в особенности – это некое романтичное состояние души или вдохновения свыше*, которое к чему-то мчит сквозь «завесу туманную» своими видениями и необычными звуками как бы небесной трубы. А, заметим, как писал еще А. А. Потебня в исследовании «Мысль и язык», «в народных песнях встречается сравнение света и громкого, ясного звука» – и таким именно звуком в старинных русских книгах кровь мучеников «аки труба, вопиет к небу».
Полагаю, что тут можно закончить попытку обозначить жанр девятой записи: «струна звенит в тумане». За ней последуют и другие записи в том же звучании.
– …Сходил бы ты за солодашками в кусты, чем так сидеть… – говорит мне мать.
Кустами на прииске имени Покрышкина называли ложбинку за болотом с высокими кочками, коричневевшую карликовыми березками между двух кладбищ: «вольным» и «заключенным». Мне не трудно – только через кочковатое болото перебраться. Но боязно покойников… Да все-таки ведь день!
По намятой торфяной тропочке я вхожу в карликовые березки. Они мне по пояс, перепутались, как проволока: под ними, во мху, солодашки и подберезовики… Хоть и день, а одному всё равно здесь как-то не по себе.
А какая напряженная тишина начинает давить на плечи! Отпугивая её, я резче делаю шаги, чтобы громче хлестали прутья по сатиновым штанам, по сапогам царапали. Гоню напряженную эту тишину, но, кажется, она и сама-то не в силах замолчать: влилась в шум реки, заполнила долину нашу до сопок и низкого неба, наволакивается на мою детскую душу, вытесняя все чувства; заставляет оглядываться на высоковольтные опоры. Уже близко они, уже слышно, как дрожат смоленые ноги их в кочковатом болоте, отзываясь всё той же всеоглядной, всезрячей тишине. Не зря же большой черный ворон, бородатый в профиль, застыл на плече опоры так тревожно, словно слушает, и, наверно, знает столетний колымский ворон, откуда истекает эта тишина. Затягивает, сманивает в себя. И вот я решился – вошел в неё, в это большое поле галечника и человеческих костей. Кладбище заключенных…
Вдоль галечной этой чистины, окруженной болотистым кочкарником – издали высокие седые кочки странно, как тулова людей, стоят – почти километр иди! И поперек полкилометра будет…
Не раз пытался я сосчитать могилы, но к сотне сбивался со счета. Плотно лежат, бок о бок. Впереди самая страшная – красный столбик с жестяной звездой – могила стрелка, убитого в казарме своими же в драке. Ему два метра глубины: лежит там, в вечной мерзлоте, как в мавзолее. А грубые ящики щелястые заключенных втиснуты кое-как в грунт, а поверху как бы замаскированы галькой и мохом. А над галькой – тычки, как на городских газонах, с фанерными бирками, и вместо имен – номера чем-то черным.
«Мороз в пятьдесят градусов, а нас привезли в лаптях, – вспоминал отец. – Голое место в тайге. Ставьте себе палатки»… Я представлял, как снег под лаптями доходяг шуршал: жгучий, серый, как песок… «Ткнешься в него – и не встанешь»… Довоенный «Юбилейный»… послевоенный Хатыннах…
Но это всё было где-то там, за дальними, скалистыми сопками.
А у нас теперь на месте одного лагеря, бесконвойного – ровные грядки перегнивших опилок и рассевшейся штукатурки, а где второй был, за речкой – там и следов никаких на галечнике. Все остатки на дрова растащили. И ОЛПа [отдельного лагерного пункта – прим. ред.] нет, в том доме под железной крышей магазин открыт: торгуют в одной половине мясом, икрой, балыками, спиртом, а в другой, поменьше, продают отрезы, мануфактуру и тоненькую «Шинель» Гоголя.
Но как не маскируйте – корень зла виден сквозь проломившуюся доску: утлые кости в обомшелой глубинке ящика, груда мертвых червей, как черного овса, и черная же короста сотлевшего тряпья…
И только стружки древесные подстилки – янтарные, свежие, чудные. Как перья душ, готовых плотью зацвести нетленной по небесному Слову… Но это уже видение ума ли? – или так светится мое детское прошлое? Вот, спустя полвека, я снова стою там и боюсь ворохнуться, камешек с места сдвинуть. И верится чудно и тайно, что душа человеческая не потонет в смраде смерти и зле. И не зря застыл тяжело вещий ворон на плече опоры, и не зря чутко вздрагивают её смоленые столбы, и напряженно отяжелели каменные кругляши на бугорках могил, и улеглись еще между них кисти яркой брусники, и вся долина, окруженная сопками, в чуткости своей и тревоге затомилась… И солнце с неба низкого, как свиток, пригвоздило её перед незримым лицом Бога.
Внутри у меня рождается некое цветение. Я сам становлюсь этим видением. Сухие кости одеваются плотью. И сидят, как в плоскодонках, воскресшие люди в щелястых гробах, и ароматом смолистым и тонким благоухают под ними древесные стружки. Слилось земное с небесным… Камень со словом скипелся… Это уже и не прошлое, и не будущее, а небесное зыбко маревеет, бластится…
…Но что, если вся Россия превратится в такое мертвое поле? И вороны на опорах электропередачи уже выглядывают, где им собираться на трупы? И моя ли это душа, как розовый огромный ворон, закрывает глаза и – смотрит внутрь… И уже на исходе недалеком из тела – дано ей светописью мысли иное… видение ли, сон ли?..
В Ярославле – восстание. Мы с другом Валеркой договорились куда-то уезжать, уже чемоданы собрали. Разошлись по домам, чтобы через полчаса встретиться. Иду: надо ехать – а Валеры всё нет! И улицу Свободы, где мы договорились о встрече, найти не могу. А город – будто пухнет воздушно изнутри, все стены домов накачены белесым воздухом; бледное солнце, зыбкие перспективы улиц, а улицы Свободы нет. Я её ищу между бетонных, накаченных обманом и тревогой зданий. Пока ищу – вижу: все здания медленно устаревают, обваливается со стен штукатурка.
Я внезапно, рывком оказываюсь на окраине, город кончился, идут навстречу женщины, говорят мне: «Свободы – совсем в другой стороне, товарищ!»
Громоздятся, как декорации, тусклые, серые стены домов окраины, мертвой, выбитой… Я снова в центре города. Большой дом, где жил Валера – беленый. Колонны фальшивые фасада обрушились, вылезла из-под штукатурки обрешетка драночная. И во дворе этого дома на низеньком ящике из-под консервов сидит старый человек в телогрейке, черномазый, и волосы, коротко остриженные, без седины, а лицо веселое, и пророчит…
Он сидит так вольготно, и веселье его так многозначительно, будто он один жив человек в этом городе… Да и действительно вокруг пустынно… никого не видать… И черный, без седины старик предсказывает бодро, что продукты-то скоро прибудут. Потому что начнется переработка мяса миллиона разных бизнесменов, воров и спекулянтов, бежавших на Запад.
С Европой уже договорились: выдадут их нам в обмен на Москву с территорией до Урала, а на вклады воровские в западных банках немцы, французы и англичане построят комбинат нам пищевой «Мясо Троцкого». («Тесноты ради пищной…», вспоминается мне сказание Ефрема Сирина об антихристе!) Вроде в память того, как Лев Давидович в руку своего убийцы – впился зубами… Загрызем – съедим всех предателей и воров!
Прессованное мясо их – на корм людям и скоту; жир женщин – на лекарства и парфюмерию – по опыту французских революционеров 1793 года и немецких фашистов. Да и ревельцев тоже, которые еще в пятнадцатом веке обижали новгородских купцов, варили московских подданных в котлах… как писал еще Карамзин.
…Темная, зимняя погода, то ли вечер, то ли утро. Холодно, промозгло у магазина. Неуютно и внутри, в душе: всё такое же сумеречное, стылое. Двери магазина-вагончика открываются. Толсто одетая продавщица в белом фартуке. Полки тесно настланы; как в камере хранения, какие-то сумки, кульки; лампочка слабенькая – здесь еще холоднее, чем на улице. Картонный ценник с грифом «Мясо Троцкого». Замороженный оковалок в белом полиэтилене. Пришли домой. В холодной, темной кухне стали варить это мясо. Сидим за столом пустым. Ждем.
Да это уже царство дьявола на земле, предградие ада!..
…Долго мой розовый огромный ворон возвращался оттуда, из холода и тьмы, взывая немотою своей – к цветному миру слова…
И вот превратился в обычную уличную ворону на березе…
Гляжу на нее из окна. День тихий, светлый. Радоница… Там, над крышами, сквозь весенние, голые прутья березовых верхушек, по вечернему низко, над горизонтом, веселыми кучками вися, сахаристо сияют облака с теневым исподом. По-детски махонький отстал наивный, пушистый комочек в нежной высоте над ними. Ворона с самой высокой березы глядит на них, будто собираясь перелететь туда, в их рай. Быстро полетела верх, и все это видение слегло к закатному горизонту и погасло.
* См. например, «Струна звенит в тумане». Страницы русской «таинственной» прозы. – М., «Современник», 1987 (Повести и рассказы от Пушкина и Гоголя до Леонида Андреева и Ивана Бунина).
Литературный процесс
Собств. инф. Книга лезгинского поэта
Как долго летать нам за Солнцем в пучинах палящих?
И много ль придет нас на Землю в веках предстоящих?
Не знаем, не знаем… Зачем же черствы мы друг к другу?
Ведь мы не в ряду приходящих – в ряду уходящих.
Эти печальные и мудрые строки открывают перед читателем дверь в поэтический мир ученого и поэта Кейседина Алиева. Весной 2019 года московское издательство «Грифон» выпустило в свет первую (на русском языке) книгу этого недооцененного современниками лезгинского поэта.
Инженер и конструктор сложных приборов для систем противовоздушной обороны и судов подводного плавания, профессор Дагестанского государственного технического университета, заведовавший кафедрой технологии машиностроения и технологической кибернетики), Кейседин Бейдуллаевич всю жизнь писал стихи. Но при жизни вышла в свет только одна его поэтическая книга «День и ночь» (Махачкала, 1994 г.). И поскольку книга была издана на лезгинском языке, всероссийскому читателю поэт Кейседин Алиев четверть века оставался неизвестен.
И вот совсем недавно (благодаря стараниям вдовы поэта, Ганифат Садилаховны) книга стихотворений К. Алиева (творческий псевдоним А. Кейс), переведенная на русский язык известным российским поэтом и переводчиком Евгением Чекановым, увидела свет в Москве. Она называется «Миг судьбы» – и содержит более двухсот произведений.
Надо добавить, что книга роскошно издана, ее приятно взять в руки. Но главное, конечно, – то, что вложено в нее автором: красота и глубина родного слова, уважение к предкам, призыв к искренности и справедливости, отторжение безнравственности и алчности.
«Он был и физиком, и прекрасным лириком, – пишет в предисловии к книге Мердали Жалилов, редактор отдела литературы “Лезги газет”, заслуженный работник культуры Российской Федерации. – Думаю, что предлагаемая читателю новая книга станет и достойным подарком для любителей художественного слова, и памятником замечательному ученому, учителю, наставнику молодежи, прекрасному поэту Кейседину Бейдуллаевичу Алиеву».
Евгений ЧЕКАНОВ. Горящий хворост (фрагменты)
ЗИМНИЙ СОН
Мир трещал от сухого мороза
И, на скорый апрель не надеясь,
В зыбкий сон погрузилась береза,
В незабытые щебет и шелест.
Но пока она грезила сонно
О веселом и ветреном лете,
Стайка бабочек нежно-зеленых
Зацепилась за голые ветви.
Нежных крылышек дерзкие взмахи
Раскачали печальные плети…
И сквозь сон она думала в страхе:
– Неужели замерзнут и эти?
Как сейчас, помню свой спор в начале 80-х с одним нашим губернским графоманом, подполковником в отставке, до этого много лет преподававшим марксизм-ленинизм в военном училище. Подполковник опубликовал несколько косноязычных книжечек, а потому мнил себя известным поэтом и пытался воспитывать молодую поросль.
– Что это ты тут написал? – приставал он ко мне. – Какие еще «нежно-зеленые бабочки»?
– Ну, они похожи на листья… – туманно объяснял я.
– Я понимаю! Но ведь ты же тут не про листья пишешь, а более глобально пытаешься… Это ж у тебя на политику похоже!
– Ну, какая там политика… – отбояривался я. – Просто вот залетели в зимний мир летние бабочки, а березе показалось, что это юные листья. И она размечталась, что весна скоро придет… А потом пригорюнилась: ведь зима же лютая на дворе. Значит, замерзнут и эти…
– Замерзнут! Обязательно замерзнут! – закричал подполковник. – Всё слабое и нежное зимой непременно замерзнет!.. все слабые погибают!..
Я только пожал плечами. Что с дурака взять… он, похоже, даже не слышал известного высказывания Лао Цзы о том, что мягкое и слабое всегда одерживает победу над твердым и сильным. А кроме того, я ведь и не утверждаю априори, что эти бабочки непременно принесут весну на своих нежных крылышках. Я просто пою гимн их сумасшедшей дерзости, их попыткам пробудить замерзшие плети…
Пройдет лет семь – и подполковник, почуяв запах политической весны, ринется в губернскую общественную жизнь: станет ярым «демократом» и активистом местного «народного фронта», пылким обличителем компартии и марксизма-ленинизма. Я даже не удивлюсь этой метаморфозе: так оно и должно было случиться.
ХЛЕБ ПРАВДЫ
Ложь отступила мировая
На шаг иль на два. И опять,
По зернам правду выдавая,
Нам предлагает ликовать.
Но мы хотим иной победы –
Чтобы взошел из-под земли
Тот хлеб, который наши деды
С собой в могилы унесли.
Это стихотворение я написал в начале 80-х годов, размышляя о прочитанном в свежих литературных журналах. В тогдашней отечественной прозе история моей державы представала уже совсем не такой, какой мне ее преподносили всего несколько лет тому назад на историческом факультете провинциального вуза. Но я «нутром чуял», что и эта свежая правда – не окончательная, что самое трагическое, самое кровавое от меня прячут. Тогда-то и родилось это стихотворение.
Не имея доступа к запрещенной литературе, я брал то, что было доступно: искал в журналах прозу, подвергавшуюся партийной критике, взахлёб читал. Так я открыл для себя Белова, Можаева, Трифонова, Быкова… а однажды – о, счастье! – наткнулся на потрясающую повесть Катаева «Уже написан Вертер», несколькими годами ранее опубликованную в журнале «Новый мир».
Как впоследствии выяснилось, эта катаевская вещь потрясла не одного меня. На «комсомольской учёбе» в столице я послал заместителю начальника Главлита СССР Владимиру Солодину, выступавшему перед главными редакторами молодежных изданий, записку из зала: «Назовите, пожалуйста, самое серьезное упущение вашего ведомства за последние десять лет».
Главный политический цензор великой державы улыбчиво прищурился с трибуны:
– Вы имеете в виду «Уже написан Вертер»? Так мы же предупреждали ЦК партии, говорили, что не надо эту вещь публиковать… Нас не послушали. А когда она уже вышла в свет, всё поняли и там. И дали команду по обычной методе: не перепечатывать, не цитировать, не упоминать…
Цензор устало махнул рукой, – а я еще раз убедился, что в своем поиске правды иду по верному следу.
В конце 80-х годов стихотворение «Хлеб правды» было опубликовано в одном из столичных коллективных сборников, а еще через десять лет его включил в свою толстенную поэтическую антологию весьма известный в мои времена стихотворец-шоумен Евгений Евтушенко. Не скажу, что сей факт привел меня в какой-то восторг: к версификационным опытам этого господина я всегда относился равнодушно, а к его политической позиции – брезгливо, если не враждебно. Скорее, эта публикация меня удивила: я не посылал своих стихов составителю антологии, ни о чем его не просил, он сам отыскал эти восемь строк – и опубликовал. Да еще и написал рядом, что они его покорили.
Что ж, наверное, в этом и состоит задача поэзии: «идти во все стороны света, тревожа друзей и врагов»…
СТРАДАНИЕ
Чувство родины сходно с дыханьем:
Если очень заметно оно,
Это значит – незримым страданьем
Это чувство уже стеснено.
То ли давят неявные пальцы,
То ли гложет болезнь изнутри, —
Мы не знаем. Мы только страдальцы.
Где ты, лекарь? Скорей говори!
Эти строчки были моим ответом на упреки, которые тогда, в середине 80-х годов прошлого века, уже звучали в советской империи. Мол, вы, русские, что-то слишком громко стали плакать о своих бедах, слишком назойливо начали представлять себя обиженными.
Прошла пара десятилетий – и нашлись люди, которые стали обвинять в развале Советского Союза именно русских патриотов. Это, мол, всё вы наделали, плакальщики в портянках, надо было не ныть, а укреплять центральную власть. Вот и не рухнула бы великая держава! С вас началось, с ваших стонов…
Что сказать на это? В середине 80-х я ответил стихотворением «Страдание». А сегодня процитировал бы отрывок из бессмертной книги Василия Розанова «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови». То место, где описывается еврейская бойня:
«…все раны были колотые, так как резник, что называется, “шпынял” животное, которое вздрагивало, пробовало вырваться, пыталось мычать, но оно было бессильно: ноги были связаны, кроме того, его плотно держали трое дюжих прислужников, четвертый же зажимал рот, благодаря чему получались лишь глухие, задушенные, хрипящие звуки…»
Им бы, конечно, хотелось, чтобы мы подыхали молча.
ЗАВЕТ
Когда летела рать на рать
Одних кровей и статей,
Им оставалось – умирать
В одной из этих ратей.
А нам осталось – осознать
Всё, что случилось с нами.
А вам осталось – всё назвать
Своими именами.
Размышляя о гражданской войне в России, о противостоянии «белых» и «красных», я уже в конце 80-х годов прошлого века, когда сочинилось это стихотворение, осознал, что наиболее последовательным, цельным личностям того времени судьба уготовила один и тот же конец – гибель в битве со своими однолетками, с братьями по крови. И с ненавистью думал о тех, глубоко ненавистных мне людях, которые спровоцировали эту ситуацию, подвели наиболее последовательную, пассионарную часть народа к черте братоубийства.
Много позже, возвращаясь к этой теме, я размышлял порой и о том, что мы, возможно, до сих пор не можем до конца осознать истинную, глубинную природу того давнего противостояния, а лишь строим пока разные догадки на сей счет. Строим, пользуясь, в основном, инструментарием социологии и политологии, старательно повторяя пропагандистские тезисы минувших времен.
Но на самом деле: что это за феномен – битвы братьев? Как это прекратить? Если, Бог даст, однажды это все-таки прекратится, то почему?
Я припомнил собственные детские годы, свои драки с младшим братом… После того, как я однажды своими придирками довел его до белого каления, он, восьмилетний мальчик, двинул мне, двенадцатилетнему, по зубам и бросился наутек. Стоя на зимнем деревенском крыльце, я лихорадочно искал взглядом что-то, чем можно было бы в него запустить – и под руку мне попались тяжелые коньки для катания на льду. Я бросил их в него изо всех сил, они долго летели по дуге, и где-то на середине их полета я осознал, что они летят точно ему в голову. Я понял, что убил родного брата – и содрогнулся в ужасе, и стоял столбом, ожидая, когда коньки подлетят к голове бегущего мальчика.
Они попали точно в голову, брат упал и заплакал от боли. Слава Богу, на нем была теплая шапка, она-то и спасла его. И никогда, никогда больше я пальцем его не тронул, одного этого краткого переживания хватило мне на всю жизнь.
Но хватит ли моему народу одной гражданской войны, чтобы содрогнуться в ужасе и застыть на месте, подавляя в своей душе очередной приступ ненависти, пусть даже и небеспричинной? Сегодня, когда «белая» и «красная» идеи, старательно отмытые от братской крови, снова имеют в России десятки тысяч сторонников, я начинаю сомневаться в этом.
А по телевизору прямо сейчас, когда я пишу эти строки, в очередной раз гоняют паскудную киноэпопею про «неуловимых мстителей». Пляски шутов на русских костях продолжаются…
БАЛТАМ
Смири свои взгляды косые,
Балтийская челядь и знать!
Пока несвободна Россия,
Свободы и вам не видать.
И с собственным гордым солдатом,
Готовым идти на войну,
И с собственным литом, и латом, –
И с собственным цюрихским златом, –
Вы будете всё же в плену.
Летом 1990 года судьба занесла меня в одну из прибалтийских республик. Ее Верховный Совет уже принял к тому времени документ о государственной независимости, но комсомол там еще существовал – и в составе небольшой группы молодых журналистов из России я приехал в республиканский ЦК ЛКСМ на встречу с первым лицом.
Дело было поздним вечером, мы сидели и ждали. Прошел час, второй, лицо всё не появлялось, – оказалось, что в республиканском ЦК партии скоропостижно началось какое-то важное совещание, главный комсомолец обязан был там присутствовать. Но комсомольцы-балты рангом пониже сидели рядом – и я начал расспрашивать их о том, вправду ли их республика собирается покинуть советскую империю. Они утвердительно закивали головами: да, сущая правда, мы уходим.
– А на что ж вы жить-то будете? – полюбопытствовал я. – Мы ж вам денег-то не станем тогда давать…
– Будем работать, – ответствовали балты. – А деньги… у нас в Цюрихе еще с сорокового года десять тонн золота лежат! У нас всё будет свое теперь – своя денежная единица, своя армия…
– А ежели мы вам вентиль перекроем? – не унимался я.
– Этот вариант мы тоже предусмотрели. Нам американские эксперты бизнес-план написали на такой случай. Если вы нас вообще от газа и нефти отключаете, мы сворачиваем всю нашу промышленность – и уходим на хутора, свиней выращивать. Завалим беконом всю Европу!
Я только головой покрутил: ишь, хитрецы какие…
В этот момент дверь распахнулась – и в зал ворвался всклокоченный главный комсомолец. Двухметровый, широкоплечий, он был больше похож на «лесного брата» из советских кинофильмов, чем на первого секретаря ЦК ЛКСМ. Оглядев нашу маленькую группу, он пригладил волосы, вытер пот со лба и выдохнул:
– Всё!..
Мы недоуменно открыли рты: что такое «всё», как это прикажете понимать? Но главный комсомолец, судя по всему, ничего не собирался нам рассказывать: слишком важным и слишком секретным, видимо, было это позднее совещание, с которого он вернулся. Вместо объяснений «лесной брат» рубанул рукой воздух и еще раз произнес, мрачно и убежденно:
– Всё!..
Сердце мое упало. Значит, это правда, они уходят. Может быть, как раз сегодня, только что, вот на этом вечернем совещании, они всё меж собой и решили, окончательно и бесповоротно…
Не помню, что происходило затем: то ли мы разошлись восвояси, то ли главный комсомолец все-таки устроил нам нечто вроде брифинга. Да это было уже и не очень важно для меня – ведь всё главное уже было сказано: жестом, тоном, тембром голоса… Держава разваливалась на глазах.
Но что же будет дальше? – думал я потерянно. – Они уйдут, а мы останемся под той же звездой Соломона, измазанной русской кровью? Они повесят в своих домах портреты своих «лесных братьев», будут гнать на своих хуторах самогон, пить его и закусывать своим беконом, – а мы будем по-прежнему ходить на демонстрации под светлыми ликами Маркса-Энгельса-Ленина-Горбачева? Но разве сможет спокойно бегать мелкая хуторская живность мимо огромного медведя, посаженного в клетку? И все эти их рассуждения о захвате европейского рынка – самообман, хорошая мина при плохой игре…
На полях таких размышлений и родилось стихотворение, адресованное балтам. Летом того же года оно было опубликовано в ярославской прессе, а осенью – в Нью-Йорке, в газете «Русский голос».
ШУТЫ-СКОМОРОХИ
Доедаем последние крохи,
Скоро по миру с торбой пойдем…
Пойте громче, шуты-скоморохи,
Отпевайте родительский дом!
Вам, шутам, спокон веку едино,
В чьем дому изгаляться душой, –
Ведь кусок со стола господина
Обеспечен вам самый большой.
Советская империя рушилась, от ее западного края отваливался кусок за куском. Но большинство населения великой державы не воспринимало этот процесс как трагедию – цветной наркоз советского телевизора, давно уже захваченного антигосударственной мразью, купировал боль, не давал ей распространиться на весь организм великой страны. На имперской сцене голосили всё те же шуты-скоморохи – пугачевы-леонтьевы-вайкуле-пресняковы-маликовы-шатуновы, с экрана на телезрителя летела всё та же пошлятина, сочиняемая резниками всех мастей.
Ни одного крика боли не вырвалось накануне краха Советского Союза из глубин этой позорной безнациональной «тусовки», озабоченной лишь сохранением своего места под солнцем. Разве только Игорь Тальков, интуитивно идя к истине, смог возвыситься до понимания подлинных причин происходящего – и в лучшем своем творении, песне «Россия», возвысить свой голос до обличения всех новоявленных иуд. И вскоре был убит ими.
Смотря на шутов, кривлявшихся в лучах телевизионных софитов, я испытывал чувство глубочайшей ненависти к эстрадному кодлу, загадившему мозги нескольким поколениям моих соотечественников. Эта эмоция главенствует и в стихотворении, сочиненном в конце 1990 года и через несколько месяцев опубликованном в Ярославле.
ХОЛОКОСТ
Кричит и плачет прах чужого кладбища,
Где тени павших бродят в темноте.
Ты внемлешь крику… Что же не восплачешь ты
О миллионах братьев во Христе?
Весь прошлый век из мрака мироздания
На них угрюмо рушилась беда.
А кто оплачет крестные страдания?
Об этом ты не думал никогда.
В познанье шел удобными путями ты
И обошел чудовищный погост…
Вернись назад! Не к мщению, но к памяти
Взывает христианский Холокост.
Представление о том, что еврейская этническая трагедия времен Второй мировой войны является главной среди бедствий народов России в ХХ столетии, навязывается российской общественной мысли уже более полувека. К счастью, из этих попыток пока ничего не получается. И не только потому, что независимые мыслители за эти же десятилетия чуть ли не на пальцах объяснили читающей публике, что за этими попытками скрывается просто очередной гешефт Агасфера.
Дело в том, что манера выставлять напоказ, выпячивать свои страдания – ментально чужда русскому народу; а нас, русских, в России пока еще, слава Богу, больше ста миллионов. Даже когда кто-то из наших рвет на себе рубаху, рассказывая, что он в какой-то драке или катастрофе пострадал больше других, мы брезгливо отворачиваемся. А уж если это делает кто-то чужой, да еще если пытается что-то на этом выгадать для себя…
Да, это горе, мы согласны. Но это ваше горе, ваша боль, ваше кладбище. А у нас и своего горя через край. Русские гекатомбы еще не осмыслены, на государственном уровне не признаны, а палачи, осудившие десятки миллионов моих сородичей на заклание, еще не названы поименно, не прокляты всенародно.
Даже если, не дай Бог, к власти в России однажды вновь придут духовные наследники этих палачей – и введут закон об уголовной ответственности за неверие в холокост, русский народ не станет относиться к этой проблеме иначе. Получится ровно наоборот: на месте сегодняшних равнодушия и брезгливости явится открытая ненависть.
Уж если мы и будем кому-то сочувствовать, то это нашим братьям во Христе – добрым католикам, суровым протестантам… То, что нас с ними объединяет, неизмеримо больше того, что разделяет.
ГУСИ-ЛЕБЕДИ
Милый брат, любопытство – порок,
Нужно веровать слепо.
Не ступай за прогнивший порог,
Не заглядывай в небо.
Пусть они стороной пролетят,
Высоки и крылаты.
Это вовсе не ангелы, брат!
Ну куда ты, куда ты?
Раскурочен дремучий уют
Белокрылой напастью.
Вот схватили тебя – и несут
Над родимою грязью.
То кисельный мелькнет бережок,
То молочная речка,
И опять – то лужок, то стожок,
То остывшая печка.
И не видно полету конца,
И вдали всё темнее…
Милый братец, окликни отца —
И отпустят злодеи.
Встанут в небе родные черты,
Словно грозные рати.
Полетишь кувырком с высоты
На родные полати.
В синяках от гусиных щипков,
В пух одетый и в перья,
Ты очнешься на веки веков
От пустого неверья.
То ли в самом деле всё это случилось, то ли просто примерещилось добру молодцу на родных полатях: схватили его тати крылатые, собратья, так сказать, по поэтическому ремеслу, – и тащат за темные леса, прямиком к бабе-яге в избушку. А там уж для него и яблочки золотые припасены – стипендия имени Бродского, бесплатная поездка в Италию на пару месяцев… «Ты, главное дело, – шипят ему гуси-лебеди в самое ухо, – пиши так, чтобы никто ничего понять не мог, кроме тебя самого. Ежели хоть кто-то уразумеет, о чем речь ведешь, – стало быть, не мастер ты еще. А вот ежли не токмо сам Айзенберг, но и родимая жена попросит как-нибудь, на сон грядущий, расшифровать, о чем это ты там, в очередном своем стишке, толкуешь, – считай, в самую точку попал!
Как этого добиться, ты уж и сам знаешь, – льстиво шипят тати. – Эвон как ловко пихаешь в стихи всё подряд – прям как тот чукча. Да куда ему до тебя!.. он токмо про то поет, что окрест себя видит, а ты всё подряд суешь: и про секретный купорос, и про техногенный лед, и про бессонную овцу с заводной клухой, и про дулю, которую на огороде выкопал, и про то, что твоей жене позавчерась приснилось… Всё у тебя в кучу… э-э-э… в дело идет, молодчина ты! Не стихи, а настоящая инга-фука у тебя выходит, а то, пожалуй что, и малайский пантун!
А уж как ты, паря, ловконько всю эту гребаную традицию-то послал, – довольно гогочет пернатая тварь, – так это просто любо-дорого взглянуть! Всю эту внутреннюю логику изложения, точность, осуществление смысла, единство образа, гармонию, весь отстой этот!.. Какое, к бесу, единство в наше-то время!.. наоборот, всё разорвать, разломать, разнести надо на мелкие кусочки, – и так вот прямо, кучей, на бумагу и вывалить! Тогда и будешь гений!..
Но наблюдались, прямо скажем, у тебя и ошибки. Это когда ты про отца-фронтовика писал, про жену с ребенком, про общежитие Литературного института… там даже и понять что-то можно было. Это, брат, тебя вороги почвенные смущали, с пути верного хотели сбить. Эдак ты, глядишь, и про деда с бабкой вспомнил бы, и про корни энти треклятые, что в земле родимой кроются… Хорошо хоть, вовремя додумался икону с Бродским в красный угол поставить – ну, тут уж отвело окаянных!
Вот, одначе, и подлетаем, скоро свои золотые яблочки получишь, играйся хошь до гробовой доски. А покамест совет тебе дадим: понапихай-ка ты, братишка, в свои стишки-игрушки поболе всяких колких намеков – ну, там про сиятельного ноля, али про надувного какого налима. Это нынче очень востребовано будет – ишь, времена-то какие на дворе! А ежли кто станет ворчать, где, мол, ноль, а где налим, не вяжется как-то, – смело отвечай: это у меня поэтика такая! Это всё в моей голове бурлит – а потому преотлично вяжется! Ну, да чего тебя учить, ты и сам с усам. Сейчас вот в Италию съездишь – и совсем в полный разум войдешь. Однако не обессудь, браток, тут мы тебя и отпустим: полетишь вниз – и прямиком в избушку попадешь. А нам пора других чудаков красть, нам баушка-яга поштучно платит…»
И тут очнулся добрый молодец. Те же полати, и жена та же под боком. А мобильник на столе вот звенит, вот заливается!.. Не иначе, Айзенберг звонит. Ну, значит, пора приниматься за дело, за старинное дело свое. Авось и впрямь в Италию на халяву отправят. А то и в саму Америку. Гуси-лебеди, где вы, ау!
…Такой вот представилась мне однажды история, происшедшая с одним моим знакомым, героем стихотворения, сочиненного в самом начале 90-х годов. Правда, в ту пору я называл этого тусовочного сочинителя «милым братом», дружески увещевал, советовал ему почаще предков окликать в своих стихах. Ну, чего не сделаешь в порыве житейской приязни…
ОСЛЕПШИЕ
Мы выходим из ада на свет…
Мы выходим не в райские кущи –
Лишь на свет, не сиявший сто лет,
В наши очи безжалостно бьющий.
И не видим уже ничего
В ярком куполе света Господня.
Даже явный источник его, –
Вечный крест, – нам не виден сегодня.
Но пройдет ослепленье – и впредь,
Вновь открыв себе землю и небо,
Будем вольно и сладостно зреть
Всё, что есть… В это веруем слепо.
Мы выходим из ада на свет,
Мы выходим… А может, и нет…
Окончательно ли моя страна решила расстаться с безбожным 70-летием? Судя по этому стихотворению, опубликованному в Ярославле в начале 90-х годов, я очень хотел, чтобы вышло именно так – но одновременно и тревожился, и сомневался в необратимости процесса воцерковления народа. Поскольку видел, что многие мои соотечественники (особенно – в провинции) боятся высунуть свою голову из клетки примитивного материализма, сколоченной советской школой.
Порабощенное сознание, привыкшее к существованию во тьме, ощущало свет как боль. Нужно было какое-то время (может быть, два-три поколения), чтобы люди привыкли жить на свету.
И это время нужно было обезопасить от тех, кто звал нас назад, во мрак чужебесия.
БИСЕР
По возможности нужно выжить,
Пережить этих злых калек.
Нужно выдюжить. Нужно вышить
Светлым бисером темный век.
Пусть порой под свиным копытом
Горько плачет твой робкий стих,
Но окажется век расшитым
Светлым бисером слез твоих.
Кажется, у мамы было такое платье – темно-синее, с мелкими капельками сверкающего бисера. Наверное, в раннем детстве я прижимался, плачущий, к маминой груди – и так это в меня и запало, так в душе и сплелось: обида, слезы, материнское объятие, жемчужный блеск стеклянных брызг, утешение, вера в то, что всё наладится…
Не каждый способен принять и понять детский плач взрослого человека, обреченного жить и выживать в своем темном веке. Но мать (в данном случае – мировая литература) поймет. Она, великая утешительница, давным-давно расшивает людские века нашим сверкающим бисером. Не дает оптимистическим свиньям затоптать его.
Литературоведение
Валерий СУЗИ. Тютчевская «живая жизнь» и «вот-бытие» Хайдеггера: энергийность и витальность
Истинный поэт вездесущ;
он действительно вселенная в малом преломлении […].
Философ […] есть голос вселенной…
Новалис
Философия – высшая поэзия…
Д. Веневитинов
Сопоставление двух столь «далековатых» фигур, как Тютчев и Хайдеггер, может показаться несколько надуманным. Поэтому сразу оговоримся, что речь идет не о личном, а типологическом сходстве; притом не всего творчества поэта, но прежде всего периода до 1840-х гг. (хотя общность сохраняется и в последующем, но осложнена конфессиональными позициями). То, что поэт мыслил, как философ, а философ чувствовал, как поэт [1], отражает своеобразие новоевропейской культуры.
Основанием для сближения является их исходная причастность общей традиции – немецкому идеализму: ранний Тютчев немыслим вне ее, а Хайдеггер – прямой ее наследник. Кант, Фихте и особенно Шеллинг и Гегель, несомненно, воздействовали на воображение обоих. Отмеченное методологически расширяет аналитическую базу сближения «знакомых незнакомцев», переводит разговор в инструментальную плоскость.
После тирании логицизма Гегеля, исчерпавшего потенции схоластики, его диалектика – и интуитивизм Фихте и Шеллинга как интеллектуальные формы романтического мироотношения – придали импульс развитию европейской мысли. Связь природы и истории в мифе, в культуре выражалась в интересе к «почве», воплощающей духовность, в стремлении к личностному началу в нации, народе, социуме, к темам любви и творчества в дилемме свободы и необходимости [2]. «Эллинский» гуманитарно-эстетический комплекс (Ренессанс, классицизм и просвещение, сентиментализм и романтика) открылся обратной стороной – экзистенциализмом с его поэтизацией непреображенной «правды жизни». Внеличная мера, гармония сфер дискредитировались; категория сущности, одушевленная иррациональностью, была оплодотворена «существованием» Кьеркегора, пробудившего «волю к жизни», умозримую витальность. Отношения культуры и истории, мифа и реальности переживали процесс реанимации.
Миф как универсальная форма мысли, всеобщности бытия стал способом рефлексии, матрицей жизнедеятельности. В его архетипность вливались новые смыслы искусства, науки, религии, быта. Рождалась экзистентная гуманитарность, филологический способ бытия, «философия жизни» как эсхатологическая мудрость. Гносеология экзистенцировалась в эстетику без-образно выразительного, по видимости заместившей онтологию «поэтикой», сближающей поэзию и правду.
Но экзистенциальная поэтика оказывалась вторичной, подражательной, прежней идеологемой, стилизацией трагифарса (культура – по природе «цитата» из жизни, а «стиль – это человек»). «Мир как воля и представление» и «воля к власти» придали кризисные тона «закату Европы». Топос катастрофы расширился, кризис приобрел выраженный перманентный характер, стал способом мирочувствия и существования; любовный экстаз мысли и воли, поэзии и жизни напоминал конвульсии древнего агона.
Проблема заключалась в характере связей, векторе влечений. Волеустремление не придало цельности, порыв не завершился прорывом. Вопрос относился к области аксиологии, касался индивида, типа и уровня антропологизма: личность была заявлена, но не предъявлена, вновь была забыта и утрачена; «уникум» безуспешно пытался стать универсумом, оставаясь одиноким, «единицей» («Мы все глядим в Наполеоны…»).
Называя Хайдеггера, следует упомянуть, помимо его учителя феноменолога Гуссерля и ученика Гадамера, целый ряд имен – Бергсона, Рассела, де Шардена, Ясперса, Рериха, Швейцера и др., вплоть до Сартра, Камю и физиков – Эйнштейна, Бора. Им присущи «благоговение перед жизнью» и поиски ее человеческого нерва, «живой этики». Хайдеггер – одно из ключевых по уровню проблематики, масштабу и глубине рефлексии явлений в этом ряду. Его интуиции предельно приближены к преодолению кризиса.
В свою очередь в устремлении к реальности русская триада Пушкин–Тютчев–Достоевский в силу сохраняемого ею трезвения занимает определяющую позицию, выстраивает «осевое время» (Ясперс) истории и культуры. Роднит их чувство равновесия «бездны… на краю», бесстрашие без «упоения» в преодолении «безумия», «чумы», «трагедии». Потрясение сиянием открывшегося Лика пересилило, сублимировало в них древний ужас перед стихией. В отличие от соплеменников они, как европейцы, умели концентрироваться на главном (в отличие от современников, усматривая его в личной энергии духа). Подход к теме от поэзии позволил успешней найти антикризисный путь. Но найти – еще не пройти, иначе всякое творчество и дело придется признать альтернативой духовной аскезе. А это все же параллельные, не тождественные – как часть и целое, центр и периферия – ряды. Там личность преображается всецело, здесь отчасти и временно.
Хайдеггеровскую гештальт-структуру с русской ситуацией объединяет сознающее и выговаривающее себя в человеке Бытие, в котором отчетливо проступают уровни, выявленные Гете: мысли, слова, деяния (силы), свидетельствующие об антропологизации (воличноствлении) волящего онтоса [3]. Это устремление от гносеологии к онтологии, от сущностного к энергийному можно наблюдать во многих аспектах явления личности.
«…Энергия может доставить и онтологию, и “интеллектуальное лекарство от упадка сил” (по П. Слотердайку – В.С.). …Ведь ницшевская воля к власти – одна из метаморфоз энергии», – замечает С. Хоружий [4]. Переводя мысль во фрейдовское измерение, подчеркнем религиозно женственное целомудрие «жизни», благоговейное приятие мира Тютчевым и философски мужественное напряжение мысли Хайдеггера как национально-конфессиональные, а не личные доминанты. Не то же ли самое наблюдаем в беседе Алеши и Ивана Карамазовых? Чреватый новым модусом диалог «жизни» и «смысла ее» присутствует у поэта и философа, «андрогинно» осуществляется обоими. Любая метафора хромает, и не стоит придираться к размытости ее граней; в нашем случае важен смысловой центр, ее цельность.
1. Личная цена «живой жизни» в пространстве «бытия-времени».
Быть философом и поэтом означает – ощущать бренность мира; чувство течения жизни присуще всем, человек «конца времен» переживает его особенно остро. И дистанция пространства-времени здесь несущественна: постулировал же Хайдеггер связующую (в противовес разделяющей) природу дистанции. Чувство времени, истории и мифопоэтическое восприятие истечения бытия в вечность определяет его жизнесферу. Философу эхом «отзывается» поэт:
«Вы, – мыслил я, – пришли издалека,
Вы, сверстники сего былого!..»
………………………………..
Но твой, природа, мир о днях былых молчит
С улыбкою двусмысленной и тайной…
«Через ливонские я проезжал поля…», 1830.
Здесь великое былое
Словно дышит в забытьи…
«Тихо в озере струится…», 1866.
Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы,
И перед ней мы смутно сознаем
Себя самих – лишь грезою природы.
Поочередно всех своих детей,
Свершающих свой подвиг бесполезный,
Она равно приветствует своей
Всепоглощающей и миротворной бездной…
«От жизни той…», 1871.
«Эхо» обертонами как будто бедней живого голоса, и при очевидности «родства» вопрос истоковости (не временной, а бытийной) – кто кому вторит? – остается.
У Тютчева время едва ли не тождественно бытию. Это в нем – от Державина, чье предсмертное «Река времен…» (1816) не могло не пробудить в нем поэта-философа, от космизма орфиков, Гераклита. Поток времени, текучесть водной и порывистость огненной стихий, динамика как конститут и субстрат исхода станут определяющими в его поэтике:
Смотри, как на речном просторе,
По склону вновь оживших вод,
Во всеобъемлющее море
За льдиной льдина вслед плывет.
На солнце ль радужно блистая,
Иль ночью в поздней темноте,
Но все, неизбежимо тая,
Они плывут к одной мете.
Все вместе – малые, большие,
Утратив прежний образ свой,
Все – безразличны, как стихия, —
Сольются с бездной роковой!..
«Смотри, как на речном просторе…», 1851.
Телеология обоих, поэта и философа, исходно темна и безлика, не дает, но задает цельность; трепетное в них чувство времени – библейски родовое. Древний ужас катарсируется не столько гармонией сфер, жанровыми формами жизни, сколько упорным, слепым убеждением – смысл должен быть. И не так убеждает наличие красоты (область ее неуклонно уменьшается, смещается в иномирный спектр), как необходимость в ней.
Кто из поэтов и философов не ощущал «прелести мира ресничного недолговечней взмаха» (О. Мандельштам)? Вопрос заключается в формах восприятия; она различна: предметно-телесна или бытийна. Тютчев и Хайдеггер тяготеют к бытийной. У кого-то время предстает в формах пространства; у них топос текуч и зыбок, колеблется детской зыбкой-колыбелью жизни. Безграничность ее они воспринимают не зрительно, а в звуках: слышат ее оползание.
Этой «безархитектурностью», бесформенностью пространства как остановленного мига и архитектоничностью, упорядоченностью отношений с бытием-временем они обязаны рудиментарно «ветхозаветной» струе в гегелевской диалектике, в романтике мысли. Именно в апокалиптике, которой оба столь привержены, время переходит в иномирное состояние, его «больше не будет».
«Вещный» мир (в терминах Хайдеггера, «сущее») внеположен человеку, внечеловечен. Бытие-пространство, отпавшее от человека по греху его, настороженно, а то и враждебно соглядатайствует за своим недавним «царем» («Песок сыпучий…», 1830) [5], ждет обживания его человеческим, чтоб «теплая струя страданья Согрела холод бытия» (Пастернак), повторного, любящего «завоевания». Тогда «в названии вещи взывают к своей вещности. Вещая, они раскрывают мир, в котором пребывают Вещи и который пребывает в них. Вещая, вещи несут мир. <…> Вещая, они хранят мир» (Хайдеггер).
Без сочувствия, соучастия грани вещей жестки, как отвердевшая в их формах жизнь. Мир чувствует нас страстно, подвижнически, «красным зверем» льнет к человеку [6]. Вещи склонны пребывать «в себе», время-пространство обращено к нам, затягивает нас в свою воронку, влечет своей пустотой, побуждает к движению-растворению в нем. Оно и смерть подлинно человечны, податливы приручению смыслом, поддаются наполнению им, его формовке, заговариванию словом (тогда «так легко не быть!») [7]. Они предстают в том тонусе, в каком их принимают: то сквозь умиление «радугой слез», как возлюбленная и сестра, то остраненно-созерцательно:
Чудный день! Пройдут века —
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное…
«В небе тают облака…», 1868.
Но у поэта «живая жизнь давно уж позади», у философа – история еще не начиналась, вся в будущем. Это вопрос настроя, темперирования времени, полярных векторов поэтики мышления, ощущения предела и бескрайности жизни, две формы аффективной мысли, экспрессивного мудрствования.
2. Участие Слова [8] в «событии бытия» и презумпция «понимания».
Бытие личностно и открывает себя в слове, в именовании вещей, выявляющем их ценностную тягу к их смысловому центру, к человеку [9]. «Слово было Бог». Ему присуща участливая охранительность, без чего мир исчерпает себя; «словом Божиим небеса утвердишася» – столь высоко и просто, возвышенно в обыденности способен чувствовать лишь аскет, мистик, поэт. Слово – зов любви и крик помощи в бездне бытия.
Ruf – зов, крик; Rip – бездна – тождественные в философии языка Хайдеггера понятия. Бытие обозначает себя криком из бездны, зовом бездны. Пребывание «между двойною бездной», рождение в обреченной красоте, исход космоса из хаоса и уход в него – центральный образ в раннем антропокосмизме Тютчева:
Небесный свод, горящий славой звездной,
Таинственно глядит из глубины, -
И мы плывем пылающею бездной
Со всех сторон окружены.
«Сны», 1830.
Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все сущее опять покроют воды,
И Божий лик изобразится в них!
«Последний катаклизм», 1830.
Она, между двойною бездной,
Лелеет твой всезрящий сон —
И полной славой тверди звездной
Ты отовсюду окружен…
«Лебедь», 1839.
Близкие хайдеггеровской концепции языка образы Слова находим в «Снах» Тютчева; «глас» стихии, бьющей «о берег свой» – это ветхозаветный зов из бури:
То глас ее: он нудит нас и просит…
Уж в пристани волшебный ожил челн;
Прилив растет и быстро нас уносит
В неизмеримость темных волн.
«Волшебный… челн» – спасительное Слово в «косноязычии» и «немоте» невыразимости (образ Жуковского) волнующегося «моря житейского» (Моисей, проведший жестоковыйный свой народ сквозь хляби «чермного моря», был гугнив, как юрод Божий).
«Язык и есть бездна?» – вопрошает философ и отвечает: «Лишь имеющееся в распоряжении слово наделяет вещь бытием» (С. 303). «Чем ближе мы подходим к опасности, тем ярче начинают светиться пути к спасительному, тем более вопрошающими мы становимся. Ибо вопрошание есть благочестие мысли», – заявляет Хайдеггер (С. 238). Некоторые его образы выглядят кальками с арамейского («бездна бездну призывает голосом вод многих…») и с тютчевского поэтического языка. В этом проявляется общая псалмодическая традиция, приверженность которой Тютчев сохранил в своих стихах-фрагментах, ее «черепках», какими смердящий Иов растравлял и очищал гнойные раны.
У Тютчева имеется множество образов «из пламя и света рожденного слова» (Лермонтов), предметно природных («камень», «месяц», «ключ», «елей») образов поэтического слова, близких хайдеггеровской системе (философ называл их «вещими вещами»). Но особенно роднит их религиозно-романтический образ «безмолвия» (Silentium, 1830) и Имени, скрывающего и являющего тайну Жизни. Stillе – безмолвие, молчание, скрытое, тайное – образы из структуры философа. Ruhe – покой, неподвижность, тишина, мир. Суть Ruhe близка Ruf и Rip; следовательно, речь идет о «покое» как простоте, цельном единстве четырех попарно соотносимых понятий, о их взаимообращении, перетекании, инверсии, безмолвном диалоге.
В бездне благоутробия зарождаются, из библейских «сердец и утроб» исходят столь мощные образы: «Пускай в сердечной глубине Встают и заходят оне…» (Silentium, 1830).
Поэт и философ выступают «бытописателями» Моисеева ряда: один вопрошающим, другой – ответствующим; сквозь их образы-реплики, в прорехах-паузах диалога сквозит terror antiques (древний ужас), разражающийся risus terror (смехом ужаса), подготавливающий рождение, приход гибельного «демона смеха» («Только вьюга долгим смехом Заливается в снегах…», – заметил Блок в «Двенадцати»).
Какое головокружительное парение антиномий, воздушно умопомрачительное, как ласточкины виражи над водной гладью, завязывание-распутывание узлов-узоров! И прорывание новых ходов в подземных лабиринтах мысли. Разве они бессмысленны и не выражают насущнейшей потребности нашего существа и существования? В то же время разве движение рыбы в воде оставляет какой-либо след в ее толще или изменяет что-либо в структуре воды и состоянии рыбы? Не есть ли мысль физиологическая, специфическая потребность организма и бытия как «нового Органона» в нашем общении с Творцом? Ломоносов провозгласил: «Природа – второе Писание», Тютчев отметил драму общения: «Природа – сфинкс…», а способностью «книгу Матери-природы читать ясно, без очков!..» наделил немногих:
Иным достался от природы
Инстинкт пророчески-слепой, —
Они им чуют-слышат воды
И в темной глубине земной…
«А.А. Фету», 1862.
Большинству же уготован удел героя «Безумия», поэта-«безумца»:
И мнит, что слышит струй кипенье,
Что слышит ток подземных вод,
И колыбельное их пенье,
И шумный из земли исход!..
«Безумие», 1830.
О, нашей мысли обольщенье,
Ты человеческое Я,
Не таково ль твое значенье,
Не такова ль судьба твоя…
«Смотри, как на речном просторе…», 1851.
Хайдеггер же с детской безоглядностью и поэтической непосредственностью уповает на мысль, в изначальности (истинности) которой усомнился и Фауст: «Язык мостит первые пути и подступы для всякой воли к мысли. <…> Язык – то исходное измерение, внутри которого человеческое существо вообще впервые только и оказывается в состоянии отозваться на бытие и его зов и через эту отзывчивость принадлежать бытию. Эта исходная отзывчивость… есть мысль» (Хайдеггер М. С. 254–255).
Сведение бытия к мысли, безоглядная, упорная вера в ее действенность свидетельствует о неразорванности пуповины с матримониальным лоном философствования, чреватым гибельностью для исчерпавшего себя лона и плода. В топосе личной границы выделяются сверхличная и внеличная зоны. Если поэт от «безличного», от стихии, «безумия» (вспомним «Не дай мне Бог сойти с ума…» Пушкина; тема «безумия» как «высокой болезни» любви и творчества в свободе – сквозная во все века) устремлен к надличной, то у философа наблюдается обратное движение, усугубление «меонального», мета-психического на грани психиатрии как метода философствования (Фрейд, Юнг). «Преодоление метафизики» ведет к метафизическому нигилизму в философии; надо погрузиться на дно, чтобы, оттолкнувшись от него, начать подъем [10].
Нет необходимости говорить, что тютчевское «Здесь человек лишь снится сам себе…» (мотив жизни-сна, иллюзии) – один из лейтмотивов философии XX века, в т. ч. Хайдеггера. И здесь возникает еще пара сопрягаемых философом противоположностей: Бытиепредстает у него как «пустота и полнота», соответствующие Платонову Поросу (богатству) и Пении (бедности), родителей Эроса-влечения, самого юного и древнего, могущественного, как Судьба, бога, вечно странствующего, бесприютного, беззаботного, праздного и беспокойного, жестокого и милосердного. Принципу Платонова «двоемирия» предстает структурообразующим и у Тютчева, а «некий жизни преизбыток» у него несет в себе гибельное начало. На каком-либо риторическом восклицании можно бы завершить установление параллелей, грозящее затянуться до нескорого их исчерпания. Но…
3. Действенность связующего различия
Сердечность мира и вещей состоит из разно-ликого,
является различием <…> Раз-личие предполагает…
связывающую середину…
М. Хайдеггер
Следует вспомнить, что каждый интересен и сам по себе, а не только своим сходством с другими; в конце концов, личность «в себе» – не только «симптом» времени, и несводима к Марксовой «сумме… отношений» [11].
И здесь сущностны различия. В чем же они?
В том, где и родство, – в «живой жизни» и в «бытии-времени». Можно думать, что разница в способах – философском и поэтическом – мышления. Но суть различий лежит глубже. Даже характер Платонова «двоемирия», двуединства, дуальности (диалектики-диалога) у них различен; различна и система ценностей.
«Открытость» (интенциональность) человеку трансцендентного смысла в «вот-бытии» позволяет Хайдеггеру говорить о тождестве бытия-времени кризисно становящемуся сознанию: не человек ищет смысл своего существования (цит. из Тютч.), а бытие мыслит себя в человеке, вопрошает его. В «пост-модерновой» метафоре присутствует момент уже не парадокса, а «абсурда» (проект «зеркал»), поскольку человек в ней отходит на второй план, в пассив, становится «орудием», медиумом (от такой роли поэт отказывается уже в кризисном для него 1830 году).
«Безумие» мира фиксировал Кьеркегор, а его повреждение засвидетельствовано Искуплением. Для поэзии и философии, двух форм «веры», оно – данность. Изначально человек пребывает в расширяющемся пространственно-временном пограничье. Смысл «безумия» определяется вектором интенции. Хайдеггер, начиная онтологизацией эстетики и антропологизацией онтоса, но оставаясь в рамках философской мифопоэтики, смещает центр своей концепции – личностное – на ее периферию: безликое Бытие замещает у него сверх-Личное, Богочеловека. Таков его отчетливо протестантский искус, в котором личностная, ветхозаветная законо-мерность сливается с безразлично римским законничеством и эллинской мерностью. За синкопическими паузами, разрывами его страстной мысли-чувства ощущается музыкальная дисгармония (Вагнера), порождающая экзистенциальный трагизм Ницше. В этом мало традиционной философии и много филологической мифопоэтики, неоклассики, горькой умудренности «бунтом».
У Тютчева при тех же компонентах картина темперирована иной тональностью: его искусы разнообразней и тоньше, глубже. Его «живая жизнь» через романтическую диалектику уходит в неоплатоническую, гностическую почву. Оно и понятно: петербургский период русской истории пестротой и вычурностью форм напоминает Александрию перелома тысячелетий – в этих тиглях переплавилось многое. Но важно не что переплавлялось, а что выплавилось, в какие формы отлилось.
«Форма» контрапунктически спорит с «содержанием», дает ему противовес, в самом своем принципе содержательный; ибо «содержание» – это каждый раз человеческая жизнь, а «форма» – напоминание обо «всем», об «универсуме», о «Божьем мире»; «содержание» – это человеческий голос, а «форма» – все время наличный органный фон для этого голоса, «музыка сфер» [12]. В отношении Тютчева позволительно скорректировать тонкую интуицию Аверинцева: у поэта «музыка сфер» осталась в романтическом периоде, на русской же почве даже в «Переложении из Гейне» звучит хор ангельских ликов.
В изживании, преодолении гностики крепла философия Откровения (не христианство вообще, а его нерв – православно-аскетическая мысль). «Живая жизнь» представала у Тютчева частичностью «Пути, Истины и Жизни», жизни во Христе, знакомой поэту с программных «Эти бедные селенья…» (1855) и «Над этой темною толпой…» (1857).
Хайдеггер многими темами, например, «косноязычия» (вариацией темы «безмолвия», «невыразимости» – Жуковский, Тютчев: «Молчи, скрывайся и таи…») оказывается ближе Баратынскому с его интуицией «недоноска» и потребностью в «читателе в потомстве», чем к «Безмолвию» слишком классичного по глубине и утонченности Тютчева. В интуициях философа оказывается много от «безумия» героев Достоевского. У Тютчева есть свое «Безумие» (1830); он заявляет: «Я не свое тебе открою, А бред пророческий духов…»; и его порой сопоставляют с героями Достоевского. Но это характерно для раннего (до окончательного возвращения на родину) Тютчева. Важней же всего – его отношение к «священной болезни» [13]. Швабская vulgata философа-бюргера вряд ли пришлась бы по вкусу русскому европейцу, демократу духа и аристократу по плоти.
4. Слово сочувствия и слово «власть имущего»: правда и право.
У немецкого философа его «при-сутствие» как место явления тайны напоминает «присутственное место», с его каллиграфией канцелярского слова по чину и сану. «Путь, Истина и Жизнь», как «Аз есмь Сущий», при всей его системности и высокой организации мысли распались на самодостаточные моменты. Из «отношений» испарился дух «со-общительности», «со-чувствия», и восторжествовали закон, порядок, пред-сказуемость (Гадамер назовет его «пред-рассудком»). Рождающаяся истина оказалась телесно конкретной, но при ее «витальности» – с детски несформировавшимся лицом [14].
Хайдеггер, несмотря на свой онтологизм, закономерно странным образом привязан к слову-знаку, к букве, к форме. Он игнорирует Предание, тогда как для Тютчева это не только семейно-родовая реликвия, но и живой, личный опыт Откровения. Индивидуальный опыт общения как прочтения оправдан и закреплен ветхозаветным буквализмом и умозрительностью философии. Лишь ученик Хайдеггера Гадамер вводит понятие «традиции». Но это введение, скорее, уводит, чем приводит к «пониманию». «Традиция» воспринята Гадамером как некий обряд, ритуал, неизменная форма, охранение, перенесенное в сферу технологии, мастерства, а не интуиции. Так «мерность», вытолкнутая в дверь, лезет в окно в виде Закона; презренный позитивизм обретает почтенный окрас Воли, утилитарность оборачивается потребительским Правом.
Нечто подобное происходит с историзмом Тютчева: встреча двух мировосприятий – эллинского и библейского, мифа и истории – оборачивается не историзацией мифа (признанием его относительной истины), а мифологизацией истории, когда реальность замещается отходной патетикой риторизма, перешедшей из эйдетики в идеологию [15]. Таким мифом стала модель «третьего Рима», где историческая мысль оказалась в искусительном перекрестье страстотерпного служения и псевдоморфозы церковно-имперской «симфонии» (Царствия Небесного и земного). «Обожение твари» подменилось ее освящением, «время» Предания – феноменом сакрального топоса, геополитическим мифом, историческим органицизмом. В этом пункте проступил его «номинализм», родовой эллинско-средневековый символизм, приверженность архивирующей метафоре. Редко кто из попавших в унисон вселенскому витийству отличит чаемое от реального.
Искушение («хлебами») оказалось вдвойне чревато – ветхозаветной теократией и милленаризмом (протестантским «хилиазмом»). Не личным стремлением ввысь, а низведением Духа в историю, узурпацией Его свободы догматической «диалектикой» метода отличался Гегель, учитель препирающихся о нем западников и славянофилов.
Философско-политический «эйдос» готов Пятидесятницу (рождение апостольской Церкви) преобразить в земное торжество православия. В нетерпении забывается предупреждение о том, что Христово в мире обречено на поражение. Хочется в Его горницу войти, минуя прихожую, дольнее понудить горним. Такова участь идеи: в ней рудиментарная теократия сошлась с платоновской утопией на почве поэтически философского панентеизма и политического теократизма.
Но это в области умозрения, в эмпирике же мифологизация истории неизбежна. «Телу душевному», народному необходимы скрепы историко-религиозного мифа. История движется сменой мифов. Критерий их жизнеспособности заключается в ответствовании тому, «что Бог думает о народе в вечности» (Вл. Соловьев). И здесь – «ум человеческий – угадчик», а не пророк (Пушкин). Выбор невелик, его же никто не избегнет. Это знают вожди, властители тел и дум, политики, философы и поэты. Большинство, как Фауст, культивируют стихии «живой жизни», игнорируя личностный аспект. И не важно – проповедуют ли они преклонение перед первозданной «почвой» (как Гете), или манифестируют ее «дренаж» (как его герой). Они из нее творят свой деструктивный миф.
Удивительно ли, что Хайдеггер от католических экстазов, от экзальтации романтической диалектикой прямо переходит к протестантской скудости смыслов. Изыски мысли понадобились для того, чтобы показать, что: «Власть мировоззрения взяла существо метафизики в свое обладание. <…> Здесь заложено основание того, что с началом завершения метафизики впервые может развернуться полное, безусловное, ничем уже не нарушаемое и не смущаемое господство над сущим» [16]. Какова непритязательность, замешанная на диалектике и восточном спиритизме, призванных обосновать «волю к власти», к праву «собственности»! Нашему поэту далеко до ее «жизненной» безыскусности, единственный удел которой – оставаться на мифопоэтической почве «народа», «нации». К этому пришел Хайдеггер, вкусив реальной «почвы и крови», плодов штюрмерства. Это преодолел Тютчев («Над этой темною толпой…»). Чуткие к мысли и слову поэты и философы в эмпирике не бывают успешны.
Так, даже отрицая чужой опыт как собственный изжитой, музыкально-драматически, в синкопических паузах-перерывах, в умолчаниях ответствуют друг другу философ в поэте и поэт в философе: «Смертные говорят постольку, поскольку исполняют двойную мелодию вести и ответа. Слово смертных говорит тем, что оно в многообразных смыслах со-ответствует».
Отметив визионерско-профетическое «томление» «духовной жаждою» («он с беспредельным жаждет слиться», Тютчев), общность алгоритма и механизма устремления из глубины сердца (онтического центра, седалища Бога) в обоих, необходимо различить их эросные векторы, зоны расширения антропологического «горизонта». Экспансия человеческого возможна в двух телосах – к Духу и от Него. Если у поэта отчетливо устремление в онтологическом, Богочеловеческом измерении, то у философа столь же явственна онтическая, «человеческая, слишком человеческая», отмеченная пафосом виртуальности мифопоэтика. «Юродство» его мысли не переходит в аскезу души во Христе. Сущностно-эйдетический метод неодолим изнутри, а подключение к мета-ресурсам не состоялось. Это не значит, что философу заказан возврат к Истоку; он возможен с «другого конца», чреватого утратами. Но разве знаешь, где найдешь, где потеряешь? И разве любовь к жизни – гарантийный талон, а не шанс (ср. «бунт» русского Иова, отказ Ивана Карамазова от неотъемлемого дара) [17]? Искупленные в веках, в потенции, мы поняты и оправданы, любимы, а актуализация, вечное спасение – у Бога [18].
Различие философа и поэта в том, что философ, исходя из философского дискурса в смежную область мировосприятия, едва ли не претендует на подмену онтологического – «онтическим», Универсума бытия – универсалией смерти как инобытия. Его «вот-бытие» – это «бытие-к-смерти», существование не в присутствии смерти и не «через» нее, а в ней как последней данности, «смертобожие» [19]. Неодоленность меона, дуальность жизни и смерти оборачивается монизмом Ничто. Философ остается в спектре древнего ужаса и катарсиса; и ни стоика, ни имморализм, ни феноменология у него не спасают. У него не только «век вывихнут», Бог «умер», но и что хуже, окончательно свихнулся. Не случайно философ через Гегеля возвращается к «грекам»: «…Для нашей мысли философия греков… такое “еще не”, которому не удовлетворяем и которому не отдаем должное мы» [20]. Остается вопрос: преодолена ли им и философией ХХ века метафизика? Его мысль есть моление бытия к осуществлению себя в слове, она есть заклинание, провокация, поэзия и филология, а не подчиняющая воля и узда. В ней через именование вещей хочет осуществиться воля личности над безликим, осуществить бытие через его вочеловечение; так сила в слабости свершается.
«Порог» представляет собой границу сакрального и профанного состояний-хронотопов, он совмещает в себе вознесенность камня-«алтаря» и попираемость мира («На камне сем воздвигну Церковь»), где «злая жизнь, с ее мятежным жаром, Через порог заветный перешла…» (Тютчев) [21]. «Порог» выражает центричность границы. Поэт, выходя в мир из поэтического образа, который своей цельностью оказывается ближе к жизни, чем философский дискурс, сознает ограниченность своего опыта, не стремится подменить собой мир и Творца. Поэтому «отрицание смерти» (как «задняя Бога» в терминах Моисея) у него феноменально, подобно «преодолению метафизики»; знание ее не отменяет Богопознания и диалога с Творцом. Это опыт, исходящий из аскезы и возвращающий к ней как труду души, чаянию и упованию в молении сердечного ума. В своем пределе поэзия есть образ «аскезы» и «богословия» в их недискурсивной цельности.
Ведь и философия, и поэзия истоком своим имеют миф-Образ, воплощенный Логос, сопрягающий смысл и форму, которые придают жизни вне образа личную цель и назначение.
Не зря же романтик Жуковский сказал: «Жизнь и поэзия одно…» Только поэзия вносит в наше безвидное существование личностное начало. И это при том, что дальний его потомок отозвался: «Поэзия темна, в словах невыразима…» (И. Бунин).
Духовный опыт русского поэта-философа Ф. Тютчева и немецкого философа-поэта М. Хайдеггера подсказывает: сотвори свою жизнь, ограни себя в ней, как алмаз! И лучшее, что человек может создать из своей жизни – это свою смерть (литургическую). Придай Исходу форму, возведи его в перл создания, введи в ритуально-жанровую традицию – и сотворишь свою судьбу в вечности; только тогда твоя жизнь получит оправдание и смысл.
Так, иномирно, ощущает художник свою жизнь как Провидение, призвание к бытию. Только такое ее восприятие пред ликом Творца и придает мировой драме сумеречный отсвет вечности и величия.
Примечания
1. «Существом поэзии пронизано… всякое выведение существенного в непотаенность красоты» (Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 238).
2. Если для Гегеля свобода оставалась «познанной необходимостью» в интеллектуально-правовой парадигме, то в русской мысли она соотносилась с сочувственной ответственностью, с состраданием другому.
3. Пушкин, по свидетельству Гоголя, заявил: «слова поэта суть его дела». «Чистая мысль» противопоставляет социально-историческое и духовно-художественное творчество, насаждая единство доминированием односторонности. Безличная «гармония» ведет к нигилизму, выявляет несовпадение природосообразности с личностным, с творчеством.
4. Онтология Хайдеггера тяготеет к онтическому, экзистентному, посюстороннему, в терминологии Хоружего. Хайдеггер знаменует углубление кризиса, а не исход из него, который в нем едва, интеллектуальным пунктиром лишь намечен. Русская литература гораздо адекватней отвечает иномирному, что позволяет говорить о ее онтологическом реализме. Осуществлять в нем прорыв удавалось немногим и редко.
5. Параллель переводу Жуковским «Лесного царя» Гете. Мотив соглядатайства, восходящий к Платонову образу «охоты», нередкий у Тютчева («Дым»), встречаем в описании связи Мцыри с ночным пейзажем.
6. См. стихотворение Тютчева «Пожары».
7. Та же выучка у Державина: «И смерть, как гостью, ожидает, крутя, задумавшись, усы» («Аристиппова баня»).
8. «Создается ли это отношение впервые лишь поэтом, или слово само от себя и для себя требует поэзии, так что только через это требование поэт становится тем, кем он может быть?» (Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 303).
9. «Язык есть дом бытия. В жилище языка обитает человек. Мыслители и поэты – хранители этого жилища. Их стража – осуществление открытости бытия, насколько они дают ей слово в своей речи, тем сохраняя ее в языке» (Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Время и бытие. М., 1993. С. 192). Это ближе к Мандельштаму, своей зачарованностью стихией речи, заговариванием жизни, более похожим на мантры, чем на стихи Тютчева.
10. Ср. вопрос-ответ поэта в стихотворении «Певучесть есть в морских волнах…», 1865.
11. Формула по сути точна, но ограничена «социумом»; чревата абстракцией, субститутом, отличным от конститута. Личность – энергийно-световой пучок, скрещение лучевых волевых устремлений духа и плоти, исток которых вовне («красный паучок» в темной баньке вечности, по Свидригайлову).
12. Аверинцев С.С. Ритм как теодицея // Новый мир. 2001. № 2. С. 203–205. «Содержание той или иной строфы “Евгения Онегина” говорит о бессмысленности жизни героев и через это – о бессмысленности жизни автора, то есть каждый раз о своем, о частном; но архитектоника онегинской строфы говорит о целом, внушая убедительнее любого Гегеля, что das Wahre – das Ganze. (Истинное …Целое, нем.) Классическая форма – это как небо, которое Андрей Болконский видит над полем сражения при Аустерлице. Она не то чтобы утешает, по крайней мере, в тривиальном, переслащенном смысле; пожалуй, воздержимся даже и от слова “катарсис”, как чересчур заезженного; она задает свою меру всеобщего, его контекст, – и тем выводит из тупика частного». Само название – от Вяч. Иванова, «искусство всегда теодицея».
13. Одно дело – ее культивация как атрибута, другое – трезвое понимание ее конститутивности, онтологии.
14. Брюзгливо, кисло сморщено, стерто лицо у «правды фарисейской» и «скопческой». Замечено: чем брутальней ее носитель, тем худосочней она.
15. См.: Казин А.Л. Историософия Тютчева // Христианство и русская литература. Вып. 2. С.-Пб., 1996. С. 216–219. Статью о. Георгия Флоровского «Исторические прозрения Тютчева» (Его же. Из прошлого русской мысли. М., 1998. С. 223–235) выгодно отличает трезвое отношение к историософской мифологике поэта.
16 Хайдеггер М. Европейский нигилизм // Время и бытие. М., 1993. С. 176.
17 «Бытие – надежнейшее, никогда не беспокоящее нас к сомнению. <…> Бытие, без которого мы сущее не можем ни с какой стороны даже поставить под сомнение, предлагает надежность, чья степень надежности ни в каком направлении не дает себя превысить. И все же – бытие, в отличие от сущего, не предлагает нам никакого основания и почвы, к которым мы обращались бы, на которых бы строили и которых держались. Бытие есть от-каз от роли такого обоснования, отказывает во всяком основании, оно без-основно, оно без-дна (ab-grundig). Бытие – самое забытое, так безмерно забытое, что даже эта забытость оказывается еще и втянутой в свой собственный водоворот. <…> Но забытейшее есть одновременно и памятнейшее, что единственно допускает вникнуть в былое, настоящее и наступающее и устоять внутри них. Бытие – самое высказанное… Это высказаннейшее есть одновременно несказаннейшее в том подчеркнутом смысле, что оно умалчивает свое существо и есть, возможно, само умолчание. …Любое слово как слово есть слово “бытия”… в том смысле, что бытие высказывается в каждом слове и именно таким образом замалчивает свое существо. Бытие открывает себя нам в какой-то многообразной противоположности, которая со своей стороны опять же не может быть случайной, ибо уже простое перечисление этих противоположностей указывает на их внутреннюю связь: бытие одновременно пустейшее и богатейшее, одновременно всеобщнейшее и уникальнейшее, одновременно понятнейшее и противящееся всякому понятию, одновременно самое стершееся от применения и все равно впервые лишь наступающее, вместе надежнейшее и без-донное, вместе забытейшее и памятнейшее, вместе самое высказанное и самое умолчанное. Но разве это, если по-настоящему задуматься, противоположности в существе самого бытия?» (С. 174).
18. «В учении о человеке и мире православная мысль, от отцов Церкви до современных богословов, всегда подчеркивала элемент холизма: причастность к домостроительству спасения и обожения всего цельного состава твари. В сфере учения о мире отсюда вырастала традиционная православная тема, которую на Западе часто называют темой космической литургии: тема об оправдании, обоживающем преображении материи и космоса, всего тварного мироздания. <…> В антропологии же холистическая установка развилась в обширную тему об оправдании телесности и, в частности, о соучастии тела в молитвенном восхождении к Богу и в финальном эсхатологическом преображении естества. Тема эта была одной из центральных в знаменитых исихастских спорах XIV в., когда православие, соборно осмыслив опыт афонских подвижников-исихастов, достигло “паламитского синтеза”» (Хоружий C.C. Свет с Востока). Это ни в коем случае не космиургия, а противоположное – «христокосмизм», христианский универсализм, онто-реализм Мессии-Поэта. На основе высказанного рискнул бы Пушкина–Тютчева–Достоевского причислить к поэтическому модусу исихии, к поэтической «неопатристике».
