Фанаты. Счастье на бис бесплатное чтение
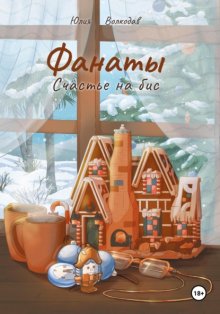
Пролог
В доме тихо. Только здесь, почти в лесу, начинаешь понимать, что такое настоящая тишина. В городе, даже если ты в квартире один, а окна плотно закрыты, доносятся посторонние звуки: у кого-то сработает в машине сигнализация, кто-то из соседей спустит воду в ванной комнате, у других соседей ребёнок вздумает попрыгать через скакалку, пусть и в половине двенадцатого ночи. Собственный дом, окружённый высокими соснами и буками, к тому же стоящий особняком, позволяет узнать истинную тишину и научит ею наслаждаться.
Сашка сидит на крыльце, прижавшись затылком к ещё тёплому, нагретому за день солнечными лучами дереву дверного косяка. В руке тлеет сигарета, дожидаясь следующей, редкой, но сильной затяжки. Её единственная за день сигарета. Уступка старой жизни, которая закончилась в тот день, когда он перешагнул порог её дома. Очень неуверенно перешагнул, на ногах он тогда держался не слишком хорошо. Сейчас лучше. Или тоже уступка, теперь со стороны костлявой. Тогда Сашка его вырвала, выцарапала. Не столько знанием, уж знаний у столичных эскулапов было поболее. Скорее характером. Упёртостью своей. Сжала зубы, прорычала «не отдам». И не отдала. На сколько раундов ещё её хватит?
Сашка прислушивается, не доносится ли из дома знакомый голос. Самый знакомый на свете. Всеволод Алексеевич утверждает, что с возрастом голос становится ниже. Как-то взялся на примерах ей доказывать, разбирать, в какой тесситуре пел в молодости, в какой под конец.
– Разница в половину октавы! – Он размашисто подчеркивал что-то в нотах, в которых Сашка всё равно ничего не понимала. – Видишь?
– Вижу, – кивала она.
Но не слышу. Молодой Туманов её вообще мало волновал. Для неё голос оставался тот же самый. Пусть поёт в любой тесситуре. Пусть ворчит на телевизор и изгаляющихся в нём политиков. Пусть доказывает, что ему хочется. Только бы не хрипел, сдавленный астматическим кашлем.
Двери, выходя на крыльцо, Сашка не закрыла. Ни в его комнату, ни во двор. Чтобы услышать, если понадобится. Она тщательно следит, чтобы телефон всегда был при нём, включённый, заряженный, с ярким экраном и быстрым набором её номера. Но он всё равно чаще зовёт, чем звонит. Ему так привычнее. А она привыкла слышать его из любой комнаты. Но двери всё равно старается не закрывать, если позволяет погода. Сегодня позволяет. Первый по-настоящему весенний день, хотя на календаре середина апреля. Если тепло продержится хотя бы неделю, зазеленеют деревья, покажется первая трава. И Всеволод Алексеевич, бродя по их огромному участку, будет восторженно звать её тем самым голосом:
– Саша, иди сюда. Посмотри, яблонька зацвела!
И ей придётся, бросив на плите кастрюлю, спешить на его зов, любоваться яблонькой. Сашке сад даром не нужен. Когда они переехали, выяснилось, что сад безбожно запущен, многие деревья давно одичали. А у него оказался дар – что ни посадит, что ни привьёт, всё приживается. И нравится ему в земле возиться. Сил только маловато, Сашка как увидит, что он ведро с удобрениями тащит или саженец очередной с неё ростом, так сердце кровью обливается. И не скажешь же ничего, не заберёшь. Обидеть его она боится не меньше, чем потерять.
– Только не преврати его в комнатную собачку, – сказала ей Тоня ещё тогда, в самом начале, когда сам Всеволод Алексеевич не расставался с кислородной маской и по этой причине был не слишком разговорчив. – Он тебе не простит.
– Думаю, что он мне и не позволит, – хмыкнула Сашка.
Это в первые месяцы он был практически беззащитен. Задыхающийся, слабый, с постоянно скачущим сахаром, зависимый от неё как ребёнок. Но чем лучше ему становилось, тем чаще просыпался тот самый, настоящий Туманов, перед которым грозная доктор Тамарина восхищённо замирала, как влюблённая четырнадцатилетняя дурочка из Мытищ. Они искали друг к другу подход долго. Благо спешить обоим было некуда. И роли до сих пор чётко не распределились. Рассеянного, часто хворающего дедушку сменял гордый и самолюбивый артист, привыкший быть центром всеобщего притяжения. А Сашка то становилась мамкой и нянькой, нежной, заботливой, умеющей успокоить среди ночного кошмара или приступа чёртовой астмы. То вот так, поддёрнув грубые армейские штаны, сидела на крыльце и курила, выпуская кольца дыма навстречу ярко-звёздному небу.
Если сегодня среди ночи проснётся, а он часто просыпается, надо обязательно рассказать ему, что в воздухе пахнет весной. Он очень ждёт весну, как все старики.
Сашка присыпает окурок землёй и возвращается в дом, осторожно ступая по скрипучим половицам. Дом у них маленький, но уютный. Впрочем, раньше она не оценивала жильё в этой категории. Раньше ей было всё равно. Дом и дом, крыша над головой. А теперь убирает, намывает чуть ли не каждый день. Просто водой, все моющие средства с запахами способны вызвать приступ, так что под строжайшим запретом. Пусть лучше в доме пахнет едой, свежим хлебом. Хлеб каждый день печёт хлебопечка. Сашка точно знает, что в нём не будет никакой дряни, которую ему нельзя. А он по утрам идёт на запах, улыбаясь до ушей. И счастлив, что его ждут за уже накрытым столом, с салфеточками, тарелочками, горячим завтраком. Именно его ждут, именно для него накрывали. И уже не так важно, что меню строго ограничено списком низкоуглеводных продуктов. Сашка очень старается из них сотворить что-то вкусное, каждый день разное. Но его диабет непредсказуем, и часто скачки сахара связаны не с тем, что он съел, а с тем, о чём думал. Можно сидеть на голой гречке и получить шокирующую цифру на глюкометре, потому что недосмотрела, недолюбила, не заговорила, не отвлекла и он загнал себя в водоворот воспоминаний. Поэтому Сашка неестественно много для себя улыбается. Для него улыбаться не сложно. И говорит с ним постоянно. И сейчас, прежде чем лечь спать, идёт к нему.
Спальни у них разные, через стенку. Но это чистая условность, у него она проводит времени гораздо больше, чем у себя. Если проснётся ночью и позовёт, до утра уже от себя не отпустит. В его спальне, помимо кровати, стоит диван, на котором Сашка часто досыпает остаток ночи. Давно пора бы переехать на него окончательно. Но они оба держатся за какие-то странные представления о достоинстве, которые неизвестно кто придумал. Согласно им в начале одиннадцатого, внимательно посмотрев программу «Время» в большой комнате, Всеволод Алексеевич желает ей спокойной ночи и отправляется к себе. Сашка заканчивает домашние дела, домывает посуду, заматывает в полотенце кастрюлю с гречкой – упариваться до утра – и идёт курить на крыльцо. Потом, через ванную комнату, почистив зубы и переодевшись в ночное, окончательно избавившись от запаха табака, идёт к нему. Если всё хорошо, он уже спит. У него спящего выражение лица такое благостное, чисто добрый волшебник из детской сказки. Когда-то, тысячу лет назад, он снимался для новогодней передачи, играл там звездочёта. Пел колыбельную в расшитом звёздами плаще и колпаке. И укладывался спать прямо на сцене. Она тогда впервые увидела его таким, безобидным, умиротворённым. Хотя он всего лишь играл заявленный образ добряка звездочёта. И только теперь стал на этот образ по-настоящему похож. Её добрый сказочник, персональный.
Он спит с ночником, чтобы не натыкаться в темноте на предметы, если придётся вставать. И чтобы Сашке не пришлось подсвечивать себе телефоном. Она подходит к нему, слушает. Слух теперь её главный инструмент диагностики, весьма удобный, надо сказать. По звуку его дыхания она может многое узнать и при этом ничем не побеспокоить Всеволода Алексеевича. Вроде бы всё нормально, ночь должна пройти без сюрпризов. Сашка наклоняется к нему и позволяет себе вторую роскошь за долгий и трудный день. Они оба неплохие артисты. Он делает вид, что всегда крепко спит в этот момент. А Сашка делает вид, что никакого прикосновения губ к седому виску не было.
Апрель
– Саша…
Ей достаточно, чтобы проснуться. Тоня говорит, что она и не спит вовсе, в лучшем случае дремлет. Твердит, что так нельзя. Раньше предлагала свою помощь. Но толку-то, если зовёт он именно её? И Сашка всё равно будет подскакивать при первых звуках из его спальни.
Секунда, и она уже у него. Он сидит, но дышит нормально. Не астма, однако привычка всех астматиков при первых тревожных признаках садиться у него работает чётко. Для Сашки самое главное – излучать спокойствие. В любой ситуации, а ночью особенно. Он её, может, для того и зовёт.
– Что случилось? – Неспешно (теперь уже неспешно, так нужно) подходит, садится на край постели. – Ну что такое?
– Пить…
На тумбочке у его кровати всегда стоит термокружка, в которой с вечера заготовлено тёплое питьё, обычно чай с молоком. Сашка на неё выразительно смотрит.
– Кончилось!
А вот это плохо. Кружка большая, на пол-литра. Сильная жажда – признак высокого сахара. Сашка тянется за глюкометром:
– Руку давайте.
Она к нему на «вы» почти всегда. И лучше бы тех ситуаций, когда прорывается «ты», совсем не существовало.
Глюкометром приходится пользоваться часто, но она следит, чтобы пальцы успевали заживать, постоянно меняет руки. Когда он попал к ней, на правую было страшно смотреть, потому что колол он всегда себя сам. Страшная тайна Всеволода Туманова – он переученный левша. Пишет правой, а микрофон всю жизнь держал левой.
– Всегда у тебя сначала гадости, потом радости, – ворчит он.
– Что поделать?
Сашка сцеживает капельку крови на полоску, напряжённо смотрит на экранчик. Многовато, но не критично. Видели и хуже.
– Ну что там?
– Жить будем. Чуть-чуть добавим инсулина.
Он горестно вздыхает, но Сашка хорошо знает, где его неизбывный артистизм, а где настоящие печали. Сейчас Туманов на сцене. Потому что никаких особых неудобств её назначение ему не доставит. Но он с лицом героя панфиловца, идущего с лопатой против танка, медленно расстёгивает пижамную куртку, чтобы дать Сашке доступ к маленькому приборчику, на котором достаточно нажать всего лишь одну кнопку. Всё, дополнительная доза инсулина введена. Мог бы и сам справиться, артист. И даже не почувствовал же ничего, но как не пострадать на публику?
– Всё, с гадостями закончили. – Она застёгивает на нём куртку, помогает удобно устроиться. – Сейчас будут вам радости.
– Наконец-то! Я уж и не надеялся! – язвит он.
Сашка идёт готовить свежий чай. Сна уже ни в одном глазу, причём у обоих. Она сова, и в три часа ночи ей как раз хорошо. Зато в восемь, когда он бодрый и весёлый заруливает на кухню, Сашке хочется сдохнуть и искупаться в тазу с кофе одновременно. Кто он в птичье-биоритмической классификации, Сашка не возьмётся определять. Он сам по себе. Почти пятьдесят лет гастрольной жизни способны сбить любые внутренние часы, даже если бы их изготавливали швейцарцы. Он может резво скакать с раннего утра, а может весь день провести в постели, если его оттуда не выгнать.
Ночью ей всегда его особенно жалко. Она знает, как он боится ночи. Хорошо помнит, как в первые месяцы категорически не хотел оставаться на ночь один, как долго ещё жил в нём страх задохнуться. Сейчас всё проще, он даже шутит, играет на публику. Но всем было бы лучше, если бы обходилось без ночных подъёмов. Не обходится.
Хочется его побаловать, и Сашка вместо обыкновенного чая заваривает тёртую облепиху. Он любит ягодные напитки. Возни больше, зато сколько радости на его лице, когда он замечает янтарно-жёлтый стакан в её руках. Медный подстаканник, ложечка. Всё как в лучших домах.
– Приятного. – Сашка снова садится к нему на постель.
– А ты?
Сашка морщится. Она облепиху терпеть не может.
– Вкусно, – довольно щурится он. – Так просто, а вкусно. Так всегда и бывает. В детстве мама нальёт стакан кипятка, растворит в нём кусок сахарина – вкуснотища! Сахарин растворяется плохо, на дне кристаллики оседают. И ты пьёшь горячую воду и ждёшь, когда же конец, чтобы самое вкусное ложкой соскрести.
– А почему кипяток? Почему не чай?
– Так не было заварки. Морковка иногда была, её заваривали. Противная. Лучше просто кипяток.
– Вы всегда сладкое любили?
Всеволод Алексеевич кивает:
– В сорок шестом, на первый послевоенный Новый год, мама мне такой «рожок» подарила. Из фольги свёрнутый кулёчек. А там немного грецких орехов, одна мандаринка и конфета «Мишка». Тоже одна. Столько счастья было. До сих пор вспоминаю с теплотой. Теперь не из-за конфеты, конечно.
Сашка кивает. Она поняла. Из-за мамы. Всеволод Алексеевич остался, считай, сиротой в пять лет. У отца служба, военный госпиталь, потом новая семья. Маленький Севушка болтался за ним хвостиком, передаваемый с рук на руки медсёстрам, адъютантам, мачехе.
Про его маму говорить сложно обоим. Никогда не видевшая её Сашка часто думает о женщине, которая прожила почти вдвое меньше, чем ей сейчас. Понимала ли она, сгорая от чахотки, что это конец? И что маленький мальчик, сын, остаётся один? Было ли у неё время подумать о его судьбе? Наверняка. Вряд ли она тогда могла думать о чём-то ещё. Сашка не особо верит в ангелов-хранителей и прочую околорелигиозную мифологию. Но сказочное везение Всеволода Алексеевича, которое помогало ему выигрывать конкурсы, получать самые лакомые песни, раз за разом вытягивать счастливые билеты прямо из-под носа коллег, порой куда более одарённых природой, иначе, чем ангелом-хранителем, объяснить трудно. И если таковой существовал, у него точно были глаза его мамы.
Допил облепиховый чай, Сашка забирает стакан. Поднимается, собираясь идти.
– Посиди ещё.
Спокойно говорит. Знает, что ему не откажут, и не нужно выдумывать причины. Она останется просто потому, что он так хочет, объяснять не обязательно.
Какое-то время сидят молча. Наконец Сашка вспоминает неписаное правило этикета: в любой неловкой паузе говорить о погоде. Хотя их пауза совсем не неловкая, вместе им и молчать хорошо.
– На улице настоящая весна, Всеволод Алексеевич. Тепло. Завтра прогуляемся?
Кивает:
– А какое число?
– Пятнадцатое.
– Уже? Скоро майские. В майские всегда было столько работы.
Сашка прикусывает губу. Она до сих пор не знает, как реагировать на разговоры о сцене. Сначала обрывала, хотя перебить его немыслимо. Но старалась отвлечь, перевести тему. Чтобы не грустил ещё больше, не вспоминал, не сравнивал себя сегодняшнего и того, экранного Туманова в костюме с бабочкой. Но он так часто и упорно возвращался к подобного рода воспоминаниям. И, что примечательно, именно они позволяли отвлечься, когда он скверно себя чувствовал. Он хотел говорить о сцене. И Сашка сдалась.
– А я никогда их не любила. Первые майские. День Победы – да, особенно в нулевые. А Первомай – ну что это за праздник?
– Славный праздник Первомай, я нас…у, а ты поймай, – ехидно комментирует Всеволод Алексеевич.
Сашка чуть стакан не роняет от неожиданности. Никак она не привыкнет к настоящему Туманову. Настоящий тот ещё лицедей. Это на сцене он всегда был правильным. Правильный костюм, правильные слова, правильный репертуар, и очень ограниченный набор жестов, эмоций, красок. У настоящего палитра куда богаче. Он и трогательный, цепляющийся за её руку в темноте, и нежный, заснувший с улыбкой, и невыносимый, изводящий стариковскими капризами, и ехидный, выдающий что-то совершенно мальчишеское. Порой его шутки в диванной плоскости или откровенно детские подколы, родом, как потом выяснялось, из артистической среды, вводят Сашку в ступор. Нет, она и сама не нежная ромашка, а детство в мытищинских дворах, да в девяностые, по её врождённой интеллигентности изрядно потопталось. Но именно от него она до сих пор подсознательно ждёт сценического пафоса, а никак не дворовых прибауток.
– Так чем тебе Первомай не угодил? – невозмутимо продолжает он.
– Я его не понимала. Что празднуем, почему? В моём детстве уже ведь не было демонстраций. И вообще какого-то обоснования сей даты. Просто четыре выходных подряд, когда все уезжают на «маёвки». То есть на дачи, бухать и жарить шашлыки. Чаще просто бухать. Одна радость, что на майские всегда какие-нибудь хорошие концерты повторяли. Помню, ваш юбилейный, пятидесятилетие, поставили на четвёртое мая. Повтор, конечно, но у меня не было записи. И я так надеялась, что запишу. А в моей идиотской школе вечно сокращали праздничные дни. Мы и в каникулы отдыхали меньше, чем все нормальные дети. И я боялась, что как раз четвёртое объявят учебным днём. Класснуха пришла, зачитывает выходные дни. И когда назвала четвёртое, я громче всех от радости орала. Она на меня даже покосилась. Решила, что я главный лодырь. В общем, я готовилась, заранее чистую кассету припасла, записывать. А четвёртого утром родители объявляют, что мы всей семьёй едем за город, в лес. Грибы собирать. На черта мне те грибы? Как я просила оставить меня дома! Но папа упёрся, мол, семейный выезд. Первый раз за год вспомнил, что с семьёй надо время проводить, поди ж ты. И концерт я пропустила. Так расстроилась. Мелкая же совсем была. Потом, через пару лет, мне уже никто указывать не мог.
Всеволод Алексеевич качает головой. Ему интересно слушать её рассказы, в которых он же главный персонаж. Но странно. Чаще всего он её не понимает. Но очень старается понять.
– А что, так важно было записать? Ты же уже видела тот концерт, когда его первый раз показывали.
– Конечно важно! Во-первых, для истории. Тогда ещё речь не шла ни об Интернете, ни о каких-то оцифровках. Но я уже понимала, что все ваши записи надо сохранять, что это будущий архив. Мне невероятно нравилось с ним возиться: подписывать кассеты, составлять каталоги. И то же самое со всеми публикациями о вас в газетах, журналах. Подшивала, подклеивала, в папки собирала.
– Маленький архивариус, – хмыкает Туманов. – Надо же… А мне всегда плевать было. Я ничего не собирал. Даже пластинки свои куда-то все подевал. А во-вторых?
– А во-вторых, я пересматривала записи. По много раз, особенно юбилейные концерты. И с большим удовольствием.
– Нашла, что пересматривать. Пятидесятилетие, говоришь? Чёрный костюм с белыми треугольными вставками, да? Люстры вместо декораций?
Сашка кивает. Странные у него ориентиры. Должен был бы программу вспомнить, репертуар. А ему запомнились пиджак и люстры. Оригинально.
– Саш, я же был пьян в хламину. Мы с утра праздновать начали. Эти, так называемые мои друзья ещё на генеральном прогоне заныли, мол, не идёт на сухую, что за праздник без коньяка и так далее. А коньяка у нас завались, главный спонсор концерта – коньячный завод. Тогда на рестораны ни у кого денег не было, столы накрывали прямо за кулисами. Ну и мы по маленькой, по маленькой. Им-то ничего, они закусывают. А я мало того, что на нервах, так ещё и наедаться не могу, мне же петь весь вечер. И к началу концерта уже на бровях. Неужели ты не заметила?
– Всеволод Алексеевич, мне было двенадцать лет. Хотя ладно, на пьяных мужиков я к тому времени насмотрелась достаточно. Но вы сильно от них отличались, поверьте. У меня тот концерт до сих пор один из любимых. Вы там такой… неформальный. Рубашка полурасстёгнута, грудь расхристана, глаза блестят. В общем, я сочла это всё за творческий кураж. Потом закрались подозрения, конечно. Спустя лет десять. Но спустя лет десять мне уже всё равно было, что и как вы на сцене делаете. Главное, что вы на неё выходите.
Смотрит на неё со странной смесью удивления и восхищения. Не одобряет, конечно. Он всю эту фанатскую историю в принципе не одобряет. Но ему интересно.
– Можно мне ещё чаю? Только заведение посещу.
Сашка поднимается, чтобы не мешать ему вылезать из кровати. Не помогает. Без лишней нужды никогда не помогает, если сам не скажет. Хотя порой очень хочется поддержать за локоть, довести, чтобы наверняка. Инстинкты. А ведь смешно же, он гораздо выше её, в два раза шире в плечах. И, если его не шатает от высокого сахара или ещё какой беды, то и сильнее её значительно. Даром, что вдвое старше.
Пока она возится с новой порцией чая, он возвращается в кровать. Сашка отдаёт ему стакан, заглядывая в глаза:
– Всё? Спать? Половина пятого уже.
– Я не хочу. Но ты иди, если хочешь, я телевизор посмотрю.
А сам сразу с лица спадает. Понятно, как ему тот телевизор нужен. И Сашка возвращается на своё прежнее место. Он грустно улыбается, прихлёбывает чай.
– Так ты только за тот несчастный концерт Первомай недолюбливаешь?
– Нет. За ваши маёвки.
– Вот как! – Пепельно-серые брови ползут вверх. – Странный вы народ, поклонники! Я думал, для вас стараюсь. Мне ведь тоже мало радости каждый год, да ещё в самое жаркое в плане концертов время, бесплатно работать. Но традиция, куда денешься? Благотворительность, опять же, дань памяти ветеранам. Мне казалось, вам нравилось!
– Кому «вам», Всеволод Алексеевич? Когда вы всю эту благотворительную историю начали, у меня не было возможности ездить в Москву, пусть даже и на бесплатный концерт. Телевидение ваши «маёвки» не снимало, если только в новостях полминуты покажут, как вы в спортивной куртке кашу из полевой кухни лопаете.
– Отличная была каша, – мечтательно замечает он. – Я, может, ради неё всё и затевал!
– Ну да, больше же Народному артисту пожрать негде, – подхватывает Сашка его ироничный тон. – Ду
