Камера хранения. Мещанская книга бесплатное чтение
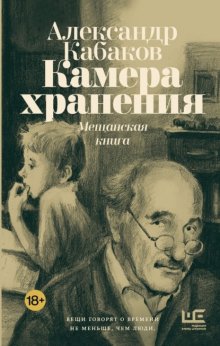
© Кабаков А.А., наследники
© Бондаренко А.А., художественное оформление
© Николаенко А.В., иллюстрации
© ООО «Издательство АСТ»
Необходимые пояснения
Мемуары – жанр, по моему мнению, для автора малоприятный и, наверное, по этой причине любимый читателями. За всякий успех у потребителя производитель продукта должен платить, и чем безусловней успех, тем больше плата. Вспоминая свою жизнь, пишущий подсознательно прощается с нею: ведь вспоминать можно только то, что уже случилось, безвозвратно произошло. Писание мемуаров есть завершение пожизненно совершаемого сочинительского труда, после мемуаров начать роман или даже рассказ было бы нечестно – такое действие стало бы обманом аудитории. Только, значит, вы дочитали полную и завершенную жизнь, удовлетворились тем, что про автора теперь известно все и окончательно, как он вылез с непредусмотренным продолжением. Такая жизнь после жизни вызывает законное раздражение. Том воспоминаний должен завершать полное собрание сочинений, именно полное – все предшествовавшие были просто собраниями. После любого из них можно начинать хоть новеллу, хоть сагу, хоть эпопею, можно и даже нужно, чтобы следующий трех- или пятитомник был по-честному дополнен новинкой… А после мемуаров в сущности возможен единственный жанр, но в нем, как правило, выступают уже коллеги и друзья героя.
Это – с точки зрения сочинителя. С точки зрения персонажей дело обстоит еще сомнительней. Доживший до соответствующего возраста мемуарист, особенно если по роду своих занятий он встречался на протяжении биографии и карьеры с известными людьми, не может избежать в своих воспоминаниях нелицеприятных описаний, даже разоблачений, раскрытия секретов, прямых оценок и резких суждений. Собственно, ради всего этого мемуары читаются, да и пишутся тоже, если говорить откровенно. В пример можно привести десятки сочинений, в том числе очень талантливых и успешных. Хорошо еще, если пишущий награжден – или наказан – долгожитием, так что все персонажи его воспоминаний померли раньше публикации, а если кто-то уцелел? Как повернется рука судить стариков, писать о них то, что, ради сохранения мирных отношений, и говорить не решался, даже когда все были молоды и многое могли вынести и еще было время помириться потом… Не говорю уж о том, что быстро, от страницы к странице слабеющая память подводит, путаются последовательности, возникают из тумана никогда не произносившиеся слова, старые анекдоты представляются былями – словом, мемуарист «врет, как очевидец» по французской, кажется, поговорке.
И я не хотел и не хочу писать воспоминания.
Но писать-то надо.
«Старик, тебе надо воспоминания писать, ты столько видел и стольких знал…» А чего уж такого я видел? Не о чем мне писать. Ну, здоровался, целовался, как водилось тогда, при встречах… И что на этом основании я напишу?
Да и не хочется, как сказано, подводить черту, ну, не хочется пока, извините…
И вот я придумал! А если точнее, если не врать с первых строк, то не я придумал, а неизменный и незаменимый мой редактор – не скажешь же про нее «редакторша», с ее шестым чувством, с никогда не подводящим ее чутьем книжной удачи. Напиши воспоминания о вещах, сказала она, кому ж, как не тебе, ты же каждую пуговицу из тысяч застегнутых и расстегнутых за всю твою жизнь помнишь, у тебя ж и репутация собирателя деталей, напиши мемуары о предметах, среди которых жил и живешь! И это не будут итоги, потому что вещи бесконечны. И это не будет обидно для описываемых, потому что вещи не обижаются. И ты ничего не соврешь, потому что вещи ты помнишь так, как никто их не помнит.
Вот я и пишу, Лена. Спасибо за идею.
«Старье берем!» – кричал человек с одноколесной тачкой, сколоченной из досок, в которой лежали мешки бурой дерюги: в один он складывал бумагу, в другой – битый фаянс, в третий – сломанную бронзу… Считалось почему-то, что все старьевщики – татары и потому очень хитрые. Мы, ребятня, таскали им все, что плохо лежало дома (смотри советскую литературную классику), а они расплачивались с нами картонными трубочками калейдоскопов, внутри которых переливался цветной узор, и мячиками, привязанными к тонкой резинке и прыгающими под ладонью.
Старье беру. Я попытался собрать в этой книге все, что плохо лежало во времени, что старьевщики давно увезли на свалку, одарив нас калейдоскопами и мячиками на резинках. Да и те понемногу пропали.
Старье беру – беру, иначе всё пропадет бесследно.
Это не мемуары – это просто опись того, что хранится на складах памяти.
И того, что хранилось, но пропало.
В этой описи будет много повторов.
В жизни тоже повторов не избежать.
Моя собственная камера хранения.
Заброшенная кладовая, полная бесполезных предметов.
Если же здесь когда-нибудь случайно появятся люди, каждому будет присвоена всего одна буква – даже не инициалы.
И никаких обид. Какие могут быть обиды на блошином рынке?
Это книга о мещанах и для мещан.
Слышали? О мещанах и для мещан.
Я настаиваю.
Добро пожаловать на мою персональную барахолку, снисходительный читатель.
Мой блошиный рынок,
marché aux puces,
flohmarkt,
flea market…
Возможно, вы найдете здесь нечто и вам интересное.
Часть первая
В закоулках Большого Стиля
Россия – родина слонов
В каждом приличном доме они стояли на комоде.
Из непрочного гипса – самые дешевые, из грубого, со сколами, белого мрамора – посолидней, из цветного фарфора – побогаче…
Семь слонов мал мала меньше, выстроившиеся по росту, смиренно глядевшие под ноги или задравшие хоботы в беззвучном реве. Семь – потому что на счастье, а почему слонов… Кто ж его знает. Советская национальная гордость проявлялась в присвоении всего значительного. Радио изобрел Попов, а про Маркони даже не слышали, главным путешественником был Папанин, а про Амундсена не упоминалось, лампочка была и вовсе Ильича, а Эдисон оставался неведом… Но советская национальная ирония уравновешивала все, и в ответ на пафос возникла эта шутка: «Россия – родина слонов». Вообще, ирония смягчала ту жизнь и в некоторой степени делала ее выносимой. Ирония пробивалась сквозь зону, несмотря на то что анекдот был распространенной причиной червонца на общих работах с последующим поражением в правах.
Впрочем, слоны на комоде или подзеркальнике сохранились еще от дореволюционных обычаев. Их строй на салфеточке из вязанных крючком кружев был неподвижен и неподвластен времени. Фарфоровые слоники обещали одно и то же счастье тихой мещаночке еще до германской войны и столь же тихой домохозяйке после Отечественной. Собственно, они и были одной из основных примет мещанства, официально идеологически осуждаемого, но в повседневной жизни всеобщего. Не мещанам могла хотя бы во сне привидеться свобода; мещанам же было хорошо со слониками, и на этих слонах стояла власть.
В нашем доме не было слоников. Вероятно, семья советского офицера их растеряла в постоянных переездах, или, возможно, они разбились, несмотря на укутывание в куски газеты «Красная звезда», когда у большого фибрового чемодана с посудой оборвалась ручка – точнее, ручка брезентовых ремней, которыми чемодан был перетянут, поскольку родная ручка оборвалась еще раньше. Чемодан оказался сплошь заполнен осколками…
Словом, слоников не было.
И опять неточность: один слоник выжил. Самый маленький, невероятно милый слоник из серого, реалистически окрашенного фарфора, с желтоватыми маленькими бивнями и даже с микроскопическими черными глазками. Один, самый маленький и очень удачливый, – уцелел…
Мы жили тогда в селе Капустин Яр, поблизости от которого строился первый советский ракетный полигон. Мы – это отец, капитан Советской Армии, мать, вполне официально имевшая статус «жена офицера», и ее мать, с большими усилиями выписанная моя бабушка, без которой наша семья была немыслима и которую отцу разрешили привезти в режимный район в порядке исключения. Ну, и я, четырех лет от роду, кудрявый и, по общему мнению, похожий на Ленина – тьфу, господи помилуй! – с известного его детского портрета.
Весною вся степь зацветала дикими разноцветными тюльпанами – что тебе нынешние голландские. Еще там росли серо-зеленая полынь и какая-то общеботаническая густая трава без названия. Мы с бабушкой – отец не приезжал с пусковой площадки неделями, мать оставалась воевать с неподвластной горожанке русской печкой, – мы с бабушкой после завтрака отправлялись гулять в эту живописную степь. Там мы играли в изобретенную нами странную игру «в слона».
Я, кудрявый и слегка кривоногий от последствий рахита, или бабушка, микроскопическая старушка с голубоватой сединой и горделивым крючковатым носом, – кто-то из нас изо всех сил бросал слона в траву как можно дальше, а потом оба искали статуэтку, и нашедший становился бросающим… Трудно было придумать игру более глупую, удивляюсь бабушке. Еще удивительней было то, что всякий раз среди густейшей травы слоник находился, его черные глазки как бы торчали из зеленых зарослей. Когда играть таким образом надоедало, мы отправлялись в деревню, домой, я нес быстро согревающегося от ладони слоника в кулаке. Мы шли и пели «На крылечке твоем каждый вечер вдвоем…», чрезвычайно популярную в том сезоне песню…
Но однажды слоник не нашелся.
Его черные глазки не торчали из травы.
Сначала искал я, потом мы искали вдвоем.
Мы заглянули под каждый тюльпанный стебель, под каждый полынный куст.
Слоника не было нигде.
Мы исчерпали все свои возможности, но без результата.
И при этом мы даже не очень расстроились. Слоник был обречен, поскольку отбился от стада, и то, что он существовал так долго в одиночку, заслуживало удивления. Он был обречен, его потеря – неизбежна.
Мы шли домой сначала молча, но понемногу песня потеснила огорчение – тем более, как сказано, потеря предчувствовалась. И мы, как всегда, запели про крылечко. «Если надо пройти все дороги-пути…» – пели мы.
Игра в степи сошла на нет естественным образом. Нет слона – нет и игры. Теперь мы просто собирали тюльпанные букеты, складывали цвет к цвету. Мать была очень довольна, наши прогулки наполнились понятным ей смыслом.
Но весна кончилась быстро. Тюльпаны надоели, да и отцвели, заниматься в степи стало вовсе нечем. Немецкий плоский и длинный штык со сгнившей деревянной рукояткой, неожиданно вылезший из земли, утешил меня ненадолго. Бабушка самоотверженно принесла его домой и было спрятала, почистив, среди кухонных ножей, но мать нажаловалась отцу, и он молча кинул оружие в выгребную яму косого дощатого сортира…
И я заскучал по слонику.
И тогда мы нашли его, хотя давно уже не искали.
Он стоял на высохшей степной земле, уйдя до брюха в июньскую пыль. Его черные глазки смотрели на нас весело. Я кинулся к нему с визгом, бабушка – молча. Она обтерла его своим носовым платком с обметанной цветными нитками каемкой, и мы торжественно понесли его домой. Мы пели нашу любимую песню про крылечко.
А дома мать встретила нас не то довольная, не то огорченная. На кровати были разложены ее летние платья, дошла очередь распаковывать до сих пор не требовавшиеся креп-жоржеты. Среди легких материй лежали мятые газетные обрывки.
«Слоны-то, оказывается, в другом чемодане были, – сказала она, – и не разбились. Я их хорошо завернула. Жаль, что маленький пропал…»
И вот они выстроились на комоде.
На вязаной салфетке.
Все семь.
Нельзя сказать, что семья наша потом была очень счастливой.
Но вполне благополучной. Отец, например, сильно болел, но почти вылечился и дожил до относительной старости.
Потом они, слоны, конечно, разбились. Или просто куда-то подевались.
А у меня, на комоде из «Икеи», стоят семеро других, из белого алебастра. Кто-то, знающий мои вкусы, подарил мне эту неведомо откуда взявшуюся красоту.
Вообще-то в России слоны – на каждом шагу.
Малые народы Севера
Было во времена нерушимой братской дружбы такое понятие. Оно объединяло чукчей, эвенков и прочих меньших братьев, обитавших в зоне вечной мерзлоты. На заботу великого русского народа, подарившего им грамоту, спирт и снабжавшего боеприпасами к охотничьим винтовкам, они отвечали пушниной и рыбьей костью. Из кости они резали фигурки – большей частью собачьи упряжки, несущиеся по изображающим тундру бивням. Несметное количество такой мелкой пластики наполняло Музей подарков Сталину – была такая постоянная экспозиция в рамках Музея революции. А музей этот располагался в здании бывшего Английского клуба на бывшей Тверской. А ныне это Музей современной истории на бывшей улице Горького…
Кроме костяной резьбы чукчи – общее бытовое название – вошли в советскую культуру книгой писателя Тихона Семушкина «Алитет уходит в горы» об установлении и укреплении советского образа жизни среди чукчей же. Впоследствии неведомого Семушкина потеснил чукотский франт и ленинградский плейбой Юрий Рытхэу. Это были уже много более поздние советские времена, Рытхэу писал про нечто похожее на настоящую чукотскую жизнь и в качестве представителя современного чукотского народа постоянно посещал этнических братьев – живущих на Аляске алеутов или эскимосов. В сущности, американские братья не отличались образом жизни от советских – та же мерзлота и морская охота. Разве что спирт ходил по Аляске не так сокрушительно, да переселяли белые американцы алеутов в яранги из нейлона, а не в бараки, как белые советские переселяли чукчей – ставивших внутри этих бараков яранги обычные, из шкур…
Увлекся, однако.
Перейдем к предмету этого рассказа – к истории моей самой первой игрушки. Заложившая, полагаю, основы женственного, как у многих сочинителей и прочих художественных натур, характера, игрушка эта была куклой.
Недолгое время, предшествовавшее переквалификации в ракетчики и поселению с семьей на уже упомянутом полигоне Капустин Яр («Москва- 400» в секретном обозначении), мой отец служил по военно-железнодорожной части в белорусском городе Орша. Там мы получили комнату в офицерском бараке, стоявшем среди других военно-железнодорожных бараков, один из которых частично занимал магазин с простым и понятным названием «Военторг». В нем продавались:
волнистый трехцветный мармелад, обсыпанный липкими крупинками сахара;
бязь в рулоне, от которого отматывали три метра, если какая-нибудь жена офицера решала снабдить мужа дополнительной парой портянок;
зеленые и лиловые тонкие граненые вазы, похожие формой на берцовые кости, какими их изображали под черепом над предупреждением «Не влезай – убьет!»;
и множество других необходимых в жизни вещей.
Включая детские игрушки вообще и кукол в частности.
Портянки и вазы оставим на потом – без них эта книга не сможет существовать, но сейчас не о них речь.
Итак, игрушки.
Мне еще не было трех лет, но кое-что из тех времен я помню в подробностях. Впоследствии эта память на всякую мелочь только развивалась, результатом чего стали моя литературная манера и кличка Певец пуговиц, справедливо данная мне одним критиком.
Я отлично помню, как мы пришли в магазин «Военторг» и отец спросил у меня, какую игрушку я хочу. Мое воображение вначале поразил размерами грузовик из досок – колеса тоже были деревянными, – окрашенный в ярко-зеленый цвет. В этот грузовик я вполне помещался. Вероятно, именно поэтому я отверг его – меня всегда пугало величие. И, почти не задумавшись после того, как рассеялось потрясение грузовиком, я ткнул в малоприметную куклу, сидевшую, свесив ноги, на верхней магазинной полке. Отец внимательно посмотрел на меня (возможно, провидя в этот момент мою судьбу), пожал плечами, отчего погоны поднялись золотыми крылышками, и купил куклу.
Кукла была сделана из серой байки, набитой, как впоследствии оказалось, мелкими опилками. Байка изображала комбинезон, который был снабжен капюшоном, обшитым полоской ваты, обозначающей как бы меховую оторочку. К рукавам были приделаны ладони с растопыренными толстыми пальцами из розового ситца. Все это вместе называлось «Кукла эскимос», что отец и прочел на торчавшем из бокового шва тряпочном ценнике с размазанными чернильными буквами.
Я твердо заявил, что ничего не хочу, даже дощатый грузовик, – только эту куклу с кремовым целлулоидным круглым лицом, на котором были довольно натурально нарисованы коричневые узкие и сильно раскосые – не было, слава богу, политкорректности и в помине – глаза. «Хочу куклу!» – с мужской твердостью высказал я девчачье желание. Я почти не плакал в детстве (зато теперь могу уронить слезу под самый дурацкий сериал), и отец, думаю, это ценил. Так что эскимос был куплен беспрекословно…
Отвлекусь на целлулоидное лицо.
В те давние бедные времена в игрушечных магазинах водились две основные породы кукол. Одни были сделаны целиком из пластмассы, потому корпус имели твердый и сплошной – только руки-ноги, соединенные внутри корпуса резинками, крутились. Изредка можно было налететь на быструю продажу таких кукол, у которых в положении «лежа на спине» с помощью специального механизма-противовеса, скрытого внутри головы, закрывались, закатывались глаза. В таком положении это случается и с живыми девушками, чего, конечно, мальчишки еще не знали и к таким куклам с «закрывательными», как говорилось в быту, глазами испытывали интерес исключительно как к техническому устройству… Но все это было для богатых детей, счастливо заполучивших родителей с большими возможностями.
А прочие играли куклами тряпочными, тело которых и все его части представляли собой фигурные мешочки, набитые опилками или – расточительно – гречкой. К этим мешочкам пришивались сверху (а шов скрывался какой-нибудь дополнительной деталью) бюсты, именно бюсты, напоминавшие торжественные изображения вождей и классиков, стоявшие тогда везде – в комнатах ожидания маленького вокзала, в фойе Дома офицеров, на площади по соседству с главной городской лужей… В целлулоидном кукольном бюсте для пришивания к тряпочному туловищу имелись специальные мелкие и частые дырочки, так что при желании розовое лицо спортсмена, например, можно было отпороть от туго набитого, но износившегося тела и пришить к самостоятельно скроенному корпусу… ну, моряка, допустим. Это точная метафора выбора, перед которым многие оказываются в жизни…
Но сейчас речь не об этом. А о том, как кукла участвовала в трагической ситуации.
Вечером к нам пришли гости – человека три офицеров с женами. Народ это был молодой, детьми обзавестись еще не успевший, так что я пользовался вниманием монопольно. Чувствуя это выигрышное положение, я приставал ко всем, желая познакомить каждого с моим эскимосом…
Между тем, ненадолго отвлекаясь на разговоры с ребенком, компания обсуждала – это уж мне мать рассказала лет двадцать спустя – событие, заставившее тихо бурлить военную общественность Орши. А именно: накануне под утро наряд особого отдела арестовал начальника управления снабжения гарнизона и, по вообще-то не принятому в армии совместительству, начальника магазина «Военторг» майора интендантской службы Табачника. Был этот Табачник безусловным прохиндеем, но человеком добрым и услужливым, что наиболее умным прохиндеям свойственно, войну прошел полковым интендантом и не был расстрелян, а после войны осел в Орше и вскоре добился, что офицеры на него просто молились. Семейным, например, он помогал достать техническую новинку – дефицитный керогаз вместо устаревшего маломощного примуса, а холостым просто ссужал тысчонку-другую до очередной выплаты денежного содержания…
И вот его забрали особисты, причем не местные, а вроде бы из округа. Плохи дела у майора… Замолчав, офицеры глотнули спирта, заели жирной и хорошо ложащейся на спирт печенью трески.
– Ну, Саня, – продышавшись, возобновил общение со мною один из лейтенантов, – а ты знаешь, где эскимосы живут-то?
Я в этом возрасте говорил уже абсолютно чисто, но внутри слов путался. Например, при диком грохоте, оповещающем о приближении трофейного BMW с коляской (на коляске сохранилась пулеметная турель), на котором передвигался старшина железнодорожной роты Холопко, я уверенно произносил: «Мацатыкал»… Названием собственного изобретения, но созвучным настоящему, наделил я и новообретенную куклу:
– Ёськи-моськи, – уверенно сообщил я, – живут в «Военторге».
За столом немедленно установилось молчание.
Негромко нарушил его старший лейтенант Соболевский.
– Жили, – сказал он, – жили ёськи-моськи в «Военторге»…
И вскоре все разошлись.
Офицеры хорошо относились к майору Табачнику Иосифу Моисеевичу.
Был слух, что его всего лишь разжаловали в младшие лейтенанты и отправили для продолжения службы куда-то на Север.
Подъем переворотом
Заводные игрушки делались из раскрашенной жести. Две половинки, два отштампованных профиля, соединялись загибающимися лапками, внутрь помещался пружинный моторчик, ключ для завода которого, конечно, быстро терялся. Но пока он оставался зажатым в потном кулаке, игрушка двигалась. Ехал пригнувшийся к рулю мотоциклист, профили которого были прорисованы во всех подробностях, а фаса, по технологии изготовления, не было вовсе… Полз танк, из орудия которого вылетало как бы пламя выстрела – на самом деле внутри бронетехники было нечто вроде зажигалки с чиркающим при движении кремнем, от которого летели искры… Катилась – на настоящих резиновых шинах! – красная пожарная машина с лестницей из блестящих алюминиевых уголков; выдвигалась лестница, как настоящая, при вращении барабана, на который накручивался трос, то есть тонкий витой шнурок…
Из всей этой техники мне больше всего нравилось – видимо, как будущему неисправимому гуманитарию – устройство антропоморфное: жестяной гимнаст на проволочном турнике. Атлет был сделан из двух половинок по тому же принципу, что все заводные игрушки, но моторчик вращал его совершенно необъяснимым и не имевшим аналогов в игрушечных устройствах образом. Жестяные руки поворачивались вокруг тонкой перекладины, а тело на шарнирах как бы отставало, в результате чего спортсмен совершенно так же, как настоящий, на некоторое время застывал над турником, а потом рушился вперед, вытягивался и повисал в нижней точке…
Кто-то из отцовых сослуживцев заинтересовался железным гимнастом и долго рассматривал его движения с кривой усмешкой неловкости, какая обычно появляется на лице взрослого, занятого детским делом. Потом он произнес с уверенностью: «Подъем переворотом». Впоследствии у меня возникли сомнения в точности, но тогда я был уверен, что упражнение называется именно так.
Прошли, как водится, годы.
Я стоял в казарме «учебки», дивизионной школы сержантов.
Надо мной, в недосягаемой высоте, перечеркивала жизнь и грозила внеочередными нарядами пятисантиметровая стальная труба турника. Подтянуться на ней, подталкиваемый боевыми товарищами, я кое-как мог – раз семь при нормативе одиннадцать. Но закинуть ноги, качнуться и воздвигнуться над трубой вертикально – никак. Я топтался внизу и с каждой минутой терял надежду…
Вдруг «салаги», почти все предчувствовавшие свою муку – тогда как раз призывали «академиков», только что защитивших дипломы вузов, в которых отменили военные кафедры, – вдруг эти слабосильные воины расступились.
И к турнику вышел капитан Б., начальник «учебки».
На нем была шерстяная полевая форма, туго перетянутая портупеей (а нам разрешалось на физподготовку выходить без ремней). Воротник его гимнастерки был наглухо застегнут (а нам разрешалось на физподготовке пыхтеть, расстегнувши «хэбэ» хоть до пупа).
Капитан Б. подпрыгнул – точнее, без всякого видимого усилия взлетел над полом и зафиксировался, обхватив трубу одной правой рукой. На ней он подтянулся двадцать раз. Потом он перехватил трубу левой и сделал еще двадцать подтягиваний. Сияющие его сапоги при этом не болтались и не дрыгали, как дрыгали сапоги даже наших чемпионов, а были твердо соединены, как по приказу «смирно».
После подтягиваний, без паузы, капитан Б. качнулся два раза, крутнулся и поднялся над перекладиной турника на прямых руках. При этом он едва не коснулся потолка казармы аккуратной стрижкой, причесанной волосок к волоску.
– Подъем переворотом, – сказал капитан сверху. – Курсант Кабаков, повторить.
Возможно, я вспомнил железного гимнаста. Но, может быть, сработала моя собственная пружина.
Как бы то ни было, кряхтя и извиваясь, с пятого раза я повторил.
Капитан Б., дай ему Бог прежнего здоровья, если жив, дождался моего триумфа и, только увидев его, ушел.
В конце концов, и он не был профессиональным гимнастом – просто крепкий мужик, прошедший все, что было положено пройти в советской армии.
А я и вообще был очкариком, «ботаником», как тогда еще не говорили.
Но, в сущности, каждый из нас, когда припрет, становится железным.
Пружина
Бытовая техника воспроизведения – а позже и записи – звука была и остается основной сферой, в которой на моей памяти обычный человек теснее всего взаимодействовал и взаимодействует с современными достижениями научной и инженерной мысли. От патефона и виниловых пластинок до ушных затычек, без которых сегодня нельзя представить пассажира метро и просто живого человека, – мы проделали огромный путь к круглосуточному потреблению более или менее музыкальных звуков. Это, по-моему, шаг за шагом превращает человека разумного в человека звукозависимого. Культурная публика музицировала пару раз в неделю с помощью домашнего фортепиано и, в недавние времена, одомашненной гитары – теперь все население наполнено так называемой музыкой круглосуточно и воспринимает ее не через уютно надышанный воздух гостиной, а непосредственно через барабанные перепонки…
Итак, патефон. Кое-кто, конечно, помнит, но в общих чертах. Между тем это был важнейший предмет, вокруг которого шла частная жизнь, возникали и развивались чувства прекрасного и вообще чувства, совершенствовались художественные переживания и зрели переживания сугубо лирические.
Я помню не слишком часто встречавшиеся трофейные и существовавшие в каждой приличной семье отечественные. Как ни странно, между изделием вспомогательного цеха советского военного завода, со звездами, серпами и молотами, и продуктом фирмы His master's voice, на эмблеме которой собачка заслушивалась голосом хозяина, идущим из тюльпанообразной трубы, большой разницы не было. Этим подтверждается мое наблюдение: социализм способен производить полноценные вещи, но только тогда, когда в отделе технического контроля сидит товарищ Страх. До поры до времени советская техника не уступала капиталистической. У нас были даже вполне приличные автомобили! Нельзя не согласиться, что Сталин был эффективным менеджером. Но единственным способом советского эффективного менеджмента была угроза убийством…
Однако вернемся к патефону.
Это был квадратный ящик, обтянутый липким дерматином. Многие вставляют «н» перед «т», производя слово от известной субстанции, а не от «дермы», то есть «кожи», – это объяснимая ошибка. Из ящика выдвигалась пружинящая ручка для переноски. Закрывался ящик на никелированную застежку портфельного типа, а в открытом состоянии крышка удерживалась складным упором. В крышке размещалась выдвижная труба-резонатор, из которой, собственно, исходил звук. На противоположном резонатору конце трубы имелся так называемый звукосниматель – тонкая мембрана, к которой жестко крепилась короткая стальная иголка…
Тут я отвлекусь. Патефонные иголки были дефицитом – тогда еще не существовало в широком хождении этого социалистического слова, иголки просто «доставали», то есть во время отпуска закупали в доступных количествах на толкучках, вещевых рынках прибалтийских или черноморских курортных городков. Продавали иголки инвалиды… А хранились они в самой привлекательной для меня части патефона – выдвижном ящичке, расположенном с угла патефонного корпуса. Ящичек этот выдвигался с поворотом, и обнаруживались стальные синеватые толстенькие короткие иглы. По мере износа от трения о бороздки пластинок – про пластинки позже – иглы в звукоснимателе заменялись. Производить эту операцию мне не разрешалось, ее выполняли отцовские друзья, инженеры вышеупомянутого первого советского ракетного полигона…
Кроме ящичка с иголками в корпусе патефона располагался пружинный моторчик, который надо было заводить вращением специальной съемной рукоятки, напоминающей уменьшенную ручку, которой тогда заводили постоянно глохнувшие грузовые – иногда и легковые – автомобили. Шоферы дали этой рукоятке остроумную, как все народные прозвища, кличку «кривой стартер»… Заведенный пружинный моторчик вращал тяжелый – для сбалансированности – диск, на который клали пластинку, хранительницу музыки.
Вот интересная вещь: вплоть до шестидесятых годов прошлого века большая часть предназначенной для обычных людей техники получала энергию от завода сжатых пружин. Об игрушках я уже сказал, а вот, пожалуйста, патефон, а еще была заводная бритва, не то «Юность», не то «Дружба», а еще в парикмахерской жужжали машинки для стрижки, в недрах которых тоже были пружины, а еще был фонарик-«жужжалка», который действовал от маленькой динамо-машины, крутили которую на равных сжимающаяся рука владельца и возвратная пружина, а еще… Пружина исполняла роль, которую спустя пару десятилетий безвозвратно перехватили батарейки. Батарейки, требующие замены, наиболее ярко воплощающие идею одноразовости, в то время как пружина олицетворяла возобновляемость, многократность использования. Батарейки подчиняются времени, пружина побеждала время…
Но я сломал пружину.
У нас были гости. Тогда часто ходили в гости, да и куда было пойти офицеру с женой в глухом приволжском селе, рядом с которым ударными тогдашними темпами строился, но еще не был построен военный городок? Даже танцы в Доме офицеров еще не начались ввиду недостроенности этого самого Дома. Да и не было принято ходить на танцы женатым и замужним – это развлечение позволяли себе холостые лейтенанты и командированные из ракетных «почтовых ящиков» молодые инженеры. И потому женатые, но еще бездетные капитаны и даже майоры едва ли не каждую субботу вечером, после окончания рабочей недели на пусковых площадках, приходили в наш сугубо семейный дом с молодыми, приобретенными в последних отпусках женами. Многие проводили отпуска в больших городах перед подъездами педагогических и медицинских институтов; и метод срабатывал, находилась готовая к взаимности выпускница…
Мать и бабушка с утра готовили: холодец из свиных ног с неприятно трогательными копытцами; винегрет в небольшом тазу; чистили селедку-залом, полученную в последнем пайке, и варили розоватую картошку; затевали пирог большим пухлым бубликом в печи-форме под названием «Чудо»; делали «шоколадную колбасу» из порошка какао, сахара и мелко ломанного печенья. К чаю кто-нибудь приносил коробку шоколадных конфет-ассорти с оленем, а кто-нибудь – просто «Мишку на севере» россыпью, в кульке из толстой серой бумаги. Открывали бутылки вина – кисловатого «Ркацители» и почти приторного «Шато Икем», шли в дело и ликер «Кофейный», и ядовито-зеленый «Шартрез». Мужчины под любую еду разливали «белую головку» – запечатанную белым сургучом водку по 21 рубль 20 копеек бутылка; дешевой «красной головкой» по 19 рублей 20 копеек товарищи офицеры пренебрегали, а о спирте и речи не могло быть – им ракетчики поддерживали силы в течение пусковой недели на площадках.
Выпивали крепко, потом кто-нибудь один оставался за столом доедать холодец, остальные шли танцевать.
Пластинки Апрелевского завода, эмблема которого, испускающий во все стороны лучи маяк, имелась на каждой пластинке, на красном или голубом круге в центре музыкального носителя, менял на патефоне я, это была неоспариваемая привилегия. Пластинки были толстые, из черного материала, который, как я узнал позже, назывался «шеллак», о виниле еще не было и речи. Репертуар был небольшой. Любимый как аккомпанемент для танцев «Фокстрот. Исп. Л. Утесов» – популярный «Барон фон дер Шпик». «…попал на русский штык, остался от барона только пшик!» Это все еще было совсем недавно, три неполных года назад, и эти капитаны еще успели встретиться с баронами, которые на деле были не таким уж пшиком, а теперь стали просто аккомпанементом для домашних танцев. И томное танго без названий, просто «Танго. Исп. инструментальный ансамбль». И еще одно танго, тоже без названия, но все знали, что оно называется «Брызги шампанского», и кто-то даже подпевал инструментальному ансамблю «…новый год, порядки новые, колючей проволокой наш лагерь окружен…», но тут же обрывал пение. И бешеная «Рио-рита. Исп. оркестр Госрадиокомитета». И невесть как оказавшийся среди обычной продукции Апрелевского завода в мятых бумажных конвертах Вадим Козин безо всякого конверта и даже без цветного круга с названиями в центре, с его непостижимо прямыми словами «…давай пожмем друг другу руки – и в дальний путь, на долгие года!». Я не мог тогда, конечно, понять, о чем тут речь, но и меня преступной страстью пробирало до мурашек.
И вот я менял пластинки, а взрослые танцевали. Бальные наряды офицерской компании были прихотливы. На женщинах сверкали крупными цветами платья из крепдешина и креп-жоржета, с юбками модного фасона полудлинное солнце-клеш (много лет спустя я узнал, что это был диоровский New look), собственноручно сшитые – по картинке из московского «Журнала мод» с выкройками – на ручных наследственных швейных машинках Zinger или недавно появившихся подольских. На дамских ногах были босоножки из лакированных ремешков на танкетках из пробки. За такими босоножками ездили из сочинского военного санатория к сухумскому подпольному сапожнику… Кавалеры, измученные жарой и шерстяными кителями со стоячим воротником, выступали в синих брюках-галифе с высоким корсажем из выстроченного сатина и в казенных нижних рубахах фасона «гейша» с подвернутыми рукавами. При этом танцевали они босиком, поскольку пыльные сапоги оставили в сенях, а под сапогами носили портянки, в которых не потанцуешь – вот и снова портянки, в третий раз опишу подробно… По ходу танцев обязательно кто-нибудь наступал на волочившиеся по полу тесемки, которыми снизу были оснащены галифе.
Между тем завод патефона кончался, вращение диска замедлилось, музыка стала похрипывать, и танцы прервались на время, за которое я должен был накрутить пружину. Общество вернулось к столу, и тут я заметил то, что как-то упустил из виду прежде.
Отца не было среди выпивающих и закусывающих, да и среди танцевавших его давно не было. Можно было бы предположить, что он курит на крыльце, хотя все уже давно курили в комнате, низенькие оконные рамы избы, которую мы снимали у местных, были выставлены на время жары… Тем не менее отцу негде было быть, кроме как на крыльце.
А мать стояла посреди комнаты, и с нею стоял один из отцовских приятелей, самый молодой среди этих капитанов, москвич, выпускник артиллерийской академии, с прекрасной выправкой – в отличие от остальных в компании, окончивших до войны в разных городах гражданские технические вузы. Мать была одета по последней журнальной моде – в крепдешиновый комбинезон с чрезвычайно широкими штанинами. Голубой крепдешин был в крупную чайную розу.
Они стояли, как бы пережидая паузу, готовые продолжать танец и потому слегка обнявшиеся.
А отец, наверное, курил на крыльце.
А я накручивал пружину патефона.
И я крутил ее, пока не раздался оглушительный звон и по корпусу патефона не прошла дрожь.
И тогда я торжественно и злорадно объявил: «Пружина лопнула!»
И танцы кончились.
Москвич и мать разошлись, сели в разных концах стола.
Отец вернулся, накурившись.
Все выпивали и закусывали, мне наливали компот, а я налегал на шоколадную колбасу.
Ближе к вечеру все спокойно разошлись.
Больше мне тот день ничем не запомнился.
Не помню я и дальнейшую судьбу нашего патефона. Кажется, его не удалось починить. Впредь кто-нибудь из гостей приносил свой, и мне не доверяли эту технику. А потом у нас появился электропроигрыватель «Концертный», который мог проигрывать долгоиграющие пластинки на 33 оборота. А потом мне, помешавшемуся на джазе, купили рижского изготовления магнитофон «Спалис». А потом – «Яузу», в которой проигрыватель и магнитофон были совмещены. А потом уже всё покупал я сам.
Двухкассетник Sony с автоматическим проигрывателем CD давно заброшен, джаз я слушаю в ушных затычках, соединенных с плеером-флэшкой.
Да и слушаю мало.
…Москвича перевели, кажется, в Камышин, преподавать в открывшемся там училище, готовившем кадры для ракетной артиллерии.
Отец все то лето курил на крыльце, а потом мы переехали в один из первых многоквартирных домов городка, и я уже не помню, где он курил – вероятно, на лестнице, с соседом, майором, начальником полигонного метеоцентра. А вскоре отец и сам получил майора.
Черт его знает, может, мне все это показалось – мать посреди большой комнаты с низкими деревенскими потолками и все остальное… Вообще-то, когда приходили гости, мать всегда танцевала только с отцом, но чаще не танцевала вообще.
А патефонную пружину я перекрутил специально, это точно.
Румыния ни при чем
Гневные интернетовские жители, реагируя в социальных сетях на мои сочинения, последними словами поносят пристрастие к описанию материального мира вообще и одежды в частности. Вершиной сетевой литературно-критической мысли о романах и повестях Александра Кабакова стало не помню кем именно данное и уже приводившееся выше прозвище Певец пуговиц – действительно остроумное. Другие, не напрягая фантазию, честят литературным мещанином, уличая в том, что вещи я люблю больше людей. А чего их любить, этих людей, когда они мещанином обзываются?
Я твердо стою на том, что одежда героев и мелкие аксессуары никак не менее важны, чем их портреты, бытовые привычки и даже социальный статус. «Широкий боливар» и «недремлющий брегет» Онегина, «фрак наваринского дыму с пламенем» и ловко накрученный галстух Чичикова, халат Обломова, зонт и темные очки Беликова, пистолет «манлихер», украденный Павкой Корчагиным, «иорданские» брючки из аксеновского «Жаль, что вас не было с нами», лендлизовская кожаная куртка Шулепникова – вся эта барахолка, перечень, выражаясь современно, брендов и трендов есть литературная плоть названных героев. Не стану уж говорить о карьеристах Бальзака и титанах буржуазности, созданных Голсуорси, – без сюртуков и платьев для утренних визитов их вообще не существует. Полная первая страница одного из лучших мировых романов прошлого века, «Пути наверх» Джона Брэйна (нескладный советский перевод названия Room On The Top), посвящена подробнейшему описанию костюма героя, и костюмы всех персонажей описываются сразу же при их появлении. Не говорю уж о потрясающем романе Жоржа Перека, который так и называется – «Вещи».
Брезгливое презрение нашей литературной публики к «тряпкам» тем более необъяснимо, что оно проявляется в стране, в которой всего двадцать с небольшим лет назад дефицит всего ушел в прошлое. В которой многие годы до этого покупка женских сапог или джинсов была подвигом, совершенным во имя себя самого. В которой граждане проводили в очередях большую часть жизни. В которой, после спорной жеребьевки на приобретение дурного качества шуб, образованные советские женщины дрались в комнате профкома – сам видел… В стране, создавшей распределители для избранных, ассортимент в которых был победнее, чем в нынешних привокзальных ларьках, а ради пропуска в такой распределитель поступались совестью. Где в набор из малогабаритной квартиры, дачи на шести сотках и автомобиля «Жигули» входили еще дубленка, джинсы, кожаный пиджак и норковая ушанка – и обладание всем этим означало, что жизненная программа осуществлена.
А теперь дети тех, кому в свое время все досталось или не досталось, кривят губы от описания «барахла» и жизни тех, кто в свое время это барахло добывал большой ценой.
Пусть Господь простит мне сравнение: в стране недавнего государственного кровавого атеизма интеллигенция, сочувствовавшая гонимым священникам, теперь издевается над Церковью почище Емельяна Ярославского и немногим уступая Хрущеву.
Я пишу эту книгу, посвященную исключительно вещам, участвовавшим в моей биографии, пренебрегая будущим брюзжанием критиков, ходящих по литературным облакам. Наши вещи – это и есть мы. А тем, кто считает по-другому, предлагаю вернуться туда, где вещей не было.
…Наиболее массовой мужской одеждой в середине прошлого столетия, особенно популярной среди молодежи нашей страны, была «бобочка» (в некоторых городах ее называли «латышкой», а в Москве бобочкой вообще называли трикотажную тенниску, рубашку с короткими рукавами, но мы оставим бобочку). Так прозвали короткую куртку с прилегающим поясом, сшитую из двух частей – низа и фигурного верха-кокетки. Части изготавливались, как правило, из разных шерстяных тканей. Например, я до школьной формы ходил в бобочке, верх которой был серый в мелкую черную клетку, а низ – гладкий, темно-синий. Надевалась бобочка через голову, поскольку застегивалась на короткий, достигавший только середины груди замок-молнию. Под бобочку надевали сорочку, а в холодное время – еще и вязанную, естественно, домашними женщинами теплую безрукавку из шерстяных или гарусных – понятия до сих пор не имею, что это такое, – ниток.
Бобочка была символом повторного использования материалов. Ни в какой одежде так очевидно не отразилось почти полное отсутствие тканей в магазинах и, еще очевидней, бедность населения, большей части которого покупки нового материала в магазинах были недоступны. В моей бобочке низ был сшит из старых отцовских галифе, причем прорези, оставшиеся от карманов, были почти незаметно заштопаны – это называлось «заштукованы». Верх же был изготовлен – ценой невероятных ухищрений при кройке – из материного еще довоенного жакета, потому и присутствовал такой необычный для тогдашней мужской одежды элемент, как клетка. Застежку-молнию, как это бывало в большинстве случаев, выпороли из какого-то до дыр сношенного предмета, доставшегося из американской благотворительной посылки. Кроме большого, государственного ленд-лиза, по которому шли тушенка, пилотские (уже упомянутые) куртки, «Студебеккеры» и «Виллисы», был еще и народный ленд-лиз – вещевые посылки от рядовых американцев. Вещи в них приходили невиданные и высоко ценившиеся на советских барахолках военного времени. Но любая вещь снашивается, а молния с изумительным поводком, цепочкой из медных шариков, остается – и вшивается в бобочку.
О, бобочка, элегантность нищеты, посмертная жизнь одежды! Сравнить с нею можно только шикарный на первый взгляд мужской костюм из шерстяного трико «метро» или «ударник», в котором наметанный глаз сразу же обнаруживал вещь перелицованную, перевернутую изнанкой наружу: нагрудный карманчик пиджака был не на левой, как положено, а на правой стороне. Возникла даже чисто советская мода: два карманчика, старый справа и заново прорезанный слева…
Бобочки шили, естественно, дома. Всякая нормальная женщина того времени ходила в кружок кройки и шитья при районном Дворце культуры – в нашем случае при Доме офицеров. Там, год за годом, она совершенствовалась в мастерстве, продвигаясь от домашнего платья из «старушечьего» ситца в мелкую розу до зимнего пальто из габардина на стеганном ромбами ватине без воротника, который заменяли мягким чучелком рыжей или – жены старших офицеров – черно-бурой, серебристой лисы. Чучелко, называвшееся горжеткой, имело лапки с коготками и мордочку с совершенно живыми глазками-бусинами. Мужественные дамы кутали этими почти живыми лисами крепкие шеи, а меня от этой таксидермии подташнивало – вероятно, так уже тогда проявлялась моя, ставшая в зрелости почти патологической, любовь к животным.
Горжетка была обязательной, но не самой, как ни странно, престижной частью дамского туалета – жены советских офицеров называли себя дамами, а женщинами становились только тогда, кода шли со всех сторон городка на заседание женсовета в Доме офицеров. Это было величественное зрелище, достойное кисти какого-нибудь нового передвижника – «Приход гарнизонных дам на заседание женсовета»…
Итак, горжетка была обязательной, но не достаточной частью облика дамы.
Достаточными были ботинки-румынки.
Вот их краткое описание.
Кожаные женские ботинки выше щиколотки, со шнуровкой спереди, на среднем – 3–4 сантиметра – наборном каблуке, на кожаной многослойной подошве, на подкладке из стриженой цигейки, с меховой оторочкой по верхнему краю.
Вот подробности.
Единственному в городке и, надо признать, высочайшей квалификации сапожнику отчаянно надоедало шить одного фасона – максимумом фантазии были более или менее квадратные носы – хромовые офицерские сапоги. Поэтому он охотно брал в не совсем легальную работу казенный крой, сэкономленный главой семьи ради боевой подруги. Крой этот, то есть грубо вырезанные куски кожи, выдавался, помню, в мешке из желтой прочной бумаги… Обувных дел мастер начинал работу с того, что смывал ацетоном с кожаных заготовок казенную черную краску и красил выкройки в светло-коричневый или темно-красный…
Работа была большая и кропотливая.
Мех для подкладки использовался тот, из которого делались офицерские ушанки, – его стригли и тоже красили. Из него же делалась оторочка верхнего среза ботиночных голенищ.
Кожаная толстая, скрипучая желтая подошва прибивалась по краю двумя рядами мелких деревянных гвоздиков. Подошва прорезалась косо, крест-накрест неглубокими канавками – от скольжения.
Румынки получались изящные, прочные и удобные. Почему они так назывались – бог весть. Проигравшая войну Румыния беспощадно строила нищенский социализм, думаю, что ни у одной тамошней женщины не было таких ботинок. Даже у нас, победителей, они считались шиком.
…Мы всем семейством в ту зиму отправились в Москву: отца послали на очередную переподготовку, а мы воспользовались случаем съездить в столицу и повидать там всю материнскую родню.
Ехали в мягком вагоне – это была ступень роскоши, полагавшаяся старшему офицеру, от майора. А в так называемом международном вагоне – купе на двоих – ездили на казенный счет генералы в соседстве с платившими свои деньги профессорами, народными артистами и лауреатами Сталинских премий… Но отец доплатил разницу к своему капитанскому билету, и мы оказались в вишневом бархате и батистовых кремовых занавесках – он, мать, бабушка и я. Мать переоделась в длинный халат из китайской чесучи в бледных лилиях. Отец курил в коридоре, распахнув на груди китель, надетый поверх свежей нижней рубахи. Я остался в бобочке. А бабушка, кажется, сидела, так и не сняв вытертой шубки «под котик».
Между тем обнаружились обитатели соседнего купе.
Их, как можно было понять, было всего двое. Вероятно, они заплатили за все четыре места, не достав билеты в международный.
Мужчина стоял в коридоре и курил большую полированную трубку. Сладкий запах табака «Золотое руно» быстро заполнял вагон. На курильщике был длинный халат из тяжелого шелка в загогулинах, называвшихся «турецкий огурец». Полукруглые, шалевые атласные лацканы халата отливали лиловыми сумерками. Под халатом была видна полосатая – такие назывались «зефировыми» – рубашка с вишневым в голубой горох галстуком. Слегка спустив на кончик носа очки в круглой коричнево-желтой, «черепаховой» оправе и оперевшись задницей о поручень под вагонным окном, мужчина читал сложенную в несколько раз газету.
Осторожно протиснувшись между его халатом и дверью в их купе, я заглянул в эту не до конца задвинутую дверь.
Там, в пространстве, пропитанном незнакомым мне запахом – запах любимой матерью «Красной Москвы» я знал, – сидела, повернувшись лицом к окну, женщина в длинной одежде зеленого оттенка. Когда я поравнялся с приоткрытой дверью, женщина встала и шагнула в коридор. На мгновение меня прижало лицом к зеленому пеньюару – конечно, это был именно пеньюар, я нескоро узнал это слово.
– Извините, молодой человек, – сказала женщина, выбираясь из узкого пространства, и прошла в туалет. На ее ногах были кремовые бархатные туфли без каблука…
В эту минуту из нашего купе выглянула мать, и под ее взглядом я вернулся к своим.
– Не болтайся в коридоре, – раздраженно сказала мать, пнула румынки, стоявшие на ходу, так что они улетели под бабушкину полку, легла, укрывшись поверх одеяла своим пальто – горжетка висела на перекладине для полотенца, – и повернулась лицом к стенке.
В это время, неся облако табачного запаха, вошел из коридора отец.
– Сколько раз я просила, – сказала мать, глядя в стенку, – чтобы ты надевал под китель приличную сорочку? Ходишь в солдатском белье…
Отец промолчал.
В Москве, в один из первых дней, мать купила мне в «Детском мире» чехословацкого производства куртку из волосатой шерстяной ткани. Мне куртка тоже очень понравилась… Румынки мать не надевала больше – ходила в старых теткиных резиновых ботиках на суконной красной подкладке. В Москве на улицах румынок почти не было видно…
У нас была простая советская семья, не элита, выражаясь по-нынешнему. И жили мы там, где служил отец-офицер, – вдали от столиц.
Но мы с матерью успевали многое заметить, когда попадали в другую жизнь – в мягкий вагон, сочинский санаторий или ресторан на Рижском взморье…
Пижама, платье, наряд, туалет
Самыми уважаемыми в стране мужчинами после великой войны были, естест- венно, офицеры – к тому же и офицерские «оклады денежного содержания» внушали уважение, уступая только легендарным заработкам шахтеров. И при этом все деньги офицер мог тратить на семью – на красную икру к утренним бутербродам, наряды жены или музыкальную школу дочери, – ведь на себя ему тратиться почти не приходилось. Ел он в офицерской столовой за копейки. Пил водку по цене, доступной любому скромному трудящемуся, а в технических войсках рекой лился чистейший спирт. И носил бесплатную одежду – форму, комплект которой включал всё: от нижнего белья, летнего и зимнего, до сукна на парадную, особого голубовато-серого цвета шинель.
Так что единственным формально не предусмотренным был костюм для отдыха, но и его охватила казенная, хотя и неуставная забота: роль мундира для офицерского досуга в конце сороковых – начале пятидесятых прошлого века досталась шелковой полосатой пижаме.
Вообще идея особой одежды для сна была абсолютно чужда советскому офицеру: на третьем десятке рабоче-крестьянской власти, да еще после довоенных чисток и военных потерь офицерский корпус почти сплошь состоял из простонародья, от века спавшего в той же рубахе, в которой днем работал. К тому же приученным еще в школе младшего комсостава к подъему и одеванию по тревоге за 45 секунд товарищам офицерам ночная одежда представлялась просто вражеской диверсией. Но атласные пижамы, просторные куртки и широчайшие штаны бесперебойно поставлялись в военторги по всей стране. И дисциплинированный военно-хозяйственный народ, применив генеральско-солдатскую сметку, нашел использование ночному излишеству – пестрота наряда подсказала: пижама стала как бы «формой одежды для санаторно-курортных и медицинских учреждений Министерства обороны СССР». Я мог бы побиться об заклад, что где-нибудь в недрах Управления тыла МО соответствующий приказ лежит до сих пор – но не стану: армейский бардак растворял бесследно и более важные документы…
И вот весь длинный офицерский отпуск, круглые сутки, грубовато-мужественные советские «их превосходительства» красовались, словно изнеженные бездельники, в полосатых атласных парах. Прибыв по месту отдыха, они сдавали пыльные кители, залоснившиеся бриджи и порядочно побитые сапоги на хранение. Из того же окна санаторный хитрован-старшина выдавал стопкой идеально выстиранные и выглаженные пижамы и кожаные шлепанцы на «лосевой» (до сих пор не знаю, что это значит) подошве.
Как сейчас помню: пижамы в сочинском военном санатории, куда мы с отцом приезжали едва ли не каждый год, были из лоснящегося атласа в зелено-лиловую полоску, весьма изысканную. А у соседей, обитателей шахтерского санатория, пижамная гамма, соответственно профессии, впечатляла мрачностью оранжево-коричневого…
…О, море в Сочи, о, пальмы в Гаграх!..
Впрочем, это песня более позднего времени.
И вот еще что: если быть до конца честным, то следует признать, что это пижамное безумие имело и вполне убедительный резон. Большая часть населения страны – военные в особенности – жила в таких санитарных и вообще бытовых условиях, что отделение их хотя бы на время от повседневной одежды шло на пользу. Как жили шахтеры в своих Горловках и Макеевках, и говорить нечего – немногим лучше, чем сейчас…
Между прочим, соседями военных с другой стороны были ученые. Так вот: в санатории Академии наук пижам не выдавали. И секретные сталинские лауреаты и Герои Труда гуляли вольно – в полотняных белых или чесучовых (чесуча – грубый матовый шелк) кремовых костюмах и детских панамках.
…В этот час ты призналась, что нет любви…
Пел тенор, и дамы хотели быть нарядными, о чем я уже писал и еще напишу. Они хотели быть дамами все время, пока не приходил срок заседать в женсовете, да и его они переименовали бы в дамсовет, если бы не предвидели мужские скабрезные шутки.
А дама от женщины отличается, в частности, тем, что у женщины платья, в лучшем случае наряды, а у дамы – туалеты, наряды же – в худшем случае.
Туалеты шились по картинкам и выкройкам из московского или рижского журнала мод. Московский был лучше, и выкройки в нем были точнее и понятней, он так и назывался «Журнал мод», но рижский зато был рижский и назывался, конечно, «Ригас модас» – русскими, правда, буквами…
Сочи выходил понемногу из моды, и с ним вместе – полосатые мужские пижамы. Теперь офицерские семьи ездили на Рижское взморье. Там, в больших деревянных особняках, были устроены санатории для победителей – военных, шахтеров, ученых и других полезных стране людей с женами, вплоть до писателей, пижамы не носивших еще непоколебимей, чем ученые. По дороге на взморье дамы обмеривались у знакомой московской портнихи, а по дороге обратно забирали готовые туалеты и наряды. Сразу же по приезде на курорт заказывали у знакомой латышской портнихи платья. Для туалетов латышка была слишком аккуратная…
Между прочим, кройка и шитье – сами по себе, а вокруг военного санатория в Юрмале круглосуточно ходил патруль с ППШ, и все равно ночами в сосняке постреливали. Однако латышская прислуга в ресторанах была вежлива, хотя безошибочно обращалась к отцу – никакой пижамы, широкие костюмные брюки из хорошего серого «бостона» и вискозная тенниска с модными длинными уголками воротника – «херр официр».
Но вернемся к женским проблемам.
Это в пятидесятые, после отмены карточек и врачей-вредителей, разоблачения вождей и французских булок, оказавшихся городскими – не буду разбираться, в чем причины и где следствия, – в почти сытые ранние пятидесятые годы гарнизонные и вообще дамы получили возможность крутить носами между крепдешином и креп-жоржетом, ленинградским букле и общесоюзным габардином… А в голодные поздние сороковые тканей не было. Трофейные отрезы текстиля представляли собой не менее универсальную ценность, чем трофейные часы. Причем отрезов женских тканей – тонкой шерсти, шелка и даже обычного старушечьего ситца в розочку, не говоря уж о вожделенном панбархате, – среди трофеев было гораздо меньше, чем мужских коверкотов и диагоналей: те, кто вез трофеи, в шелках не разбирались, в габардинах – еще туда-сюда… А чтобы не приезжать с пустыми руками, везли готовые вещи – кто из спальни, развороченной танковым снарядом, а кто и целиком склад кёнигсбергской дамской конфекции, набитый в два дерюжных – от глаз трофейной команды – мешка…
…Новый, 1949 год встречали широко. Отец с матерью собирались идти на ночь в только что построенный Дом офицеров, где среди бархатных кресел зала расставили столики с крымским шампанским, а место для танцев освободили в вестибюле и гардеробе, выделив для шуб и шинелей читальню. Мать срочно, пользуясь приобретенным в кружке кройки и шитья скромным умением, укорачивала по моде и расставляла в вытачках по фигуре платье, в котором за три года до войны выходила замуж. Синее платье с белым воротником… Еще предстояло отпарить следы от швов, поэтому бабушка – мы с нею оставались встречать праздник дома, с самодельным тортом – готовила утюг. Жили мы тогда еще не в ракетном городке, а в ближнем селе, в деревенском доме, снимали у хозяев половину и ждали, когда в городке достроят первый квартал кирпичных. Бабушка распахнула огненную пасть русской печи, выгребла железным совком мелкие уголья и, приподняв верхнюю крышку чугунного утюга, похожего на крейсер «Аврора» с картинки, высыпала жаркую мелочь в крейсерово нутро… Отец сосредоточенно начищал специальной жидкостью «Асидол» пуговицы, собрав их в щели предназначенной для этого дощечки. Пуговиц на тогдашнем парадном двубортном мундире было спереди с десяток и сзади, над несимметричным разрезом, еще четыре. Да потом надо было начистить латунные эмблемы-пушки на черных бархатных – артиллерийских – петлицах стоячего воротника… В общем, отец тоже спешил.
Тут распахнулась дверь из сеней, влетел сизый шар мороза, и в этом шаре вошла наша соседка, жена капитана Н. Они снимали тоже половину дома, через забор от нас. Но забор этот сейчас оказался вровень по высоте с обложившим его с двух сторон сугробом, так что соседские визиты стали еще удобнее.
Одета была соседка странно: из-под мужнина караульного полушубка внакидку шелковые чулки телесного цвета уходили прямиком в караульные же валенки с гигантскими галошами. Волосы на непокрытой голове были накручены мелкими витками на кусочки газеты.
Сбросив полушубок прямо на пол, она крутнулась вокруг вертикальной оси, отчего чуть не упала, поскольку валенки еле двинулись с места, и произнесла следующую невнятную речь:
– …Это борька привез еще из пруссии а я ни разу не надевала оно ж прямо вечернее как у жеймо в золушке а сегодня решила вот одеться а туфли летом купила в ленинграде подходящие лодочки кремовый лак потом увидишь и вот как тебе…
Жеймо – фамилия артистки, сыгравшей в фильме «Золушка», летом смотрели всей семьей в Москве – это я помнил и понял, а больше не понял ничего. Но догадался, что суть сказанного относится к одежде, обнаружившейся на соседке после того, как полушубок упал.
Одежда эта, из тонкого и скользкого даже на вид материала, представляла собой расширяющийся книзу наряд, а то и туалет. Длиною он был чуть ниже колен. Маленький бант стягивал сборки на груди, а большой лежал сзади на пояснице, точнее – я запомнил слово после одного счастливого несчастного случая с моим участием – на копчике. Подол туалета заканчивался широкой кружевной полосою.
Цвета все это было сливочного, так что кремовые лодочки действительно оказались бы кстати.
Явление одетой таким образом соседки произвело сильное впечатление.
Отец на минуту перестал чистить пуговицы.
Бабушка высыпала немного углей мимо утюга.
Я на всякий случай занял любимую позицию – за спинкой кровати со сборчатой занавеской и с железными шариками, которые можно было свинчивать и навинчивать, пока не потеряются все.
И только мать проявила мужество.
– Ты с ума сошла! Это же ночная рубашка немецкая! И ты собралась в ней идти?!
После этих слов минуты две в комнате не раздавалось ни звука, только выл за стенами вечный приволжский ветер. А через две минуты соседка что-то крикнула – я не знал этого слова – и вылетела в сени, волоча за собой полушубок. Дверью она хлопнула так, что светящийся иллюминаторами утюг подпрыгнул на подставке…
Меня разбудил шепот, доносящийся от кровати матери и отца.
– Ты видел, – громко шептала мать, – ты видел? Там же было еще четверо таких! У одной вообще…
Тут шепот стал неслышным.
И тут же снова распахнулась, впуская утренний мороз, дверь.
И снова явилась соседка – на этот раз уже без полушубка, но все же в валенках.
– А ты просто завидуешь, – произнесла она в тишине отчетливо, но негромко. – Там и другие дамы были в вечернем, как я, а в школьном, как ты, никто не пришел… Завидуешь? И завидуй.
Выходя, она не закрыла за собою дверь, и из сеней несло холодом, пока отец не встал, и не протопал босыми ногами, и не закрыл нас от холода.
Он всегда закрывал нас. А у моей матери был хороший вкус, но тяжелый характер. Вечная память им обоим.
И вот еще что: ну, не все отличали вечернее платье от ночной рубашки. Зато не было ненавистного мне слова «ночнушка», чтоб оно пропало.
Треники как национальная идея
Никогда не мог понять, да так и не понял, почему соотечественники всегда и везде, в двухместном купе поезда или в палате на шестерых профсоюзного пансионата, безумно спешат сменить любую одежду – костюм банкира от Brioni или черную униформу охранника из магазина «Спецназ» – на домашнюю. Причем ею может быть что угодно, лишь бы достаточно старое и уродливое – линялая хлопчатобумажная гимнастерка и полугалифе, в которых пришел по дембелю; купленный для медового месяца стеганый халат на тонком поролоне, который стоит колом; драная телогрейка на голое тело; вязаная кофта, растянутая так, что карманы приходятся на колени…
Как уже сказано, в первые послевоенные годы в качестве одежды для дома и особенно для курортного отдыха мужчины самых суровых профессий поголовно и с одобрения начальства носили полосатые атласные пижамы. Женщины этого круга – не все, но многие – называли себя дамами и в тех же обстоятельствах носили длинные, до земли халаты, выглядевшие на отнюдь не хрупких дамах комично. Впрочем, и выше описанную отнюдь не уникальную историю с трофейной ночной рубашкой следует считать эксцессом, но показательным.
Однако всё кончается, кончилась и эпоха народной наивности. Бусы и зеркальца перестали считаться вечными ценностями. Персонаж кинофильма, с наслаждением использующий доставшуюся в трофеях буржуйскую клизму как прибор для медленного и потому особо приятного потребления самогона, вызывал в зале добродушный смех превосходства – секреты этикета и комфорта стали достоянием строителей социализма. И примерно с середины пятидесятых универсальным костюмом для релакса стал так называемый тренировочный: брюки-рейтузы и блуза-фуфайка из бумажного трикотажа или трикотажные брюки и любая рубашка с обтрепавшимися от многих стирок воротником и манжетами. Стилистика расслабленности, будуарной неги, сонного ничегонеделания была привлекательна для намучившихся советских людей в первые послевоенные годы. Теперь она уступила место образу подтянутого спортсмена, собранной, гибкой спортсменки.
Ну, естественно, народный характер внес поправки и уточнения в картину. Во-первых, сам материал – хлопчатобумажный тонкий трикотаж – сразу же снижал спортивный пафос: рейтузы вытягивались на коленях пузырями, придавая атлетам вялый силуэт подагрика на слабых ногах. К тому же огромный, свисающий мешком пузырь образовывался и на заднице, что давало моей суровой на язык бабушке повод для сравнения «ходят, будто с полными штанами». Во-вторых, черный или темно-синий цвет – других не бывало – превращался в никакой после первой стирки. Продолжал он линять и в дальнейшем… В сочетании со свойством притягивать пух, нитки и другой мелкий сор этот ужасный трикотаж превращал любого, самого аккуратного и при этом крепкого мужчину в неопрятного уродца…
Полагаю, что, дочитав примерно до этого места, вы возмутитесь: «Что он, идиотами нас считает? Без него прекрасно помним, как выглядит тренировочный костюм, сами носили! Да и не делся он никуда…» Тише, господа, тише. Носили – и прекрасно, вместе и вспомним. А что не делся – да, существует, но на периферии, периферии…
Кстати, трениками стали называть этот поразительный костюм только тогда, когда он стал универсальным и всеобщим, – в шестидесятые. Официальное торговое название «трико гимнастическое», естественно, не прижилось. А народные «треники» совершенно органично вошли и в быт, и в речь. Тогда же, в шестидесятые, тренировочные брюки обрели несколько важнейших деталей. Во-первых, появилась узенькая складка-защип, застроченная вдоль «фасада». Во-вторых, внизу треники заканчивались штрипкой – ну, прямо девятнадцатый век!.. То и другое преследовало одну цель: придать вытянутой линялой тряпке стройный вид не то лейб-гвардейских лосин, не то балетного костюма…
Но ничего из этого не вышло – растягивающееся в момент надевания уродство осталось уродством. Не в обиду соотечественникам будь сказано: я убежден, что именно безобразие треников сделало их любимейшей и долговечнейшей одеждой наших мужчин, да и в некоторой степени женщин. Вкус и элегантность – не главные качества русского человека. Вот всемирная отзывчивость – это да.
Но к концу того бурного и полного новинок десятилетия компромисс между удобством треников и не до конца изжитым желанием советских людей выглядеть на досуге прилично был все же найден. Результатом борьбы противоречий стали… да те же треники, вот как! Новый костюм стал называться «олимпийский» или «олимпийка» (часто носили только верхнюю часть костюма к обычным брюкам). В чем были его отличия от общегражданских треников? Первое – материал: не бумажный, а чисто шерстяной тонкий трикотаж, как правило, ярко-синего цвета. Преимущество шерсти бросалось в глаза: она не растягивалась или почти не растягивалась. Второе – фасон: фуфайка горловину имела не круглую, в которую даже заурядная голова пролезала с трудом, а застегивающуюся на короткую, примерно до середины груди, молнию. И, наконец, самая убедительная составляющая престижа: на спине было написано крупными белыми буквами: «СССР». Кто ж мог сомневаться, что это именно олимпийка? А некоторые неразборчивые жертвы тщеславия украшали олимпийку еще и значком «Мастер спорта СССР», купленным за две бутылки «Московской» у законного владельца. В разговоре – с девушками, с кем же еще – обычно назывался спорт экзотический, для демонстрации мастерства в котором требовались особые условия, почти не встречающиеся в обычной жизни. Ну, например, стендовая стрельба – а мимо курортного тира, где соревновались азартные аборигены, следовало проходить с высокомерной усмешкой…
В общем, олимпийский тренировочный костюм достойно исполнял роль домашнего.
И все же не вошел в почетную, формируемую мною в уме категорию «Составляющая национального образа жизни».
А вот обычные треники – вошли.
Нам, воспитанным в уважении к идеалам равенства и коллективизма, вот эти, с пузырями на коленях и мотней ниже колен, больше подходят.
Мой первый тесть, высокий и статный, с русым вьющимся чубом генерал, очень любил свою олимпийку. В ней я его и запомнил.
Но на даче он поливал клубнику в трениках. Возможно, потому, что они органичней соответствовали запаху той субстанции, которой дачники поливают клубнику.
Гараж особого назначения
Мне уже было порядочно лет, учился я в шестом классе и переживал начало романа с моей одноклассницей и будущей первой женой. Тем не менее…
Вопреки идеалистическим представлениям, дети очень подвержены меркантильным страстям, материальное занимает и всегда занимало в их мире огромное место. Распространенная иллюзия – что только в последние годы школа стала ареной соревнования айфонов и планшетников – ошибочна. В моем детстве обладание престижными среди ровесников вещами было не менее существенным для самоощущения подростка.
Главным объектом желания был велосипед (сильно изменившийся и снова сделавшийся модным и даже шикарным в последние годы). А тогда, шестьдесят лет назад, это было примитивное транспортное средство, вполне соответствовавшее общей бедности жизни. На подсохшей асфальтовой площади перед зданием главного гарнизонного штаба в весенних сумерках кругами носились на великах мои одноклассники. Диапазон техники простирался от трофейного австрийского, поражавшего ржавчиной и карданной передачей вместо цепной, до новенького подросткового «Орленка», не вызывавшего, несмотря на яркость окраски, почтения именно из-за своей подростковости. Дочь начальника тыла – одна из немногих девочек на собственных колесах, забава считалась мужской, а подружек возили на раме, и никого из взрослых, при безоговорочно торжествовавшем пуританстве, не смущала явная эротичность этого развлечения, – так вот, дочь начальника тыла каталась на настоящем дамском. У него была низкая рама, кустарного плетения цветные сетки предохраняли платье от попадания в спицы…
У меня велосипед был вполне достойный: новый, купленный по случайной удаче в ближнем сельпо за восемьсот, кажется, рублей (а автомобиль «Москвич- 401» стоил меньше десяти тысяч) харьковского производства аппарат с тросиком ручного тормоза и динамо-машиной, укрепленной на переднем колесе и питавшей фару. Стоит ли говорить, что руль был повернут по-гоночному, рогами вниз, а седло, тоже для спортивности, поднято вверх, насколько возможно. Уже темнело, а я все гнал и гнал, наклоняясь на поворотах, в карусели, с тихим шелестом опоясывавшей площадь…
В общем, с велосипедом у меня было все в порядке.
Но неосуществленная – и, как я полагал, неосуществимая – мечта терзала меня. И это было тем тяжелее, что я понимал нелепость моего желания.
В главном магазине городка, приличных размеров универмаге, скромно называемом военторгом, в отделе игрушек под стеклом прилавка лежала большая плоская коробка. В коробке в гнездах помещались литые, идеально окрашенные цветными лаками кузова машин:
шоколадно-коричневой «Победы М- 21»,
двухцветного вишнево-кремового «ЗИМа М- 12»,
сверкающе-черного «ЗИСа- 101»,
уже упомянутого «Москвича МЗМА- 401» модификации «фургон» с боковыми панелями из как бы дерева – такие я видел в Москве, они развозили мороженое,
и, наконец, некой неведомой мне золотисто-зеленой машины, спортивного двухдверного купе, как я определил бы модель сейчас, с большим горбатым багажником, длинным капотом и коротким салоном – обобщенная мечта об автомобиле.
В особом гнезде лежало шасси, с колесами в тонких бубликах черных резиновых шин, с заводным двигателем, туго свернутая пружина которого отливала радугой.
В еще одном гнезде лежали в конверте из промасленной бумаги болтики для привинчивания кузовов к раме, отвертка и ключ для завода двигателя.
Это был очень странный автоконструктор. Одновременно в собранном виде его машины существовать не могли. «Победа» исключала возможность «ЗИМа», «ЗИС» отнимал шасси у «Москвича». При этом не принималась во внимание существенная разница в реальных размерах этих автомобилей. А наличие вообще не существующей в действительности зеленой машины – про себя я назвал ее просто «гоночная» – переводило набор в категорию мечты, материализовавшегося сна.
Не знаю почему, но меня особенно привлекал даже не лак кузовов, а именно нелепость идеи – сведение лимузина и малолитражки к одному размеру, единственность сути при большом выборе внешностей.
Но мечта была недоступна, даже заикнуться о ней было невозможно – в тринадцать лет обладателю взрослого велосипеда, романтическому влюбленному уже неловко было проявлять интерес к игрушкам. Да и стоил набор порядочно – 99 рублей.
…Отец прошел в отдел, торговавший звездочками и целлулоидными, вредными для шеи подворотничками, а я отстал возле прилавка игрушек.
Я не заметил, когда отец вернулся.
– Покажите эти… автомобильчики, – услышал я его голос над своей головой. Я понял, что сейчас произойдет невероятное.
– Можно собрать любую машину, – сказал я, охрипнув от волнения, – а мотор для всех один…
– Я вижу, – тоже слегка хрипловато ответил отец.
Он вообще уже похрипывал, начиналась болезнь, которая в конце концов убила его…
Вечером они с соседом сидели на кухне, собирали и разбирали автомобильчики. Когда очередной кузов привинчивался к шасси, от результата нельзя было оторвать глаз. А потом привинчивался другой кузов, и масштаб менялся. Наконец дали свинтить какой-то автомобиль и мне…
Как и следовало ожидать, автомобильчики мне скоро надоели. Вероятно, идея уравнять неравных, поставить всё на общее шасси перестала казаться привлекательной. Куда делся набор кузовов, не помню. Только зеленая «гоночная» осталась привинченной к общей раме и долго стояла на столе, за которым я делал уроки, потом разбирал задачи «из Моденова» – сборника, предназначенного для дополнительной подготовки абитуриентов, потом писал первые чудовищные стихи… Зеленая машинка напоминала о привлекательности ложных идей.
Вернее, тогда она ни о чем не напоминала, но потом до меня дошел смысл нелепой игрушки.
Ручка-карандаш складная
Я пошел в школу неполных семи лет осенью 1950 года.
Дата сегодня представляется невероятной.
Мы ходили в школьной форме из серого сукна – в широких гимнастерках, рубахах со стоячими воротниками, заправленных под ремни, – и выглядели ожившими мелкими фигурами с картинки «Нижние чины перед отправкой на позиции» из иллюстрированного дореволюционного журнала – такой почему-то валялся у нас дома. Старшеклассникам полагались вместо гимнастерок кители вроде офицерских; мы им завидовали, потому что в нашем военном городке офицерская форма была единст- венной мужской одеждой. Девочки носили коричневые платья с длинными черными – или белыми по праздникам – фартуками. Фартуки были с крылышками, скрывавшими плечи и те места, где предполагалась грудь… Эта гимназическая стилистика вполне укладывалась в общую позднесталинскую, с погонами и мундирами для всех ведомств. Форменная одежда имелась у шахтеров и дипломатов, юристов и лесников, дело шло к общим чиновничьим мундирам и шпагам. Офицерам к парадной форме, с гербовыми пуговицами на пояснице (они сами придумали дразнилку «Человек во фраке, пуговицы на сра… зу видно, важный человек»), полагалась сабля. Империя возвращалась – по крайней мере, костюмы государственных людей, а государственными считались все, – к истокам… Обучение в больших городах было раздельным, мальчики и девочки учились врозь, встречаясь только на торжественных пионерских построениях и на вечерах по большим праздникам. На вечерах парами танцевали па-де-катр и па-де-патинер, советские кадеты-суворовцы в черных мундирах и брюках с алыми лампасами давали сто очков вперед обычной гражданской шпане, неловко топтавшейся на месте. Нам повезло: школа в военном городке была приравнена к сельской, а сельские были общими по причине нехватки детей военных лет рождения. Так что мы учились вместе с девочками, что роковым образом повлияло на мою семейную судьбу – о чем я уже упоминал…
Как ни странно, ожесточенней всего школа боролась со школьниками не за соблюдение формы одежды – многим родителям даже нашего небедного военного поселения форма была просто не по карману. Мальчишки к гимнастерке, из ставших короткими рукавов которой торчали худые запястья, донашивали отцовские штаны, девчачьи фартуки приходилось наращивать в ширину… И с этим учителя смирялись.
А беспощадную борьбу школа вела с любыми вольностями в использовании письменных приборов и приспособлений. Форма ручки для письма, артикул стального перышка, которым она оснащалась, цвет чернил и конструкция переносной чернильницы – все это почему-то строжайшим образом регламентировалось.
Возможно, техника письма так жестко контролировалась потому, что было ощущение близости между ее вольностями и неуправляемостью содержания, между пренебрежением каллиграфией и сомнительностью смыслов.
Каноническая ручка – основной прибор для письма – представляла собой тонкую палочку синего или красного эмалевого цвета, на одном конце которой был смонтирован держатель для стального пера – двойной жестяной зажим, в щель которого и вставлялось с некоторым усилием перо.
Моделей перьев – тонких, слегка изогнутых обрезков закаленной стали – зачем-то производилось множество. Было каноническое, обязательное для школьников № 86, с острым раздвоенным концом, начинавшее по мере износа царапать тетрадную бумагу и ставить чернильные кляксы. Было запретное «с шишечкой № 21», имевшее закрепленную в названии шишечку на пишущем конце. Шишечка оставляла след «без нажима» и не удовлетворяла школьным требованиям. Вопреки репрессиям, «с шишечкой» писали школьные диссиденты – я этой формой протеста пренебрегал, у меня и без того почерка не было никакого, и тройку по чистописанию учительница младших классов Антонина Павловна исправляла на четверку только из уважения к моим успехам в родной речи. Еще было изысканное рондо, технических отличий которого я не помню, узенькое чертежное, наносившее на бумагу тончайшую линию, жесткое № 11, которым было выгодно играть в «перышки»… Впрочем, об этой игре можно рассказывать отдельно и долго, как-нибудь в другой раз. А тут речь идет о приспособлениях для письма, с помощью которых я начинал занятие, продолжающееся до сей поры, – вязание букв и слов в необходимые последовательности.
Рядом с перьями нельзя не упомянуть чернильницы. Назывались они многообещающе «непроливайки» и действительно были так устроены, что чернила – полагались обязательно фиолетовые – вроде бы не должны из них выливаться: края небольшой фаянсовой чашечки с голубым изображением пионера на боку загибались внутрь, так что при переворачивании содержимое задерживалось этими краями. На деле чернила выливались за милую душу, портя тетрадки – ни в коем случае не толстые, «общие»! – и внутренности портфеля – никаких рюкзаков…
А теперь случай, ради которого и затеян этот рассказ.
Классе в пятом-шестом нас обуяла мода на особой конструкции ручки. Это были железные трубочки, с двух сторон заткнутые железными же пробочками. В одной из этих пробочек был смонтирован обычный держатель для перьев, в другую вставлялся огрызок простого карандаша – отечественного «Конструктора» или пижонского желтого чехословацкого Koh-i-Noor, неведомым промыслом иногда попадавшего в отдел канцелярских товаров нашего военторга. В нерабочем состоянии пробочки затыкались пером и карандашом внутрь трубочки, так что можно было небрежно сунуть ее в карман или бросить без всякого опасения в портфель. В случае надобности соответствующая пробочка переворачивалась, возникало обычное орудие для письма или даже небольшого рисования.
Создание технического гения середины прошлого столетия, эти трубочки по удобству использования предшествовали шариковым ручкам.
При этом у ручек-трубочек было еще одно высоко ценившееся в нашем кругу потребительское качество: если вынуть обе затычки, оставшуюся сквозную трубочку можно было использовать для плевания жеваной промокашкой.
Надо ли упоминать, что школа вела с проклятыми трубочками войну на истребление? И что мы постоянно плевали сквозь эти трубочки? Так что мода на них – официальное торговое название было, если не ошибаюсь, «ручка-карандаш складная» – была вполне объяснимой.
Пользуясь местом отличника за первой партой и неписаным правилом, по которому на плевок можно было отвечать плевком же, но не затрещиной, я плевал без промаха. Мои мишени, в свою очередь, при любом возможном случае – например, когда я на уроке литературы вдохновенно читал что-нибудь у доски – плевали в меня и тоже попадали. Несмотря на противные ощущения от мокрой бумаги, это было довольно мирное переплевывание.
Географичка наша Фаина Арсеньевна к концу каждого учебного года уходила в декретный отпуск. Не помню, вызывало ли это у нас какой-либо физиологический интерес, но помню, что мы принимали с естественным энтузиазмом отмену уроков географии. Впрочем, иногда урок не отменяли, а заменяли – приходил свободный учитель, и начиналась биология, а то и физика…
В тот день пришел Герман Михайлович, директор школы, преподававший историю. Как сейчас помню, речь зашла о набегах Большой Степи на русские – или какие они тогда были – княжества.
Сейчас я так опишу свое состояние в те минуты: мною вертел бес. То ли воинственные истории борьбы со степняками меня воодушевили, то ли я просто потерял на какое-то время рассудок… Во всяком случае, как говорит в боевиках мой любимый Брюс Уиллис, ничего личного не было в моем поступке, к директору я относился с ровным уважением, он был молчаливый и не слишком строгий.
Тем не менее автоматическими, будто во сне, движениями я проделал всю подготовку к плевку:
нажевал кусок розовой промокашки и свернул его в тугой шарик;
под партой затолкал этот шарик в ручку-трубочку, затычки из которой были давно вынуты и лежали в парте же;
вынул из-под парты кулак с зажатой в нем трубочкой и поднес его ко рту, будто оперевшись подбородком на руку в приступе интереса к истории…
И плюнул, как только Герман Михайлович повернулся к доске, чтобы нарисовать направления набегов неразумных хазар и вечно пляшущих половцев.
Розовый комок попал точно в высоко подбритый, «под полубокс», директорский затылок и прилип.
Время остановилось.
В этом остановившемся времени я обернулся и оглядел класс.
Старательные девочки следили за уроком по учебнику со штриховыми изображениями кочевников, нестарательные расплетали и заплетали перекинутые на грудь косы, двоечники на задних партах тихо дрались, остальные играли в упомянутые перышки и рисовали танки в тетрадках. В целом царила обычная школьная симуляция порядка, но на самом деле все всё видели и ждали продолжения кошмара.
Герман Михайлович, не поворачиваясь, занес руку к затылку и сбросил мерзкий снаряд. Потом он повернулся к классу и посмотрел мне прямо в глаза. В его взгляде не было сомнения.
Время не двигалось. Я приготовился ко всему.
Директор усмехнулся.
– Кабаков, иди к доске, – сказал он, – перескажи краткое содержание сегодняшнего урока.
От доски я увидел, как Вовка Ю. готовится к плевку. Он не мог не использовать такой случай – меня вызывали редко, поскольку учителя были уверены в пятерках. Промокашка, склеенная слюной переростка, не замедлила прилететь прямо в мой лоб. Я непроизвольно отмахнулся.
– Что ты машешь руками, – все с той же усмешкой сказал Герман Михайлович, – продолжай рассказывать.
Генка М. неудачно прицелился и попал всего лишь в пуговицу кителя, жеваный шарик шмякнулся на пол.
Я продолжал рассказывать про набеги.
Класс правильно понял директорскую усмешку: я стоял под градом плевков.
К тому времени, как прогремел избавлением звонок, всё понял и я.
– Герман Михайлович, простите меня, – еле слышно пробормотал я, топчась рядом со столом, на котором директор заполнял классный журнал. – Я… я не хотел…
– Неправда, хотел, – возразил директор, закрывая журнал, и опять посмотрел мне в глаза без сомнения во взгляде. – И плохо, что хотел именно в затылок… Давай.
Он протянул руку, и я отдал трубку.
– Но хорошо, что сам не отворачивался и не жаловался, – сказал он и сунул ее в карман.
А на выпускном вечере, когда мы с ребятами уже сговаривались пойти за оранжерею в школьном дворе и распить там заранее заготовленную бутылку зеленого ликера «Шартрез», он опять молча усмехнулся и вернул мне чертову трубку.
И она долго валялась в ящике моего стола с другим старьем, а потом куда-то делась.
Деталь интерьера
До конца шестидесятых годов прошлого века советские люди мебели не покупали. Ну, почти не покупали – исключения составляли чехословацкие книжные полки, польские пластиковые кухни, шкафы «Хельга» производства ГДР и символ роскоши на грани разврата – румынские спальни с наклеенными пенопластовыми завитками, изображающими резьбу по дереву. Все перечисленное появлялось в мебельных магазинах редко и неожиданно, разрушая выстроенную гражданами очередь, которую пытались блюсти хранители очередных списков. Впрочем, все знали, что, помимо всяких очередей и неожиданностей, заветные предметы меблировки ежедневно грузили в фургоны у черных магазинных выходов, и фургоны эти ехали по указанным магазинным начальством адресам. В иерархии влиятельных граждан социалистического общества товароведы мебельных стояли примерно на той же ступени, что мясники Центрального рынка, директора рыбных магазинов «Океан», администраторы модных театров и обладатели чеков, за которые в сети магазинов «Березка» можно было купить джинсы Rifle и джин Gordon…
Но все это было уже в конце шестидесятых, от которых было рукой подать и до конца само́й – страшно сказать! – советской системы. Страсть к потреблению охватила советских людей, никакие газетные обличения «вещизма» и художественные разоблачения мещанского накопительства не работали. Оголтелые мещане с удовольствием заполняли театральные залы на премьерах антимещанских пьес. Югославские мебельные «стенки» и уже арабские, действительно резные спальни стали достойными декорациями драмы «Конец утопии». Вместе с падением цен на нефть и рейгановским проектом Star War потребительство разрушило советский социализм, напоследок назвавшийся «развитым», а следом рухнул и весь социалистический лагерь, оставив на недобрую память лагерные обычаи…
Но это все было потом, а первые два десятилетия после войны мебель в советском жилье если и существовала, то какая-то самозародившаяся.
Жили все в одной комнате – нормальная семья в три-четыре-пять человек, или в двух – но это уж человек семь-восемь. При этом никакого деления на спальни и гостиные, кабинеты и столовые даже в том случае, если семья занимала больше одной комнаты, не бывало – всюду и спали, и ели, и писали статьи «Банкротство империалистической псевдокультуры»…
Посередине комнаты стоял круглый стол на стянутых рамой четырех толстых ножках из грубого квадратного бруса. Стол был раздвижной, два его полукруга перед приходом гостей растягивались на деревянных полозьях, и стол делался овальным, занимая при этом всю комнату, а сидячие места вокруг него образовывались откуда-то извлекаемыми грубыми досками, положенными на кухонные раскоряченные табуретки. Время от времени занозы из досок впивались в натянутые дамскими фигурами трофейные шелка…
А в обычное время стол был круглый, покрытый так называемой гобеленовой скатертью черно-золотого крупного плетения, изображавшего драконов. Как и большая часть социалистического шика, скатерти эти делались в Восточной Германии. Я любил залезать под стол и долго там сидеть, скрытый гэдээровским «гобеленом».
Над столом висел оранжевый, желтый или темно-красный абажур, из прозрачного, в одноцветный вафельный рисунок, так называемого парашютного шелка. Абажур наполнял комнату страстным сумраком, никак не гармонировавшим с прочим, совершенно семейным духом жилища.
Вдоль одной из стен стояла стальная «полутораспальная» – то есть шириной 90 сантиметров – кровать. Ложе ее воинственно именовалось панцирной сеткой и дико звенело по ночам. Спинки были склепаны из крашенных кремовой эмалью тонких стержней с навинченными для красоты на их концы никелированными шариками. Кровать полускрывалась за базарного качества «китайской» ширмой с мелкими вышитыми таинственными цветами.
На кровати спали родители.
Вдоль другой стены стоял диван, как бы кожаный, а на самом деле обтянутый липкой клеенкой, обитой специальными гвоздиками с широкими медными шляпками. По бокам диван ограничивался цилиндрическими валиками, вечно падавшими на пол, высокая его спинка венчалась деревянной полочкой, на которой стояли семь слонов (о их судьбе я уже рассказывал) и два бюстика: один, если не ошибаюсь, Некрасова, с бородой длинной и узкой, а другой – Толстого, с бородой широкой и вообще обширной.
На этом диване спал сын.
Еще в комнате был огромный дорожный сундук из толстой кожи, неведомо откуда взявшийся в семейной собственности, – покрывая его каждый вечер тюфячком и простынкой, на нем ложилась спать малорослая бабушка.
Еще была этажерка, открытые фанерные полочки на шатких бамбуковых опорах, с книгой большого формата «Кондрат Булавин», снабженной цветными иллюстрациями, переложенными папиросной бумагой, и с романами Драйзера в отваливающихся корешках…
И главный предмет советской меблировки, основа национального интерьера – зеркальный шкаф, неизвестно почему называвшийся «славянским». Увековеченный Ильфом и Петровым, анекдотом про шпиона и самой жизнью, шкаф этот занимал половину комнаты и содержал все имущество семьи, включая порожние чемоданы на крыше и пересыпанные голубоватыми шариками нафталина зимние пальто внутри. У него были две несимметричные дверцы. За узкой дверью, с квадратным оконцем из рисунчатого матового стекла вверху, скрывались полки. На них лежали стопки чистого и заштопанного нижнего белья, залатанные простыни и нетронутые куски лавандового мыла в бумажной обертке. Широкая дверь снаружи была почти полностью скрыта слегка кривоватым зеркалом толстого зеленого стекла. По краю зеркала шла широкая фаска – откос. К двери стекло крепилось толстыми металлическими лапками. А за дверью хранилась вся одежда семейства, не нужная в текущем сезоне. Это и была, собственно, та часть шкафа, которая называлась «гардероп» – именно с «п» на конце.
Некоторые семьи жили без шкафа, одежду вешали на плечики, а плечики – просто на гвозди, вбитые в стену. От пыли одежду накрывали старыми простынями…
Но одно было общим для интерьеров эпохи советского средневековья: происхождение каждого предмета меблировки было туманным. Во всяком случае, ни один не был банальным образом привезен из магазина – в сущности, мебельных магазинов не было, вот что. Зато в обилии были побогаче – антикварные, победнее – комиссионные, вовсе бедные – скупки. Из них и везли то неаккуратно обструганное, плохо склеенное, кривое и шаткое дерево, которое гордо считали мебелью.
Лучший антикварный был на Фрунзенской – говорят, что он и сейчас там. Обтянутые полосатым шелком павловские гостиные красного дерева оттуда переезжали прямо в квартиры на улице Горького, даренные щедрым советским правительством выдающимся художникам в довесок к Сталинской премии 1-й степени… Но вот ведь черт! Положительно тем же духом неустроенности и грабежа, что от коммунальных этажерок и гардеропов, несло и от этих салонов. Потому что из вторых, третьих, десятых рук…
На Горького и Арбате в комиссионках продавали картины, мелкую пластику, посуду. Там можно было сходно взять даже Айвазовского, там продавался фактически целый кузнецовский сервиз на тридцать шесть персон, обеденный и чайный, там фигурки бисквит стояли сотнями… А не радовали. Чужие. Ворованные. И кто скажет, что это не царапало душу титанам советской культуры, тот соврет. Чужие вещи – как чужие жены: привлекательны, но ненадежны. От него ушла и от тебя уйдет.
А еще была скупка на Преображенском рынке. Там буфеты с отломанными финтифлюшками и плетеные, «венские» стулья с рваными сиденьями продавались еще в начале семидесятых, когда на них пришла мода, сменившая практический смысл, – но об этом позже.
…Откуда появился тот славянский шкаф? Черт его знает, кажется, остался от предыдущих жильцов. А откуда он попал к ним, и куда они сами делись – кто ж скажет, да и зачем вспоминать?
…А этажерка? Солдатик, разгружавший с еще двумя «губарями» – сидевшими на гауптвахте нарушителями дисциплины – нашу полуторку, спросил: «Товарищ капитан, а эта… эта жерка… куда нести?» Мать глянула изумленно: «Это не наша!» Как потом эта жерка оказалась в комнате, и даже с книгами на полках, – неизвестно.
…Вот кровать была наша, это точно. Купленная у старшины железнодорожной роты Холопко еще в Орше и с тех пор путешествовавшая с нами. У этого Холопко было полно всякого железа. Но откуда оно у него взялось – бог весть.
…И диван остался от прежних жильцов.
…А стулья отец принес из штаба. С жестяными овальными номерками, прибитыми к боковинам сидений. Стулья надо было успеть вернуть, если начнется инвентаризация.
В шкафу, на самом его дне, лежали зимние материны ботинки, мои резиновые сапоги женского размера и отцовы сапоги для поездки зимой на площадку – на собачьем меху. Вся обувь была завернута в старые газеты.
Старые газеты во много слоев покрывали и дно шкафа.
Уже не помню, зачем я туда полез, под эти газеты. Что-то искал, а что… Нет, не помню.
И зачем развернул эту бумажку, вместо того чтобы, не глядя, смять и бросить в ведро, стоявшее под умывальником, литым конусом с подбрасывавшейся «пипкой».
Я развернул и прочел вот что:
«Варя, когда ты вернешься, меня не будет. Вероятно, что скоро меня и вообще не станет. Я не жалею о том, что попал в эту отвратительную историю. Времена, когда нет выбора, ужасны, но меня погубил именно выбор. Постарайся забыть. Если спросят – откажись от меня, скажи, что мы давно чужие. Лишь бы ты не пострадала, остальное не имеет значения. Надеюсь, что ты найдешь эту записку. Прощай».
Почерк был разборчивый.
Тем не менее я ничего не понял.
Шел пятьдесят четвертый или пятый год.
В пятьдесят шестом я подслушал, как тетка читала проверенным друзьям дома вынесенное со службы закрытое письмо ЦК КПСС.
Но я совершенно не связал услышанное с прочитанным в той записке.
Записка со временем пропала бесследно – как бы растворилась в том долгом времени. Но текст ее я воспроизвожу по памяти довольно точно – у меня до сих пор память хорошая.
Впрочем, возможно, что ничего этого не было – ни шкафа, ни записки.
Но что точно – мебель в те времена бралась неведомо где.
Чужая жизнь
Древняя история наших вещей кончилась тогда, когда они из обычных предметов скудного быта, которыми пользовались по необходимости и в отсутствие других, современных и просто новых, превратились в декорации, украшения, предметы эстетического выбора, элементы стиля. Еще в начале шестидесятых
журнальный столик в форме фасолины на раскоряченных тонких ножках (на который со стены насмешливо смотрел Хемингуэй в туристском свитере),
нейлоновый дождевик «болонья» (в конвертике, если настоящий итальянский)
и магнитофон «Яуза» (маленькие катушки пленки, электрический проигрыватель в том же корпусе, звук, казавшийся вполне приличным) – вот составляющие материального счастья.
А уже к концу десятилетия болонью донашивали пожилые провинциальные щеголи, журнальные столики типа «калужский модерн» украшали жилища только самых нищих и духовно озабоченных интеллигентов, а магнитофоны Grundig и Philips из последних сил всеми неправдами осиливали даже младшие научные.
Оставим пока в стороне то, что вытеснило из мечтаний болонью, а потом и вообще всю одежду – джинсам еще будет выделено подобающее место. Сейчас оглядимся в четырех стенах.
В конце шестидесятых и еще более в начале семидесятых в культурные квартиры хлынуло то, что гордо называлось «антиквариатом», хотя правильное и честное название этому было бы просто «старье».
Центром столичного интеллигентского жилья стал примитивно резной буфет, который уже был упомянут выше, но заслуживает более подробного изучения.
Из всех мебельных комиссионок Москвы – а их было тогда множество – выделялась скупка на Преображенском рынке. Это был целый ряд сильно запущенных сараев, набитых сломанной дешевой мебелью, в основном дореволюционного, так называемого базарного изготовления, колченогой, с косо висящими дверцами, рваной обивкой и дырявыми сиденьями. Полутемное пространство уходило вглубь сарая, по которому можно было бродить в поисках той рухляди, что рисовалась в мечтах, часами – если был готов выносить специфический едкий запах старья. А если ничего подходящего не находилось – то вот он, рядом, другой такой же сарай, и еще один… Здесь, на Преображенке, и находили, после более или менее долгих поисков, буфет. Старая кухонная деревяшка, которой предстояло стать украшением главной (если их было больше одной) комнаты кооперативной (как правило) квартиры.
Фундамент, нижняя толстая доска, украшенная фигурными плинтусами, был, естественно, самой тяжелой частью сооружения. В лифт он не влезал, и крепкие туристы-байдарочники, напрягая все силы, оставшиеся от пения у костра, перли его наверх пешком, время от времени притирая кого-нибудь к стене. Потом поднимали разобранный корпус – болтающиеся латунные петли, деревянные шпеньки, обнаружившиеся, когда панели отделяли друг от друга, полки в чайных и винных кругах. В зависимости от дизайна корпуса буфет приобретал название: «со стеклышками» – если в верхних дверцах были цветные стекла, как бы витражи; «с плитой» – если выдвижная из-под верхней части буфета полка была из мрамора; «с верхушкой» – если буфет имел венец, верхний резной карниз… Венцом, как правило, приходилось пожертвовать при сборке буфета на месте – не помещался при высоте кооперативного потолка в 2 метра 70 сантиметров максимум.
Однажды, как сейчас помню, мы вдвоем с приятелем, неудачливым музыкантом, по дружбе вперли такой буфет – пожалуй, больший среднего экземпляр – в высокий бельэтаж старого дома в центре, где тогда жил наш общий друг, выдающийся джазмен К. С фундаментом чуть не надорвались. А поскольку К. был (и остается) непьющим, то окончание буфетно-такелажных работ мы, добровольные такелажники, отметили тоже вдвоем. Была шашлычная с пивом в подвале дома на улице Богдана Хмельницкого (Маросейка), а в соседнем доме я в то время жил… Мы обсудили буфет и пришли к выводу, что если К. когда-нибудь разбогатеет (во что мы не верили, потому что какое ж на джазе богатство, – и ошиблись), то буфет он выкинет к черту (и опять ошиблись). Многое выбросили те, кого все еще никак не перестанут называть шестидесятниками, но резные буфеты прочно стоят на их кухнях, а то и в гостиных. Перестройку они пережили, и кто знает, что еще переживут.
…Примерно в те же времена, когда торжествовал буфет, не многим менее популярным стал еще один полузабытый элемент интерьера – подсвечник. Объяснение этой тотальной моде на предметы, абсолютно не нужные в стране полной – по крайней мере, городской – электрификации, – найти можно, и я еще к этому вернусь, пока же вспомним некоторые факты из жизни подсвечников в СССР.
Добывались подсвечники в комиссионных магазинах, комиссионках разного уровня. В дорогих – из которых главная была на Арбате, торговала не только всяким художественно ничтожным старьем, но и настоящим искусством – можно было купить шикарный, прекрасно сохранившийся шандал, и даже не просто темной бронзы, а посеребренный, а при хороших отношениях с торговыми работниками – и серебряный, если больше некуда было девать советские деньги, которые действительно было некуда девать. В комиссионках попроще можно было набежать на вроде бы пристойный, но кое-где подпаянный по излому, а то и без в незапамятные времена отломанной чашечки для свечи… Но и чашечку при удаче можно было купить в другой заход здесь же.
Однако настоящее месторождение подсвечников и другой мелкой бронзы находилось, как было известно заинтересованным жителям обеих столиц и еще многим ценителям, в Ленинграде, в комиссионках и скупках Апраксина двора. Ангел, отодранный неизвестно от чего. Ножка керосиновой лампы из чьей-то гостиной. Наяда с целой, и на том спасибо, грудью, но одной отломанной ногой. Рыцарь без головы. И вздыбленный, поскольку передние ноги утратил, конь… Я знавал одного парня, который из Питера всегда возвращался с неподъемной сумкой. После ремонта – малый был рукодельный – он сдавал питерскую бронзу в московские магазины, и бизнес этот его почти кормил.
…Да, чуть не забыл: я же обещал попытаться дать объяснения этой, распространившейся на переломе шестидесятых-семидесятых среди образованных горожан моде на старые вещи. Что ж, держу обещание. Ниже следует текст, написанный некогда по другому поводу, но, мне кажется, очень здесь уместный. Содержащиеся в нем повторы кое-чего, что здесь уже было сказано, думаю, извинительны ввиду обширности темы.
Итак.
«Дом на набережной» великого Трифонова, повесть, точно и беспощадно отразившая закат и разложение советской интеллигенции, открывается вот каким эпизодом: герой по фамилии Глебов приезжает в комиссионный мебельный.
«Вообще-то он приехал туда за столом. Сказали, что можно взять стол, пока еще неизвестно где, сие есть тайна, но указали концы – антикварный, с медальонами, как раз к стульям красного дерева, купленным Мариной год назад для новой квартиры. Сказали, что в мебельном возле Коптевского рынка работает некий Ефим, который знает, где стол. Глебов подъехал после обеда, в неистовый солнцепек, поставил машину в тень и направился к магазину».
О чем это? Тем, кто не жил тогда, в начале семидесятых…
Кто не помнит адскую жару семьдесят второго, будто спалившую все основы существования…
Кто не провожал в Шереметьево друзей навсегда…
Кто не ходил на закрытые просмотры, не слышал о рассыпанных наборах и не читал рассыпающиеся в десятых руках толстые журналы
– словом, тем, кто не знает, как умирал советский образ жизни, – тем непонятно, почему Глебову, высокого официального ранга гуманитарию, понадобился именно такой стол.
А мне и таким, как я, доживающим век пасынкам совка, все ясно.
Нормальной мебели в магазинах не продавали вообще. По записи или по блату с переплатой можно было купить белую румынскую спальню с плохо наклеенными пластмассовыми завитушками вместо резьбы или, бери выше, югославскую гостиную «из настоящего дерева!», дурно скопированную с бидермайеровских гарнитуров низшего разбора. Стоили эти радости примерно столько же, сколько кооперативная (нужны отдельные разъяснения, места нет) квартира, для которой они покупались.
В моей среде такой интерьер назывался «мечта жлоба». Лауреата из малокультурных. Работника торговли из еще не посаженных. Выездного «журналиста в погонах». И руководящего товарища вообще…
А приличные люди покупали мебель старую, в комиссионных или антикварных магазинах. Кто были приличные люди? Диапазон огромный. От народного артиста СССР, чью обстановку иногда можно было увидеть по телевизору: павловские неудобные диваны красного дерева в полосатом шелке, резные колонки под цветы и статуэтки, тяжелоногие круглые столы, а по стенам – темные холсты в багетах… И вплоть до меня, почти бездомного, почти безработного, с почти антисоветской повестушкой в столе и без всякой надежды опубликовать ее в вожделенной «Юности».
Был необходимый и в нашем кругу набор.
Столетний резной кухонный буфет базарного качества покупался в мебельной скупке рублей за восемьдесят. Погрузка-разгрузка силами приятелей, доставка леваком – еще за десятку. Рваные плетеные венские стулья с помойки, обнаруженной где-нибудь в районе Тишинки – там тогда сплошь сносили деревянные двухэтажки. Вообще тот район был полон сокровищ: выброшенные наследниками бабкины иконы, бронзовые дверные ручки… Безумцы стояли вокруг разведенных строителями костров и время от времени бросались за этими обломками в пламя, как герои, спасающие колхозных лошадей.
