Рэгтайм. Том 2 бесплатное чтение
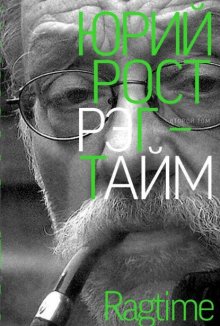
© Рост Ю.М., 2016
© Трофимов Б.В., дизайн, 2016
© ООО «Бослен», издание на русском языке, оформление, 2016
С годами мы находим все больше обаяния в прошлом, освещая темноту его светом былой любви и молодости. А может, это обаяние и вправду существовало, иначе зачем нас так тянет оглянуться?
Юрий Рост. «РЕТРО»
Рэгтайм 3
Монгольфьер времени
Монгольфьер времени
– А на какой, примерно, высоте летают обычно ангелы? – спрашиваем мы с сынком Митей Муратовым, проплывая на воздушном шаре в районе Сергиева Посада.
С земли слышны лай собак и негромкие переговоры местных жителей по поводу того, что нам нечего, по-видимому, делать, вот мы и летаем.
Это правда, мы парим в тишине исключительно для радости.
Пилот монгольфьера Сергей Баженов, фыркнув горелкой, подпустил в баллон, напоминающий формой и цветом гигантское пасхальное яйцо, теплого воздуха, и шар, задумчиво преодолевая инерцию покоя, поднялся в легкие облака.
– Наверное, на такой вот и летают. Чтоб из рогатки не пальнули или, не дай бог, из дробовика.
В просвете показалась Троице-Сергиева лавра.
– Смотри! – закричали Муратов и Баженов. – Та́к ведь ее никто, кроме них, не видел.
- Ангел по небу летает,
- Над пространствами скользит,
- Все за нами замечает,
- Охраняет, поучает,
- Строго пальчиком грозит…
- Отпусти нас, добрый ангел,
- И лети, куда летел.
- Не следи за нами, ангел, —
- У тебя довольно дел.
- Дай покоя, славный ангел,
- Образ жизни измени.
- Не летай так много, ангел,
- Лучше маме позвони.
- Нет! Он все-таки летает
- В платье белом и простом.
- Тихо крыльями мотает,
- Наблюдает, направляет,
- Ничего не понимает —
- Легче воздуха притом.
Легкий ветер нес шар вместе с облаками на север. В плетеной ивовой гондоле, окруженной белым мраком, пространство не чувствовалось. И время нечем было померить – фляжка давно опустела. Внезапно небо очистилось, и мы увидели под собой широкую мелкую реку и деревню с деревянной церковью под весело раскрашенными куполами. На околице стояли нарядно одетые женщины и дети.
Опустились.
– Что за праздник у вас, – спрашиваем?
– Так вы прилетели, вот мы и обрядились в старинное, у кого сохранилось. Чтоб лучше быть, – говорит бабушка в фартуке.
– Куда уж лучше, – распахивает руки Митя. – Вы замечательные! Мы вас сразу любим.
– Я же говорила, они теперь бригадами летают, – улыбнулась женщина в роскошной меховой шапке. – А вы всё, где крылья, да где крылья?
– Какой нынче год? – спрашиваем.
– У нас-то? Шестьдесят четвертый вроде, а у вас?
– У-у-у!
Мама в коммуналке
Мама не любила эту фотографию. Она долго была красавицей, моя мама, и ей всегда говорили, что она выглядит значительно моложе своих лет.
– Зачем ты меня так изуродовал? – Она была строга со мной.
Конечно, я мог бы сделать карточку получше, щелкни не одним, а несколькими выключателями, но я знал, что в коридоре на страже висят восемь счетчиков, и детский страх перед соседями не позволил мне осветить маму ярче. К тому же хотелось сделать фотографию в лучах наших собственных «сорока свечей».
Мы получили две комнаты в огромной, разгороженной фанерными щитами коммуналке сразу после войны. Вход в квартиру был с первого этажа, и отцу, который вернулся на костылях с фронта, не надо было мучиться с лестницами. Наверное, там не очень удобно жилось, но не скучно. Общий счетчик давал простор для выяснения отношений при оплате за электричество, и однажды во имя мира каждый жилец установил собственный счетчик, развесил частные лампочки, и все объединились:
бухгалтер из лагеря для военнопленных немцев, которые шили курточки с кокетками – «бобочки»;
актриса с пожилым мужем, увидевшая на гастролях у провинциальной гостиницы опухшего от голода сироту и усыновившая его;
семья скрипачей из кинотеатра «Комсомолец Украины» на Прорезной, которые без конца репетировали «Ехал цыган…» в крохотном пенале, примыкавшем к гигантской кухне, где на двух вечно занятых кастрюлями и выварками плитах кипели борщи и белье;
чета Миланских с умным мальчиком, который по просьбе родителей мог моментально сказать гостям, какой писатель (на букву «Г») написал «Мертвые души»;
теща директора театра, который в свободное от искусства время скупал часы и зажигалки на толкучке у Байковского кладбища;
лифтерша Федора Романовна, занимавшая антресоль над коридором, куда она, бесстрашно проклиная новую (с семнадцатого года) власть, по вечерам поднималась по стремянке из кухни;
слесарь-механик, бравший работу на дом и тревоживший соседей металлическим скрежетом, когда выпиливал шестерни величиной с паровозное колесо, жена его (в прошлом коллаборационистка), проводившая целые дни, лежа на подоконнике;
наконец, мой любимый сосед дядя Вася Цыганков, который честно отвоевал войну на «полуторках», «ЗИС-5», «студебекерах» и поэтому часто по утрам перед выездом на линию будил квартиру мелодией из фильма «Первая перчатка», наигрывая ее на малиновом аккордеоне «Вельтмайстер», и напевал: «Если хочешь быть здоров – похмеляйся. Похмеляйся, как встал…»
Теперь соседей нет, нет больше мамы, и от квартиры осталось лишь то, что вход на первом, а окна на втором этаже и до Крещатика – два шага.
Маялка
Однажды в Узбекистане я увидел девочку, игравшую в «маялку», или в «пушок», или в «люру», или… Кто постарше, может вспомнить сам – в разных местах ее называли по-разному, а играли одинаково.
Сколько лет прошло, как окончилась Вторая мировая война, а девочка все еще играет в игру послевоенных пацанов. Глядя на нее, я вытащил из прошлого слова, которые для девочки и ее сверстников уже ничего не означают, потому что сегодня лишены прежнего смысла.
Помните ровесников «маялки» – «пристенок» и «расшибалку» – игры парадных и подворотен, за которые из нашей, например, школы выгоняли? И запах битого кирпича и гари в развалинах во времена «казаков-разбойников»? И деревянные самолетики с вертящимися на бегу пропеллерами, которые выменивались на кусок хлеба у военнопленных немцев на стройках? (Мы, дети, первыми признавали в использованных фашизмом немцах людей.) А палочки артиллерийского пороха помните? И стреляные гильзы, которые мы находили на местах боев, и яичный порошок из американских подарков? А безбилетные нашествия на летние и зимние кинотеатры, чтобы, «проканав», в двадцатый раз посмотреть фильм Бориса Барнета «Подвиг разведчика»?
– Вы болван, Штюбинг! – орали мы вслух друг другу и про себя учителям, менявшимся в нашей школе на Прорезной улице в Киеве чаще, чем снижали цены на обойные гвозди и нежирную сельдь. Эти учителя, преподававшие физику, математику, химию, оставляли в наших стриженных под бокс головах лишь знания жизни…
И везде и всегда – «маялка». Огрызок свинца пришивали или прикручивали проволокой к кусочку меха, отрезанному от своей шапки или маминой горжетки (было такое послевоенное слово), и щечкой стопы подбрасывали вверх с утра до вечера.
После сорок пятого мы дорожили своим детским миром, может быть, понимая, что детской войны не бывает. И она преследует нас, уже взрослых, напоминая, где не ждешь, о том, что мы все еще живем после войны. Кажется, напрасно так часто мы пугаем детей минувшими их ужасами. Это наше прошлое. Дети не могут его связать со своей растущей жизнью. Не волнуйтесь, что память их не будет загружена. У них уже есть свои войны, по близости лишенные романтического ореола, свой запах пороха и битого кирпича.
…А девочка все подбивает «пушок» и подбивает.
Пушкина нет дома
Случалось, утром я просыпался от солнечных зайчиков, плясавших на потолке, от скрипа уключин, всплесков падающих в вялую воду весел. Я слышал команды рулевого, шелест пологих волн, раздвигаемых шлюпкой, одинокие шаги раннего прохожего, грохот порожних лотков, складываемых у булочной в еще теплые от раннего хлеба фургоны, и гаммы глухо за стеной…
Я жил на Мойке, в бывшем доме Дельвига напротив Пушкиных наискосок, и иногда, глядя на окна их квартиры, ждал с любопытством – вдруг растворятся? У себя в доме они могли бы видеть те же блики и слышать те же звуки, доживи они на Мойке хоть раз до лета.
Впрочем, это были лишь догадки, потому что в квартире на Мойке, 12 я тогда не бывал. Не раз днем приближался к дому, стоял перед аркой. И белой ночью, проплыв по Фонтанке и Мойке, привязывали мы с друзьями взятую напрокат у Аничкова моста лодку к кольцу набережной и шли во двор (в те времена всегда открытый), садились на белую скамью и, глядя в три бессветных окна кабинета, скромно выпивали за Пушкина. Каждый за своего.
Переступить порог я не считал себя вправе. Что-то мешало мне войти в чужой дом без приглашения. Просто так. Какая-то вороватость предполагается в посещении (особенно первом, когда ты себя не можешь уговорить представиться знакомцем – я у вас бывал) места, не предназначенного для стороннего (безразличного либо заинтересованного – неважно) взгляда.
Ну разумеется, это музей. И в нем экспозиция. Но это и квартира, и в ней реальные вещи, которые принадлежат Александру Сергеевичу и семье.
Чувство неловкости преодоления порога знакомо не одному мне. И если случалось счастье быть представленным Месту кем-нибудь из достойных друзей Пушкина (деликатным и знающим), то происходило Знакомство, а затем и привыкание, которое впоследствии болезненным образом отзывалось на любое научное приближение экспозиции к исторической правде. Зачем мне второй раз преодолевать порог? Обновляясь, квартира теряла друзей дома. Переставала быть «настоящей».
Быть может, для тех, кто войдет в нее впервые, она обретет это свойство. Дай бог. Мне же не нужна информация о нем.
Все, что Александр Сергеевич считал нужным сообщить о себе, он сообщил в стихах и прозе. Зачем же мы читали написанное не нам, вплоть до долговой книги, и смотрели на то, что составляло его частную жизнь?
Ах да, чтобы глубже постичь. Но вороватость все же присутствует, не так ли: любопытно, что внутри.
И вот однажды без предварительных замыслов и планов, неожиданно для себя свернул я в подворотню и в дверь налево и по крутым ступенькам пошел вниз, пригибая голову, и дальше под сводчатым потолком, мимо вежливого гардеробщика и приветливой кассирши к двери с надписью «хранитель» и, постояв секунду, ступил за порог.
За канцелярским письменным столом, обвязанная платком вокруг поясницы, сидела обаятельная и приветливая женщина – Нина Ивановна Попова, тогда хранитель музея и, как быстро и счастливо оказалось, тот самый достойный друг Пушкина, с которым уместно появиться в доме.
Это я знаю сейчас (уже много лет). А тогда я вошел, сел на стул и стал рассказывать, а не оправдываться вовсе, почему я долго не решался ступить за священный порог.
Мы говорили долго, а потом Попова сказала:
– Что мы здесь сидим? Пойдемте наверх.
И мы пошли.
У меня не было возможности раньше общаться с современниками Пушкина. Что там, и со своими современниками не всегда найдешь возможность поговорить. А тут… В разговоре мы шли, шли: по буфетной, по столовой, по гостиной, по булыжной Сенатской площади, по невскому льду, мы скользили по паркетным полам дворцов и летели на перекладных от станции к станции, мы пили жженку, путались в долгах, мы бродили по Летнему саду («…Летний сад – мой огород»), стояли, опершись о гранит, у Кокушкина моста, бродили по Коломне, по Фонтанке, по Екатерининскому каналу, мы шли к Мойке и в октябре 1836 года были там (здесь) и уже миновали спальню, неудобную, перегороженную когда-то ширмой, и детскую… Мы спешили, но опоздали. Как все. И остановились на пороге кабинета 10 февраля 1837 года. Часы на камине показывали 14 часов 45 минут… Беда.
Потом, возвращаясь в мыслях к этому первому посещению, я думал, как ей повезло с выбором.
– Нет, я не выбирала, все произошло само собой.
После университета, работая экскурсоводом в городском бюро путешествий, привезла она однажды группу на Мойку, 12 и только начала рассказ, как стало ясно – это любовь. Все было столь очевидно, что Попову немедленно пригласили в музей. Она согласилась не только потому, что музейная работа давала возможность оживлять ситуации, лишь обозначенные историей, но потому, что она давала возможность видеться…
– Он в творчестве своем ушел далеко за грань, – говорила Нина Ивановна тогда, в первое наше знакомство, – а в человеческом смысле он остался на земле, со своими невзгодами, несчастьями. Опыт каждого человека присутствует в нем. Он не зачеркнул ни юношеской восторженности, ни права на ошибку. Наверное, поэтому он доступен каждому…
Потом она говорила, что квартира на Мойке дорога ей и тем, что люди ищут здесь объяснение его жизни и смерти.
– И вы ищете?
– Александр Тургенев, – отвечала Попова, – вошел в дом, когда дьячок читал псалтырь. Он вошел на словах «правду свою не смог скрыть в сердце своем». Может быть, это и есть объяснение. Он жил по своей правде и умер, защищая то, что считал своей правдой… Но можно еще искать.
Мы стояли над витриной, где лежал медальон с пушкинским локоном.
– Он был во всем неоднозначен, даже в масти. Одни видели его блондином, другие – рыжеватым, третьи – брюнетом.
– А на самом деле?
– Когда локон лежит на ладони, виден переход от ярко-рыжего к черному. – Она задумалась, вспоминая. – Я не чувствовала священного трепета, только удивление – волосы живые… И видишь – был!
Нина Ивановна подошла к письменному столу Александра Сергеевича и в чернильном приборе с арапчонком, подаренном Павлом Воиновичем Нащокиным, зажгла две тонкие, почти невидимые уже из подсвечников восковые свечи. Они скоро догорели и погасли сами по себе.
Надо купить свечи, подумал я, пока Пушкина нет дома.
…Спустя год, летом, был еще один визит на Неву. Выйдя утром из поезда на Невский проспект, мы с другом пошли в сторону Адмиралтейства и, не дойдя до Зеленого моста, поворотили на Мойку. Нина Ивановна Попова, на счастье, была в музее. Проведя два часа в Квартире Пушкина, мы больше никуда уже не ходили, потому что хотели не разрушить случайным общением или пейзажем мир пушкинского Петербурга, а, наоборот, сохранить ясное ощущение необходимости жить светло, чисто и доверительно.
…Теперь я, вспоминая тот разговор, представляю себе день, который хотел бы прожить в Петербурге с Ниной Ивановной Поповой.
Вероятно, это был бы зимний день или день на рассвете весны… Промозглый и ветреный… Мы бы встретились с Поповой у Зимнего (если бы она была свободна где-то около пяти) и долго и тщетно пытались бы поймать такси, отличающееся в Питере какой-то особенной увертливостью от пассажиров.
Но вот мы едем… Конечно, можно сказать: на Черную речку, к месту дуэли, но страшно – вдруг он не очень знает, и мы говорим, охраняя поэта: «Комендантский аэродром». Не знаю, почему секунданты Данзас с д’Аршиаком тогда выбрали такое неприветливое место, или это мы окрасили его своим чувством? Там никогда и раньше не было уютно, а теперь, когда к мокрым, промерзлым деревьям с одной стороны подступили промышленно построенные монотонные ряды жилых домов, с другой – молчаливый забор, а с третьей – рычащая дорога с разъезженным грязным снегом, ощущение запустения почему-то поселяется в вас.
Гранитный и весьма официальный обелиск, воздвигнутый на месте трагедии в год ее столетия, больше напоминает о времени, когда сей памятник был поставлен, чем о том дне, из-за которого он стоит. Сердце просит впечатлений для сострадания, оно ищет спасительной зацепки для самообмана: вдруг не здесь, вдруг успели друзья, вдруг не он – и бесконечные «если бы» роятся в голове. И уж если нет, невозможно, то хочется увидеть эту землю, как он видел ее в последний раз… Мне не нужна географическая точка – «здесь» (вовсе, кстати, не точная), мне ничего не говорят заурядные парковые дорожки, скамейки, каменный столб, дома, заборы, склады (что ли) вокруг. Мне больно смотреть на дуэль со стороны, с трибун… Как хотелось бы стать вместо него, я закончил Институт физкультуры, у меня крепкая рука, да и тренировался я много раз, прицеливаясь из «лазарино», который, по словам моего друга Танасийчука, знатока оружия тех времен, не хуже «лепажа».
…Но сегодня это место такое, как есть, и поэтому мы с Ниной Ивановной идем прочь от дороги вглубь, и она говорит:
– Никто не знает в точности, где была дуэль. Он упал у берез, по-видимому, потому что Данзас отломил кусок коры у того места. Был большой снег, и едва ли они ушли далеко от дороги. Утрамбовали площадку. Десятого февраля в половине пятого солнце было бы так низко, как теперь в половине шестого. И хотя было пасмурно, они расположились, видимо, чтобы свет падал сбоку. Один северней другого на двадцать шагов. Когда раздался выстрел, между ними было пятнадцать.
Мы с Ниной Ивановной нашли бы березы (там их немного, и, верно, они другие) и разошлись на двадцать шагов…
Двадцать шагов – это очень мало и очень грустно. Мы постояли бы несколько минут и стали сходиться.
– Место святое, – сказала бы Нина Ивановна, – а сюда даже экскурсии не водят. Оно не населено отчего-то духом пушкинской трагедии… Может быть, сюда надо привести ландшафтных архитекторов, скульпторов… Это очень ведь дорогой русскому человеку кусочек земли, он должен тревожить мысль и сердце…
Попова медленно пошла бы к дороге, а я остался ненадолго, чтобы попробовать увидеть эту землю так, как видел ее смертельно раненный Пушкин. Чтобы снять землю у Черной речки с высоты умирающего человека. Так, наверное…
Поскольку мы фантазируем, предположим, что такси нас дождалось и шофер, молодой парень, спросил:
– Куда теперь?
– Теперь на Мойку.
– Ну да, конечно…
Там еще бродили бы посетители. Музей работает до семи вечера, да и после семи во двор дома Волконских, где Пушкины снимали первый этаж, приходят люди постоять под окнами кабинета… Три окна: четвертое, пятое и шестое от арки входа – окна Александра Сергеевича.
А мы с Ниной Ивановной в придуманный мной день сняли бы пальто у нее в кабинете и вслед за последней группой поднялись в квартиру… Там тихо… Мы прошли бы по комнатам, и она что-то вспомнила бы, о чем раньше не говорила, подошла бы к окну и, пока смотрительницы закрывали ставни, сказала:
– Сейчас такой же вид, как тогда. Снег, лед, решетка набережной… Знаете, ведь у Пушкиных было одиннадцать комнат, но я не уверена, что надо их все восстановить. Человек должен пройти по квартире, не перегружая себя ненужной информацией. Он должен войти в пушкинский кабинет, впитав атмосферу дома, а не подробности его быта, которые к тому же и восстановить невозможно. Мне бы хотелось, чтобы в доме поселились звуки. Может быть, музыка? Александрина брала уроки и, вероятно, часто упражнялась.
Она подошла к прямострунному пианино, открыла крышку, засветила свечи, потому что ставни уже закрыли, а свет не зажгли, и заиграла вальс Грибоедова…
– Оставьте меня здесь на ночь, – попросил бы я. – Мне хочется послушать, как звучит этот дом ночью, когда никого нет, как он живет… Я буду охранять его. Пусть одну ночь.
– Это невозможно, – сказала бы Нина Ивановна, даже в выдуманном мной вечере, и улыбнулась бы своей замечательной улыбкой, а в гостиной все еще звучал бы отзвук аккорда…
Но чего только не достигаем мы в фантазиях своих!.. Как мы красноречивы и обаятельны, как уверенно решаем мы проблемы свои и чужие… Давайте, читатель, забудем, что строгая милиция опутала ночную квартиру хитроумной сигнализацией, что все двери закрыты на замки, а ключи на пульте у милого и бдительного милиционера Тани. Забудем это.
Пусть Нина Ивановна уже дома, ключи от музея на месте, сигнализация начеку, а я – в квартире… «Как будто», как говорят дети. И как будто уже восемь вечера… или без пяти девять. Темно, потому что электричество выключено, да и не было его – электричества – тогда. Сквозь ставни пробивается свет уличных фонарей, но, потратив на свои усилия слишком много энергии, он едва достигает круглого стола в гостиной, за которым я сижу не двигаясь.
В темноте тишина оглушает, и стук собственного сердца с тревогой воспринимаешь как чью-то нервную поступь. Потом к ним примешиваются торопливые шаги каминных часов рядом со мной, размеренный ход больших деревянных на полу в столовой, за которыми едва поспевают бронзовые… Я сижу под портретом Пушкина (копия с Кипренского) и слушаю. Шаги заполняют дом. Кто-то идет и идет, не удаляясь и не приближаясь. Это время. Оно живет в этой квартире (впрочем, как и в любой другой). Я встаю из-за стола, сквозь анфиладу пытаясь попасть с ним в ногу, но в темноте страшновато. К тому же я опасаюсь неловкостью своей нарушить порядок, заведенный в доме. У меня нет права участвовать, я всего лишь гость, свидетель, понятой этой ночи. Мне надо убедиться самому, что этот дом живой, и вот я шагаю, не удаляясь и не приближаясь и даже не вставая из кресла.
О чем я думал, что грезилось? Появился ли хозяин? Нет. Его и ночью не было. И не было видений, и мысли все более простые, шепотом внутри: был точно. Здесь. Вот: очень близко был. Сколько времени я сижу? Ветер воет в камине за тканым экраном. Узкая полоска света падает на портрет Натальи Николаевны. У нее асимметричное лицо, левая сторона его у́же и добрее. Александр Сергеевич на акварельном портрете смотрит в сторону детской, где висит его последний прижизненный портрет, а под ним, в стеклянном ящике – простреленный его жилет. Андрей Битов написал:
- Сюртук мальчика
- С модной вытачкой,
- Тоньше пальчика
- В фалде дырочка.
- В эту дырочку
- Мы глядим на свет —
- Нам на выручку
- Кто идет иль нет?
- Жил один Сверчок…
- Господи, прости!
- Наступил молчок
- На всея Руси.
Помню, как во время дневного посещения квартиры Попова, рассказывая о белых нитках, которыми сшит был левый бок жилета, разрезанного, видимо, чтобы легче было снять, не потревожив раненого, развела руки, словно тронула за оба плеча кого-то невидимого мне, и опустила, спохватившись: быть может, она имеет право на этот жест, поскольку не просто действительно знает, каким он был, живя среди его вещей, но любит и очень хочет понять.
Он очень близко подпускает нас к себе, мы не чувствуем дистанции времени, и возможность трактовать себя он оставляет бесконечную. И настроение, и мысли наши понятны были (это «были» хочется зачеркнуть) ему. Так много людей вмешивались в его жизнь, что это дает ему право теперь вмешиваться в нашу. Так говорила Попова.
Откуда она знает про то, как он жил, почему я ей верю?..
Она сидела на стуле и смотрела в окно. Последний прижизненный портрет работы Линева висел на пустой стене. Один.
– Я силюсь представить его, понять хоть что-то в его жизни, – говорит Попова, отвергая мои слова о ее правах на Пушкина, – и чувствую, что не могу.
Оставив их в детской вдвоем, я вышел в кабинет. Кстати, она тоже часто выходит из комнаты, когда чувствует, что гостю и хозяину не нужен посредник, хотя любит наблюдать людей на Мойке, уверенная, что они проявляют себя здесь как нельзя лучше. Тут действительно трудно выдать себя за другого. И если один известный поэт, задержавшись в кабинете, прилег на диван, где умер Пушкин, и не умер сам после этого, значит, это очень здоровый и современный поэт, несмотря на некоторый туман, которым себя окутывал. И романтический режиссер, шепотом (потому что кабинет – храм, святыня) сказавший жене: «За этим бюро Пушкин работал лежа, очень удобно, срисуй, и надо заказать такое же», – тоже очень здоров. (К тому же он, вероятно, любит работать, как Пушкин, валяясь до трех, иной раз, часов дня…)
– Хотите пройтись по кабинету с его тростью?
Я смотрю на Нину Ивановну с подозрением. Она смеется – тут грань едва видна. Примерить на себя пушкинский жилет – одно, а всего себя примерить к нему – иное…
– Ну что, хотите пройтись?
Я близорук и из опасения не рассмотреть грань отказываюсь от прогулки. Впрочем, кажется, трость мне и не дали бы, потому что, показывая, Попова не выпускает ее из рук.
Это была живая вещь. Вернее, со следами пушкинской жизни. Такую вещь нарочно не сделаешь. «Земляной» ее конец был «стоптан» в одну сторону – то ли он приволакивал трость при ходьбе, то ли опирался, словно на посох.
– Это его книги? – спрашивал я.
– Нет. На тысячу томов меньше. Видите – дверь в гостиную заставлена книжными полками.
Вижу. Даже дверь вижу и кушетку, приставленную Пушкиной к этой двери в трагические февральские дни, потому что я сижу в фантазиях своих в синей гостиной в тишине и темноте… За окном слышны одинокие шаги прохожего, дальний гром порожних лотков, складываемых у булочной в теплые хлебные ящики, и гаммы – глухо…
И вдруг какой-то добрый злоумышленник, пробравшись незаметно в новый Эрмитаж, обрезал люстру над парадной лестницей, и весь хрустальный хлам запрыгал вниз по мраморным ступеням к ногам атлантов и дальше по Миллионной к Мойке, на которой, сталкиваясь с готическими ледяными дворцами и звеня, кружились прозрачные ладожские льдины. Смешавшись, лед с хрусталем осыпался у окон квартиры и с тихим шелестом ушел ко дну… Это играли полночь часы в столовой. Потом двенадцать деловых ударов, и в наступившей тишине я неожиданно услышал:
- Люблю зимы твоей жестокой
- Недвижный воздух и мороз,
- Бег санок вдоль Невы широкой, —
- Девичьи лица ярче роз…
Под окнами стояли мои друзья Алла и Толя Корчагины. Вернее, стояли бы, если все это было бы правдой, я уверен.
Они постояли бы и тактично ушли, а я не посмел себя обнаружить и, когда затихли голоса, выстроенные в ритм пушкинских стихов, зажег свечи в шандале на столе. Колесо тени от абажура медленно покатилось по потолку. Ночь пошла на убыль.
Я сидел у стола и думал: надо написать о любви. Как Нина Ивановна любит его, как он заполнил всю ее жизнь, как он научил ее чувствовать («До встречи с ним я была синим чулком»), о том, что у нее был муж-писатель, что ей постоянно надо было переключаться… И не забыть бы, кстати, что Наталья Николаевна пыталась переписывать начисто рукописи Пушкина, да не нашла в этом радости.
Потом я вспомнил, что какой-то негодяй, приехав из-за рубежа в отпуск на родину, пытался украсть гравюру на кости из музея и что его друзья оказались влиятельнее, чем друзья Пушкина (увы), и вместо наказания он вновь уехал представлять нашу торговлю – в Италию, кажется…
Я думал о том, что друзья Александра Сергеевича все же сильны и благодарны, что они обязательно отремонтируют ему дом, замостят двор и купят лошадей в конюшню. Почему он не должен иметь своего выезда?..
И откуда эта музыка? Гаммы? Вальсы?.. Клавиши прямострунного пианино нажимаются сами, молоточки ударяют куда надо и извлекают точный, щемящий звук… Были такие музыкальные автоматы. Но такого нет в квартире, только в планах (после ремонта)… Сами клавиши нажимаются. Впрочем, и Пушкина тоже нет. Но клавиши нашей души нажимаются сами…
Я очнулся от звука, который мог разбудить этот дом и тогда. Дворник под окнами соскребал с тротуара снег. Который теперь час, день, век? Это и был итог ночи – объединение времени методом потери его. (Или в нем?)
Не знаю, кто открыл бы квартиру и выпустил меня на улицу, может быть, я вышел бы сам, слившись с группой посетителей, но часов в десять или одиннадцать я ступил бы на набережную. Там был бы день!
Ночью шел снег, а теперь – солнце, сосульки на решетках мостов, вода в следах… Я пошел бы по Мойке пешком в Коломну, во мне звучал бы неясный аккорд прямострунного пианино, вокруг было бы стереоскопически ясно, и предметы, люди, поступки после нереальной ночи были бы полны смысла и добра.
У Крюкова канала я сообразил бы, что свечи в чернильном приборе с арапчонком догорали и надо купить новые. Я купил бы их в Никольском соборе по полтора рубля за штуку и пошел бы к выходу. В сумерках собора я увидел бы огромного черного кота, который лежал на батарее, свесив лапу в белой перчатке до локтя (видимо, вернувшись с бала, не успел снять). Шагнув из полутьмы в свет, я едва успел поймать глазом улетающую в небо Никольскую колокольню великого зодчего Саввы Чевакинского. В ясном небе ее было видно долго…
А все-таки жаль, что Пушкина не было дома! Потом ненадолго усомнился, зачем ему моя компания, но тут же нагло и весело подумал: «А вдруг!»
Мы подружились с Поповой на долгие годы и дружим по сей день, хотя в Фонтанном доме, где она нынче возглавляет музей Ахматовой, бываю не часто. Я полюбил Нину Ивановну вовсе не для того, чтобы наилучшим образом быть представленным Александру Сергеевичу… Скорее, я потянулся к живому Пушкину, чтобы время от времени иметь счастье слушать ее рассказы об отсутствующем друге.
А тогда я вернулся бы на Мойку днем и увидел Нину Ивановну. Она почувствовала бы, что было прожито за день и ночь, и спросила бы:
– Ну что, узнали ли вы больше о Пушкине?
– Нет, – ответил бы я. – Но благодаря вам я понял, что без него скучно жить.
Рыжие
Даже на черно-белой фотографии видно, что эти четверо братьев совершенно рыжие.
Такая удача. Клички и любовно-ироническое отношение им обеспечены на всю жизнь, и теперь можно не думать о системе поведения. Они обречены выпадать из общего ряда.
Рыжий – не столько обилие веснушек и пожар на голове, сколько мировоззрение и образ жизни: лукавая простодушность, скрывающая терпящий насмешки ум, снисходительность к глупости, театральность и естественность. Блистательный питерский клоун Леонид Лейкин пересказал мне слова итальянского коверного: «В хорошем “рыжем” живут два человека. Первый постоянно думает о втором, а второй не подозревает о существовании первого».
Хитрость рыжего не приносит выгоды самому герою, она видима всеми и безопасна для окружающих. Быстрое прощение – свидетельство отсутствия злопамятства, но не отсутствия боли. Обид рыжий не копит, постоянно попадает в якобы глупые ситуации, из которых по ленивой изобретательности выходит с честью, не победив никого.
Этот гороскоп, как, впрочем, любой, совершенно неточен, поскольку касается лишь талантливых «рыжих», то есть рыжих чистого жанра. Белая кожа и огненный цвет волос не дают права на ношение этого высокого звания, хотя по первости могут ввести в заблуждение. Распахиваешь объятия: «Здравствуй, брат!» – а из-под белесых ресниц холодный, самоуверенный взгляд, полный невыносимого достоинства. Нет, милейший, какой же ты рыжий – ты совершенно черный. Ты жаждешь исключительности, а истинно рыжий такой же, как все, только другой.
Эти четверо вырастут и станут разными, но, может быть, кому-нибудь из них повезет, как однажды повезло мне, когда серьезный человек, вернувшись из заграничной командировки, сообщил бывшему моему главному редактору:
– Все вели себя солидно, а ваш – как рыжий клоун.
Я храню эту оценку как самую дорогую, хотя и несколько завышенную.
Теперь к героям фотографии…
Вперед, ребята!
Вас ждут великие дела. Но… не забывайте о жанре. Он рождает братство.
С днем рождения. Вообще.
Маня
Маня покосила траву, вошла в избу и спросила:
– Самовар кипел?
– Кипел, баба Маня.
– В Москве как с дровами?
– Нет дров в Москве. Там паровое отопление и газ.
– А самовар как ставить? Одними газетами не согреешь. Или вы чай там не пьете?
– Пьем. Чайник поставишь на плиту, или электрический включить можно.
– И правительство так?
– Наверное.
– По-новому, значит. А детей как делаете? Тоже чего-нибудь включаете или как раньше?
– Как раньше.
– Значит, наука еще не дошла, чтоб без мужика. Слабая пока еще наука, слава тебе господи. У тебя парницёк или девка?
– Парень, хотя я девочку хотел.
– Так ведь не руками складёшь. – Маня поставила на чистенькую деревянную столешницу три чашки с блюдцами и выглянула на дорогу. – Вот и мой партиец пиздяной идет. Сейчас познакомишься. Он видишь что удумал: в коммунисты записался, чтобы зубы новые вставить. Им в районе без очереди зубы справляют. А я-то осталась беспартийная… – Она залилась безззубым смехом. – Иван, – закричала баба в окно, вытирая слезы, – у нас гость. Журналист Юрка из Москвы… Сейчас я ему подам! – Она подмигнула мне, метнулась к печке за занавеску и оттуда в сени.
Через минуту, сверкая ослепительными зубами и повязанный платком на манер пирата, вошел муж бабы Мани Иван Павлович.
– Ну, – сказал он медленно и членораздельно, – как там благосостояние? Крепчает?
– Крепчает! – Я во весь рот улыбнулся, пожимая ему руку.
Павлович посмотрел на меня пристально и спросил:
– Партиец?
– Нет, свои.
– Ну, значит, мы познакомились… Тогда я пойду сниму зубы, а то жмут, как тесные сапоги.
Он скрылся за занавеской и скоро появился счастливый:
– По такому поводу…
Я полез в рюкзак. Маня, метнув лукавый взгляд, поставила на стол соленые грузди и картошку.
– Говорила ему: не ходи, обманут. Теперь гляди – без зубов, а все равно в партии.
Павлович махнул рукой и стал разливать.
Баобаб
Что остается от детства? Длинный день, долгое лето, бесконечная жизнь впереди и краткая внезапная мысль, рождающая оторопь и обиду: неужели кто-то будет гонять в футбол под окном, строить шалаш из декораций в театральном дворе, лежать на нагретом солнцем песке в невидимом стоячем облаке запахов полыни и скошенной травы, а меня не будет?
- О, как мы любим лицемерить
- И забываем без труда
- То, что мы в детстве ближе к смерти,
- Чем в наши зрелые года.
Ты, маленький и резвый, бежишь мимо ползущего времени и все успеваешь. Как хорошо, как весело любое занятие. Как радостно всё учит тебя. Хоть молотьба овса, хоть школа. Как занимательны друзья, как много обретений, узнаваний, открытий. Разочарования легки и выносимы.
Влюбленности – до холода в животе. Впрочем, это уже юность, или молодость, и время разгоняется помаленьку.
Взрослеем. Движения твои затормаживаются. Начинается период усилий и потерь.
- Еще обиду тянет с блюдца
- Невыспавшееся дитя,
- А мне уж не на кого дуться
- И я один на всех путях.
Ну, не совсем один. Просто поиск ленив, а время споро, и уносит тех, кто привязан не крепко. Перебери узы. Еще многое есть, хотя глаз обрел несвойственное – видеть не то, что снаружи, а то, что внутри. Откуда во мне Мадагаскар? И это одинокое дерево? Ах ты, милый! Это знак? Нет-нет, это баобаб. Какой толстый гладкий ствол, какая веселая панковская прическа на макушке, сколько влаги он накопил. (Вода – жизнь!)
То-то.
- Но не хочу уснуть, как рыба,
- В глубоком обмороке вод,
- И дорог мне свободный выбор
- Моих страданий и забот.
Осип Эмильевич понимал.
Важно, что это не бывает, а есть.
Утраченные негативы похорон Высоцкого
Фотопленка – таинственная вещь. Она живет своей жизнью. Зачинаясь в темной утробе фотоаппарата, негативы ждут рождения. Недоношенные при проявке – они прозрачны и слабы, переношенные – контрастны, жестки и лишены подробностей. Нормально рожденный негатив – весел и здоров, какое бы печальное событие ни отражал. В нем все звенит от гордости, что запомнил бывшее с бриллиантовой чистотой и честностью. Его можно сразу напечатать и тем потешить глаз напоминанием недавно виденной картины, можно отложить на потом, чтобы никогда об этой картине не вспоминать, а можно спустя годы сунуть руку в ворох времени, чтобы вытащить из него перфорированную ленту чужой и своей судьбы и ужаснуться, как давно ты живешь и как скоро.
Негативы прощания страны с Владимиром Высоцким были пристойного качества. В основном они отражали то, что происходило в Театре на Таганке, вокруг него, и мое собственное растерянное потрясение. Иногда я забывал менять экспозицию, отчего кадр то засвечивался, то, наоборот, уходил в траурную черноту. Но в основном изображения были отчетливыми и ясными, как видимая часть жизни тех, кому они были посвящены.
Теперь их нет. Никого.
Я встречал негативы Высоцкого, перебирая другие жизни, а к случаю не нашел. Так бывает. Список потерь растет, наводя на мысль о том, что кто-то дает тебе знак: память о жизни своей, о друзьях своих, о дорогих тебе людях и встречах, о высоких и трагических моментах, свидетелем которых ты был, о любви своей, об утратах своих – в себе же и храни. Не освобождайся от прожитого одним лишь коллекционированием фотокарточек или собиранием архива, тем более что никому, кроме тебя, в нем не разобраться, да и не нужен он, кроме тебя, никому.
Почти.
Впрочем, все рассуждения – может быть, лишь оправдание бессистемной жизни негативов, в точности копирующей твою собственную.
Хотите перечень фотографических утрат?
Первая (всеобщая) легальная съемка Андрея Дмитриевича Сахарова в конце февраля 1970 года. Помню не только кабинет в «Комсомольской правде», где тогда работал, но ящик и конверт, в котором лежали негативы. После высылки Сахарова в Горький мой друг Ярослав Голованов, знаменитый к тому времени журналист, сказал:
– Ты бы спрятал куда-нибудь сахаровские негативы. Потом не найдешь и будешь жалеть.
Вот я и жалею. Хотя спрятал. Мы открыли ящик и не нашли в нем конверта. Он исчез. Голованов мгновенно (хоть и не навсегда) потерял ко мне интерес и вышел из комнаты, что означало крайнюю степень осуждения.
Сохранилась одна фотография у меня, другую мы с Еленой Георгиевной Боннэр нашли после смерти в личных бумагах Андрея Дмитриевича. Довольно потрепанную. Оказалось, что именно эту карточку Сахаров, ухаживая за Боннэр, подарил ей, чтобы была.
Вторая – мистический побег всей многолетней съемки квартиры Пушкина. И среди них неповторимые (впрочем, каждый кадр неповторим) негативы, сделанные во время моего одинокого пребывания мартовской ночью на Мойке, 12. Может, исчезли они потому, что, сговорившись о ночном визите с хранителями, я не спросил согласия хозяина. Но ведь я не заходил ни в кабинет, ни в детскую, коротая ночь при свечах в гостиной. Отпечатки, впрочем, остались (видимо, за проявленный такт) и даже послужили основой для выставки «Пушкина нет дома…». А негативов нет.
Третья – отснятые пленки трагедии на Мюнхенской Олимпиаде напротив дома, захваченного арабскими террористами, за невозможностью напечатать в газете советского периода были вовсе скручены в рулон, который по истечении времени найти не удалось.
Смерть Высоцкого тоже произошла во время Олимпийских игр. В Москве. Эти игры не были полноценными из-за бойкота по поводу вторжения СССР в Афганистан. Помпезность и показуха парализовали город. Надо было показать торжество и возможности строя, а тут вдруг умер Высоцкий. Народная трагедия. Не было ни одного дома, где не звучали бы его песни. Он был любим и понятен. Беззащитный защитник. Актер, певец, поэт, любовник. Друг всем, страдающий от одиночества и от отсутствия его.
Кадр первый. Он тянется по Радищевской улице от ее устья, от Котельников, до театра и состоит из тихой, бесконечной и организованной очереди по-летнему одетых людей. Они молчат, и лица их печальны. Цветы они будут складывать на сцене у гроба, молча выходить из зала и не уходить, а накапливаться на Таганской площади и по обеим сторонам Садового кольца, чтобы проводить его в последний путь.
Ближе к театру скорбную широкую очередь обожмут ограждением, у которого с неоправданной частотой стоят воткнутые в мягкий асфальт милиционеры. У церкви – штабной автобус с рациями и громкоговорителями, наполненный офицерами и самим начальником ГУВД генералом Трушиным.
День ясный, солнечный. Легкие облака плывут по небу. Не помню куда.
Кадр второй. Сумрачный. На сцене – гора цветов, на заднике – портрет Владимира Семеновича. У гроба – артисты театра, друзья театра, родные Высоцкого, сыновья, Любимов, Влади… Плачущий Всеволод Абдулов – близкий, нет не так, просто друг. Он прижался лбом к сложенным на груди рукам и не может отойти.
Люди идут, глядя на Высоцкого, не отвлекаясь на знакомые по фильмам и спектаклям лица. Эти лица – мертвая декорация, не имеющая отношения к их личному горю.
Они идут – молодые, старые, женщины, мужчины. Разные, равно любящие этого невысокого, мощного, потерянного ими человека. Они уходят в солнечный свет продолжать любить его голос. Дальше они безгласны. Им кажется, что больше некого хоронить, хотя это не так!
Они еще придут во Дворец молодежи прощаться с Сахаровым и в Вахтанговский театр на последнее свидание с Булатом. Они еще погорюют о себе, покинутых. Они еще не знают, что наступят времена, когда будет все можно. Правда, опять не им.
Кадр третий. Улица, запруженная людьми настолько, что гроб поднимают над головами и поэтому возникает ощущение, что его передают из рук в руки. И он плывет над молчаливой толпой, потому что никто не хочет расступаться. Или не может.
Похороны Высоцкого стали демонстрацией любви. Такая демонстрация опасна для власти. Потому что объединяет людей по личной неконтролируемой привязанности. Вместо предложенного символа – выбранный. Но угрозы режиму в ней нет. Угрозу представляет бесстрашная ненависть униженных. Наш же люд в большинстве безразличен к своей судьбе. У него короткая страсть. Или кроткая. На этой же карточке видна деловая суета. Организационная. Мало причастные к жизни усопшего персонажи, чрезмерно озабоченные изображением близости к кумиру. Излишне подробно все рассаживаются по машинам. В советском траурном автобусе ПАЗ – самые близкие.
Юрий Петрович Любимов через открытое стекло жестами дает указание. Вереница пробирается сквозь толпу…
Кадр четвертый. Голое, без машин, Садовое кольцо. На тротуарах люди молча провожают автобус взглядом. Тогда еще не было моды аплодировать ушедшему артисту или поэту. Машины уходят на кольцо в сторону Ваганьковского кладбища.
Пусто.
Высоцкий умирал в кругу друзей. Горестное событие стало известно сразу и всем. Не то ему бы не дали омрачить торжество олимпийских принципов в Москве, как это случилось во время Игр доброй воли в Питере с нашим первовосходителем на Эверест Владимиром Балыбердиным. Его убил автофургон с пьяным иностранцем за рулем. Альпинист был за рулем, документы при нем. Однако его тело положили в холодильник как неопознанное и сообщили жене спустя неделю после окончания спортивного действа. Замечательный парень, выдающийся альпинист, награжденный, между прочим, высшей наградой государства, провалялся в морге второй столицы этого самого государства как безымянный бомж.
Теперь изменилось все: появились компьютеры, легальные миллионеры, страна стала другой, какой не знал ее Владимир Высоцкий; а люди, несмотря ни на что, все еще те же самые. В большинстве.
Не выпускайте негативы из рук. Это память. Ну разумеется, ваша, но иногда может пригодиться и кому-нибудь заинтересованному ненадолго.
Марина Мстиславовна, Любовь Андреевна и «В.Ш.»
Аня:…А в Париже я на воздушном шаре летала.
А.Чехов. «Вишневый сад»
«Слава как усы. Примерить хочется каждому мужчине. Глядишь, иному и к лицу.
Женщине же – напротив: усы решительно ни к чему, хотя и обращают на себя внимание. Достигшая славы женщина вызывает сочувствие. К тому же где-нибудь да отыщется почитатель, который в поисках понимания у той части общества, которая, все забыв, ничего хорошего не простила, скажет: “А ведь мы помним ее молодой безусой девчонкой”.
Слава может быть постоянной, как долги, или скоротечной, как случайные деньги. Скорая и шумная, она хоть и граничит с приличием, но уже с другой стороны.
Всемирной же славы у порядочных людей не бывает вовсе. Зато бывает признание, то есть знак признательности и благодарности за обретенную всеми (зачеркнуто), большинством (зачеркнуто), разумной частью людей возможность познать себя и мир, насладиться мудростью, искусствами, науками… Словом, за добавления к тому миру, что оставил нам Создатель.
Оценка же твоего достоинства укрывается в сердцах друзей, тихих почитателей, трезвых, впрочем, и профессионалов узкого круга, огражденного от круга широкого чувством меры и вкуса.
“Известность по качеству” – так трактовал славу мой добрый знакомый Владимир Иванович Д. Качества же, как вероломство, властолюбие, жестокость, много заметнее для народов против скромной доброты или пусть великого, но частного таланта человека, рождающего мысль и образ или созидающего хлеб и дом. Здесь для восприятия надобно участие, то есть усилие над собой. А там лишь вообрази себя корыстным разрушителем или негодяем и следуй за подобным. Проще и заразительней.
Вот мировая слава: молва, общее мнение – не важно и какое. Как тут без большой пакости?
В.Ш.»
Перед вами страница рукописи, лежавшая в обгоревшей гондоле, сплетенной из ивовых веток, найденной нами с моим другом Всеволодом Михайловичем Арсеньевым, фотографом и журналистом, близ разрушенной плотины на речке Руна в Тверской глуши, где мы ловили окуней. Иных по тридцати граммов (каждый). По всей вероятности, записи принадлежали воздухоплавателю и философу, и, хотя к предполагаемым заметкам о Марине Мстиславовне Неёловой они прямого отношения не имеют, я решился опубликовать текст «В.Ш.» (как значилось на бумаге в нижнем правом углу), поскольку испытываю признательность к таланту этой современной нам актрисы, тем более что неподалеку от гондолы Арсеньев нашел фотографию, на которой была изображена женщина в длинном платье, сидящая у круглого белого столика. И она же на скамье с книгой на другой, мокрой от росы фотографии. Чем-то эта женщина (точнее, решительно всем) напоминала Марину Мстиславовну.
Позади виднелись цветущие деревья (вишневые, как нам показалось) на фоне старой усадьбы. Строение выглядело не новым и не русским. Женщина смотрела мимо объектива и поэтому снимающего не видела.
К воротнику платья, изображенного на карточке, покрытой росой, прилип реальный листик брусники, я снял его (как оказалось, вместе с частью изображения) и не глядя отдал фотографию Арсеньеву.
– Ну ты хорош! Вместе с эмульсией отодрал. Ну, Юрий! – Он положил картинку на солнце. – Что там было?
– Вишневый сад.
Разговор о нем шел давно, и Марина Мстиславовна боялась его. Она уже играла в прошлой версии «Современника» Аню. Это была не ее роль. Потому она мучилась страшно, не любила эту Аню, не любила себя, не любила спектакль. Словосочетание «Вишневый сад» вызывало в ней ощущение какой-то беды…
Галина Борисовна Волчек предложила ей сыграть Анину маму – Любовь Андреевну Раневскую, которую Марина Мстиславовна тоже не любила.
Она жила с мужем и дочерью в Париже, время от времени приезжая в Москву на Чистые пруды играть в театре и репетировать. Возвращения не вызывали у Марины Мстиславовны никаких особенных чувств, ибо ностальгии она не испытывала.
«Мой старый пруд… Мой милый добрый театр…» – этого не было.
Ей говорили, что зря она прервала свою актерскую карьеру, что она попусту потеряет пять лет и надолго выпадет из такой бурной и насыщенной московской жизни. Однако в эту самую жизнь она никогда и не впадала, за пять лет она, возможно, и не сыграла бы больше ролей, чем сыграла наездами из Парижа, а что до карьеры – много ли он прибавит к тому, что уже обрела?..
Нет, нет. Музеи, книги на балконе, дочь на велосипеде, коричневая собака на зеленой траве, до Тракадеро – три минуты, до Триумфальной арки – пять. Она решительно не считала эти годы потерянными: театр, кино в России, репетиции, спектакли, гастроли и даже премьера «Адского сада», который представлялся ей вполне райским в сравнении с нелюбимым «Вишневым».
Между тем спектакль надвигался, и она думала, что не сыграть Раневскую было бы глупо, хотя она ее себе никогда не воображала, да и не знала лично, а видела лишь глазами Ани и глазами зрителя других Раневских, которых на сцене перевидала немало.
Была весна. Она с семьей отдыхала на даче посольства под Парижем, в Манте, в усадьбе Альфреда де Мюссе с замечательной красоты лужайками, парком и старым садом, значительная часть которого засажена вишней, которая к их приезду уже отцветала.
– Представь, Арсеньев, они идут по дорожке, а вокруг пурга.
– Пурга, так-так.
– Эта пурга из опадающего вишневого цвета переметает путь. Вокруг все зелено, а здесь родная метель. Зима: лепестки, как снежинки, ложатся на плечи, ресницы. И хотя они не тают, и хотя это Франция, хотя это не ее дом и не дом Раневской и никто из новых русских не собирается покупать усадьбу Мюссе, она вдруг чувствует невероятное волнение и тревогу.
– Тревогу-то отчего? Ты же говоришь – она не в России.
– Она бежит в дом, распаковывает чемодан, достает Чехова и возвращается в сад. Садится на скамейку, кладет на нее пьесу и, заняв соответствующую тому времени позу, начинает читать.
– Солнце светит?
– Светит.
– Правильно, и тут ее на секунду накрывает круглая тень.
– Откуда ты знаешь?
– На фотографии тень сохранилась.
– Она поднимает глаза и видит монгольфьер, опускает глаза в текст и начинает плакать. Сразу, чего совершенно не предполагала. Она знала пьесу наизусть, но, может быть, эта вишневая вьюга в чужом именье заставила ее вспомнить о своей жизни, в которой она никогда не существовала. Она стала уединяться и читать свою будущую сценическую судьбу. Впрочем, разве только сценическую? Потом сад оголился. На фоне чужой зеленой компании он стоял сиротой и ждал. Это дало ей новую волну переживаний.
– Никудышные у актеров нервы…
– Никудышные. Вживаешься в другого человека, тратишься, а потом то ли он тебя покидает, то ли ты выживаешь его из себя. Точнее, эти выдуманные персонажи сами вытесняют друг друга, всякий раз что-то принося с собой и отбирая.
– Беда. Тут только реальные персонажи отбирают, правда, под выдуманное. Ну-ну…
– Она читала, и постепенно у нее возникало ощущение, что она очень хорошо знает эту женщину, понимает ее и симпатизирует. Временами она, поправив очки, смотрела по сторонам, ловя себя на мысли, что этот жест оборонительный. Она охраняла Раневскую, до которой французам не было никакого дела, но если бы кто посмел ее обидеть, она бы ее защитила.
– Юрий! Ты червей не перевернул? А то расползутся по палатке… Слушай, она что же, такая впечатлительная? Да? Романтическая?
– Да нет, вполне рассудочная, трезвая. Но тем не менее, она волновалась за Раневскую, потому что у нее начался с ней роман, который, кстати, продолжается и по сей день в «Современнике». И роман этот развивался по всем законам жанра. Сначала она на нее иначе взглянула, потом проявила интерес (Любовь Андреевна привлекла ее), затем она стала ждать свиданий с ней. Словом, влюбилась. Неёлова стала открывать в Раеевской новые, радующие ее качества, и та стала заполняться красками, обрела душу и плоть.
– Плоть?
– Ну, плоть не впрямую. Актер Михаил Чехов говорил, что при работе над ролью у героя сначала появляются отдельные штрихи, из них складывается силуэт, он заполняется подробностями и деталями. Затем рисунок обретает краски, цвет. За ними объем, рельеф, готовую форму, в которую актер входит, вползает, втискивается, и уже они вместе или кто-то один продолжает жизнь. Не один из них, а Некто. Не знаю, кто именно. Так и Неёловой казалось: Любовь Андреевна реально где-то существует и приближается в поисках защиты. И Марина Мстиславовна чувствовала от этой связи необыкновенную нежность, сострадание и любовь.
– То есть она, наконец, почувствовала счастье.
– Ну да, счастье, но почему «наконец»? Она и раньше испытывала нежность и сострадание. И любовь… И не только в театре. Но мы о последней (по времени).
– И такие романы с персонажами у нее часто?
– Разные, конечно. Ведь ситуации различны, и люди, слава богу, не одинаковы. Грамматика одна, но стиль у каждого свой. Эти связи могут быть радостными, мучительными, на грани срыва от страсти и по-семейному ровные. Как в жизни.
– Это сравнение хромает, Юрий. В жизни случается и одна любовь, говорят.
– Я тоже слышал, Всеволод. Но допустим (пусть с малой степенью вероятности), что у кого-то их было несколько. Все это была любовь, но предмет ее всякий почти раз иной. И любовь иная, не похожая на предыдущую. Так и на театре. Сомневаюсь, что Марина Мстиславовна испытывала одинаковые чувства (хотя и любила их) к девочке из «Спешите делать добро» и к Жене из «Крутого маршрута». Потому что этих и других героинь часто мало что объединяет между собой, и, возможно, они все вместе не имеют ничего общего с Мариной Мстиславовной. На то она актриса, чтобы прожить на сцене три часа их жизни с достоверностью, заставляющей иногда забыть о самой Неёловой, какой бы она ни была.
– Ты хочешь сказать, Юрий, что мне не важно знать, каков актер в жизни?
– Если его личная жизнь не является амплуа, как это теперь бывает за неумением других ролей, – не важно. Что тебе, Всеволод, до приватных писем Пушкина. Он писал не тебе.
– Так и не читать?
– Читай. Но прежде прочти «Повести Белкина», стихи, «Онегина», «Медного всадника», «Нулина»…
– Всё не перечисляй…
– А потом на правах любящего сердца прикоснись, если жаждешь. И защити. И защитись.
– Ты рыбу убрал с солнца?
– Убрал… Так вот, Неёлова так устроена, что последний роман у нее самый сильный. Потом, конечно, другая, новая героиня вытеснит или отодвинет первую и сама Марина Мстиславовна начнет понимать, что прежние уже мешают. Там жест прилепился никчемный, там – интонация, которая в новой жизни неуместна… А оставить их всех нет возможности. И профессия не позволяет, и бросить жалко, и продолжать невмоготу. В этом существенное отличие от жизни журналиста…
– Юрий! Посмотри мне в глаза.
– …Его герои накапливаются и, даже если они уходят из жизни реальной, остаются в судьбе. Написал – прожил. Напечатал – зафиксировал. Актеру тяжело, почти невозможно вернуться назад, в сыгранную роль. Нам перечесть написанное когда-то легко, и только печаль по ушедшему и не понятому Моменту проживания охватывает порой. Если проследить до конца жизни реальных, а не сценических людей, то получится, что и они, будучи одновременно и персонажами, и зрителями, мало что изменили бы в пьесе, написанной Драматургом, но они достойно сыграли свою роль. Единственную. Обогатив классический репертуар мировой драмы. И что ни пиши во славу духа – все они побеждены временем. Никто не оказался триумфатором. Да и кто, кроме дураков, верит в триумф и наслаждается кажущимся превосходством без неловкости…
– Это ты сам придумал?
– Сам. А что?
– Красиво. Я думал, ты прочел это в отрывном календаре. Так, дальше…
– Но существуют вершины жизни. Их много, целый массив. Они разной высоты и трудности, и человек идет вперед, не зная, к счастью, конца пути.
И у Любови Андреевны, и у Марины Мстиславовны за спиной биография, но часы отмеряют, сколько прошло времени, а не сколько осталось, а тут, вдруг, показался предел судьбы. Сближаясь (или, может быть, сливаясь), они вместе оглядывались на жизнь Раневской. Лики ее были эфемерны для окружающих, но ясны и обаятельны для нее. Было понятно, что у той ничего не складывалось. Счастье у Любови Андреевны постоянно совпадает с несчастьями. Только она начинает подниматься и до парения остается немного, как тотчас ветром все швыряет на землю. И что, бросить жизнь? Да ничего подобного: не получается летать – можно бежать. Раневская – убегающий, преследуемый человек, сохраняющий при этом надежду. Вдруг да обойдется. Само. Как это может не обойтись? Пострадала, и сей же час забыла. Жалко терять, а надо. Между мечтами и реальностью выбор в пользу грез. У нее замечательный русский характер – все время рисовать себе картину не реальную, но подкупающую красотой. Бабочка, летящая на огонь.
– А Неёлова тоже такая?
– Неёлова? Да ничего похожего: полная противоположность, совершено другой человек, хотя какие-то пресечения, о которых не догадывается ни одна, ни другая, вероятно, есть. Жизнь ее вне сцены существенно отличается от сценического альтер эго. Может быть, она опасается судьбы Раневской и потому так трогательно в ней заинтересована. Чтобы предупредить себя и обезопасить, поскольку спасти Любовь Андреевну не в ее власти. Эти бездумные романы, надежды, потери… Это легкое расставание с людьми и деньгами… Нет, Марина Мстиславовна бережет свои привязанности. Да их у нее теперь и не много: семья, театр, книги и несколько друзей. Неёлова не верит, что все образуется само, Раневская – верит. Наверное, Марине Мстиславовне не хватает недостатков Любови Андреевны. На свет! На свет! Просто потому, что там что-то сияет. Как бабочка на огонь. Не задумываясь.
– Комар, Юрий, тоже летит на свет, но о нем никто доброго слова не сказал.
– Поскольку он корыстная тварь и сидит у тебя на лбу, а бабочка…
– Хорошо, а Неёлова не летела, как бабочка?
– Летела, но траекторию полета предполагала, и знала, что обожжется, и ждала этого, и получала. Неожиданного немного в ее жизни, но иногда, к счастью, она способна на ошибку. Правда, опыта она, как и Раневская, не обретала, но, в отличие от чеховской героини, не признавала этого. В спектакле эти две женщины объединились в одну, и начало этого процесса увидел с монгольфьера этот самый В.Ш. А вот кого он снял – Раневскую или Неёлову – я не знаю. Каждая роль все равно соткана из собственных качеств актера, из того, что в нем заложено где-то в глубине. И, в лучшем случае, мы не можем их разделить. Станиславский говорил, что актер должен быть адвокатом своей роли, чтобы не отстраняться: это он злодей, вертопрах, врун, я ж много лучше, я – другой. Марина Мстиславовна не оправдывается за Любовь Андреевну, она ее любит. Она отвечает за ее поступки, как за свои, соучаствует и грустит над ними, как над своими.
– Нервная работа…
– Временами ей стало мучительно ходить на спектакли, порой просто не хотелось, с утра портилось настроение. Видимо, за многие годы она к себе притерпелась, привыкла, прижилась в себе, и потому на три часа усталого спектакля перестать быть собой ей, порой, казалось насилием.
– Тут годами не бываешь собой, кроме как на плотине с удочкой.
– Проживает человек время – у него свое состояние разное, взгляд на ландшафт, настроение так себе, словом, со своими заботами проживает, и вдруг, точно в назначенный срок ты должен все это свое забыть – глаза, руки, мысли (если есть) – и впасть в совершенно другую судьбу, чтобы к десяти вечера, хорошо если под аплодисменты, ее завершить.
– С десяти до шести каждый день и без аплодисментов – напряжение тоже не малое.
– Усилие, Всеволод, необходимо, когда нет любви. А у Марины Мстиславовны к Любови Андреевне она произошла, поэтому свидания их вожделенны, а результат… При таких отношениях должен быть и результат.
– И вот сидит она в саду под Парижем, как свидетельствует фотография В.Ш., читает пьесу и плачет. Почему?
– Совпадения рождают понимание. Понимание – соучастие. Сидела бы она под Москвой на шести сотках среди одной вишни, не было бы никаких ассоциаций. А так: Раневская продала дачу в Ментоне, Неёловой усадьба Мюссе никогда не принадлежала, но и одной и другой надо возвращаться в Москву. И этот вишневый снег. Все можно начать с нуля: это ведь опадают лепестки цветов. Только и всего. Оголились ветки, но вот они – юные листья. И сроки пребывания в Париже почти совпадают. Ну что ж, что там несчастная любовь, а здесь счастливая: дочь, муж. Что ж, что не похожи они по характеру, как раз так и влюбляются.
Она вновь выходит во французский сад с двумя книгами – Чеховым и Набоковым и читает тексты параллельно.
«А вдруг я сплю! Видит бог – я люблю родину, люблю нежно, я не могла смотреть из вагона, все плакала…»
– Париж они, видимо, тоже любили.
– Любили, любили… и здесь ее взгляд падает на страницу другой книги. Там стихи, написанные в двадцать втором, но точно соответствующие состоянию нашей героини.
– Которой?
– Я уже не различаю.
«…Мои деревья, ветер мой и слезы чудные, и слово непостижимое: домой!»
– Что ж, домой так домой. Я пойду вытащу лодку, а ты посмотри – там что-то написано на обороте фотографии.
«По возвращении в Москву, я позвонил Марине Мстиславовне вечером после спектакля “Вишневый сад”, где ее Раневская была хороша, и напомнил сюжет, который наблюдал с монгольфьера в парке усадьбы Альфреда Мюссе. Она была растрогана и охотно отвечала на мои вопросы. Шли часы… Вопросы становились короче, однако она, как человек вежливый, говорила подробно…
…Утром, проснувшись, я с ужасом услышал ровные погудки. Телефонная трубка лежала на моей подушке. Неужели я уснул во время беседы с этой женщиной?!
Какой стыд! Вероятно, я очень устал от полетов. Но как быть, если и прекратить их нет сил?
В.Ш.»
– Кажется, это предсмертная записка, Арсеньев.
– Было бы жаль, неплохой фотограф. Снимал довольно резко.
В это время круглая тень медленно проскользила по нашему лагерю. Задрав головы, мы увидели глаз объектива, торчащий из гондолы. Мы тотчас заняли позы. (Ни Чехова, ни Набокова с собой не было.) Я поднял двадцатиграммового язя, а Арсеньев – отечественную надувную лодку, свидетельствующую, что мы тоже любим родину, и застыли на мгновение. Для истории. Точнее, для других историй.
– А что, – сказал Всеволод Михайлович, – тут ивняка полно, а сплести корзину – пустяк… И летай!
Беседы с Родзянко
Впервые я увидел его на православной Пасхе в Иерусалиме. Русский епископ Василий Родзянко. Человек честной судьбы. С семьей он после октябрьского переворота был вывезен ребенком из Елизаветградской губернии за рубеж Российской империи, сформировался и вырос в эмигрантской среде, принял сан, стал приходским священником в Сербии, где спас целую деревню от немцев, попал в титовские застенки, работал на Би-би-си, просветляя наши сумрачные умы, возглавлял приход в Вашингтоне, писал книги, читал лекции, жил по совести.
Тогда в Иерусалиме я только что и успел представиться ему, чтобы, может быть, потом на правах знакомого сказать: «Мы с вами, владыко, встречались у дверей Гроба Господня».
Спустя некоторое время я действительно произнес эту фразу в Сергиево-Посадской лавре, где гостил Родзянко. А вслед за ней задал несколько вопросов, которые меня волновали.
О примере и свободе
– Может ли чужая жизнь быть примером?
– Я думаю, это очень тонкий вопрос, потому что человек, который ищет примера, и тот, в котором он ищет, должны лично соответствовать друг другу.
– А может ли человек вообще хотеть быть примером?
– Если он будет ставить такую задачу, то провалится. У него ничего не выйдет. Это происходит само собой. Все мы в какой-то степени оказываемся примером. Отец – для детей. Он знает, что должен быть на высоте, если хочет воспитать хорошего сына. То же и в широкой жизни. Будь то полковник в армии или священник на своем приходе.
– Но возможно ли человеку определить, удалась ему жизнь или нет?
– На это нелегко ответить, поскольку речь идет о судьбе. Иногда мы ее воспринимаем как фатум, предопределение. Само слово «судьба»…
– Суд Божий?
– И Божий промысел. А промысел Божий – это путь, по которому идет человек. В котором он участвует. Не слепо. Здесь нет никакого указания ясного или неясного.
– Другими словами, нет жесткой программы?
– Нет… Конечно, мы знаем теперь хорошо, что каждый человек генетически запрограммирован (и это вполне совпадает с учением церкви о первородном грехе, но это довольно долгая история), однако это лишь один фактор – то, что унаследовали после рождения. Другой – это свобода нашего выбора, который, конечно, есть.
О выборе и судьбе
– Судьба оставляет право на выбор?
– По нашему православному учению – да. Несомненно. И по опыту. Я просто знаю это лично: если я что-то плохо выбрал, то обязательно расплачиваюсь после.
– Как часто вам приходилось выбирать?
– О, часто, особенно когда вы не знали, что завтрашний день принесет вам в буквальном смысле. Во время Второй мировой войны я был на сербском приходе. И вот появляется в моей деревне друг нашей семьи, который уговаривает меня ехать с ним на Запад для воссоединения с родителями. Прихожане не дураки, они смотрят на все эти разговоры и думают: а что будет с ними, если я уеду? А матушка – жена моя и ее родители тоже думают, но уже – что будет, если я не уеду? Вы представляете, какое было сильное переживание, какой вопрос был? И кончается это тем, что становится мне совершенно ясно, что я не смею, не смею. Что если я сдамся и уеду, то я буду не я. Нельзя.
– И вы остаетесь?
– Я остаюсь и благодарю Бога, что принял это решение. Оно оказалось в моей судьбе в полном смысле этого слова – выживанием. Выжил мой приход, который мог распасться, эти люди, и я сам, и моя семья.
– Оказалось, что решение, которое вы приняли по совести и против человеческой выгоды, было правильным выбором?
– Да. Это могу сказать сейчас, оглядываясь назад… Вы знаете, то же самое почувствовала моя мать, когда ей было тридцать, а мне четыре. Только… в противоположном направлении.
Мой отец был спокойным человеком. Он отказался от традиционного в нашей семье пути: либо, как мой дед, – политической жизни, либо, как его брат, – военной. В нашей семье было заведено быть военными, начиная еще с Аркадия Родзянко – приятеля Пушкина. Отец ушел в агрокультуру, посчитав, что это в тот момент нужно для России. Он был своего рода управляющим имением на Украине.
И вот, когда начались известные события, мать приходит к нему и говорит: «Нам надо уезжать». Она сделала выбор и сохранила семью.
– Я вас спрашиваю о судьбе и выборе, потому что перед каждым человеком этот вопрос встает ежесекундно…
– Он не возникает… Он существует постоянно… Вы все время живете в обществе. И тут сплетаются, с одной стороны, ваш собственный выбор, без которого вообще ничего нет, и обстоятельства – с другой. И как наши оптинские старцы говорили, воля Божья и промысел Божий познаются из обстоятельств.
О любви и памяти
– Какое место в вашей жизни занимала любовь?
– Любовь – это качественность. С одной стороны, она широка, как море, с другой стороны, она очень личная и очень иногда временная. Не в том смысле, что она обязательно должна закончиться, а в том, что она подвержена условиям времени.
– То есть подвержена изменению?
– Мы живем в пространстве и времени, в этих условиях, на этой земле. Когда кто-то любящий или любимый уходит из этого мира, то, естественно, ваше собственное понимание любви перестраивается. Потому что вы должны приноровиться к иному миру, как мы его называем. Для нас, верующих, это, с одной стороны, великое счастье, с другой – огромная ответственность. И помощь.
– Человек устроен очень хорошо. Он не помнит боли. Вы помните, что она была, но физического ощущения нет.
– Время лечит.
– Время лечит. И память устроена таким же образом. Она стирает пережитую остроту, сложные переживания, тяготы. Хороший человек больше помнит хорошее. Но утраты остаются, человек уносит их с собой.
– Конечно. Но нам и не нужна такая память, о которой вы говорите, если мы верим, что жизнь не прекращается со смертью на земле. Потому что тогда вместо памяти у вас получается взаимообщение с иным миром и в ином мире.
Это совершенно иной опыт, который неверующие люди просто не знают в такой степени, в которой знают верующие и убежденные в том, что есть более широкая жизнь, которую вместить не могут берега нашей жизни земной. И тогда эта иная память у вас раскрывается, укрепляет вас и становится источником, дающим силы в вашей внутренней и внешней борьбе, и в то же время – источником каких-то решений и выбора.
– Но ведь в человеке может быть заложена, помимо его воли, программа неверия. Существуют таланты, не присущие всем: один может писать музыку или стихи, другой даже не в состоянии это воспринимать, но умеет строгать и пилить. Вы не исключаете, что способность воспринимать высокий духовный мир – это достояние избранных людей?
– В этом есть доля истины, но только доля, потому что человек многостороннее, чем мы его сейчас описываем. Мы знаем людей – из истории и из жизни, – которые, несмотря на обстоятельства, происхождение и воспитание, по собственному выбору и решению меняют жизнь и становятся совершенно другими. Из церковной жизни – апостол Павел, например. Вот решающая перемена, которая отразилась не только на его судьбе, но и на судьбе христианства. Конечно, эта перемена была обусловлена обстоятельствами…
– Ну, хотя бы встречей.
– Встречей, конечно, да. Но встреча эта была настолько вне опыта нашего обычного бытия на этой земле, что ее нельзя приравнять ни к чему другому в обычной нашей жизни.
– Что такое встреча вообще? Может ли человек не памятью, не анализируя прошедшее, а во время действия жизни сразу оценить ее? Сказать: «Вот значимый момент! Ощущай!» Возможно ли в масштабе дарованного тебе понять, что происходит сейчас?
– Может. Но нужна настроенность на то, чтобы не быть очень в себе, не быть слишком отделенным от окружающей обстановки, от окружающих людей, от окружающей жизни. Если жить самозамкнуто, то можно не использовать эту возможность. Мы превращаемся в стружку. Понимаете? В стружку, которая заворачивается вокруг себя. А внутри что? Пустота. Это состояние у многих из нас бывает, не обязательно все время. Это искушение, если можно сказать, особого рода скручивания собственной личности и эгоизма отрезает вас от возможности почувствовать и оценить нечто существенное.
И встреча (сам факт ее и лицо, с которым вы встретились) окажет влияние на вашу жизнь, если вы открыты и готовы. Это и будет момент, который подскажет интуиция. Потому что безучастие в любом смысле очень трагическое состояние.
Об одиночестве и уединении
– Но иногда обстоятельства складываются таким образом (я имею в виду пресс государства, социальные потрясения, преследования за взгляды), что человек вынужден замыкаться, чтобы спасти собственную душу.
– Это сторона совсем особенная. Хотя это может быть своего рода уединение, необходимое для сохранения своего мира. Это пример другого рода – но Серафим Саровский только в последние семь лет открыл свою келью для других, или Феофан Затворник, известный для нас, верующих русских людей. Вот такой тип, который заперся, чтобы быть в полной концентрации всех своих сил и в то же время открыться Богу. Какая огромная переписка, какой огромный результат этого…
– …одиночества.
– Нет. Уединения.
– Вы можете сформулировать, в чем разница?
– Одиночество – это ощущение себя вне общества других людей. Иногда внутреннее, иногда физическое. Оно носит трагический оттенок. Одинокий – это почти всегда человек терпящий или переживающий что-то. Он не в целом, он отломлен. А уединение – это отход от суеты…
– «Давно, усталый раб, задумал я побег…»
– Вот-вот…
– Но этот мир – все-таки мир одиноких людей. Не только потому, что человек большую часть своего существования находится наедине с собой, со своими мыслями, страхами, со своими нерешенными и нерешаемыми вопросами. Но и потому, что никто, кроме самого человека, часто помочь ему не может. Правда?
– Вы все-таки сами немного сомневаетесь в сказанном… Хотя в некотором смысле вы правы. Конечно, мы все заключаем в себе самих собственный мир, иначе не были бы людьми. Человек – чело веков. В этом основа достижения цивилизации. Но если мы ограничимся только этим миром, то сделаем сальто-мортале такое, которое нас же и уничтожит в конце концов.
Конечно, можно не выжить, как вы говорите, если на вас свалится что-то извне, и мы знаем много таких случаев, особенно в нашей теперешней жизни, в эти последние десятилетия в разных странах. Но если вы выживаете, то происходит это не потому, что вам посчастливилось, а потому, что вы знаете очень хорошо, что есть нечто, к чему надо себя привязать.
– Вы имеете в виду жизнь на этой земле?
– Да, конечно.
– В этой стране?
– Да, конечно.
О страхе и поступке
– Сколько лет вы прожили в той сербской деревне?
– До сорок девятого года. В титовские времена я был арестован, был в тюрьме, в лагере, в сербском ГУЛАГе. В пятьдесят первом году Сталин, поссорившись с Тито, потребовал, чтобы тот не преследовал русских. Тогда Тито сказал: берите кого хотите – они все белые эмигранты. И выпустил из тюрем. Меня в том числе.
– Весь век идут войны: Балканы, Кавказ, Ольстер… Это только Европа. Вся ваша жизнь прошла под грохот взрывов и выстрелов. Это что – ошибка в человеческой программе? Что-то не учтено в нашем строении?
– Да, да. Это программа. Программа зла, принятая нами по выбору. Мы все в этом виноваты. Все без исключения, люди. Бог сотворил нас в том, что мы называем рай. Но мы жизнь там отвергли во имя себялюбия, эгоцентризма и эгоизма. Это то, что описано в первых главах Библии. Верите или нет, но лучше дать ответ на этот вопрос нельзя.
Искушение и потом падение. Падение человека первого, и в нем, как в том же Священнописании написано, всех нас. Всего человечества.
– Но если это заложено, то непреодолимо?
– Нет, даже очень преодолимо. Вот тут-то и есть этот самый выбор, который человек может взять против того, о чем мы говорим. Это выбор Христа.
– Владыко, это очень красивый образ и очень общая идея. Но пока люди убивают друг друга, может быть, есть более конкретный совет?
– Мы спасли наше село от ужасов, которые творились в соседних селах, где сотни людей были убиты. Мы не дали совершиться этому…
– Значит…
– В ситуации, в которой мы живем, человек думает, что он может слишком мало. И поэтому не может ничего. Если бы он больше думал и чувствовал уверенность, что он может многое, возможно, что-то изменилось бы в лучшую сторону.
P.S. Этот замечательный гражданин России, всю жизнь проживший вне ее, мечтал закончить свои дни здесь. Однако скончался он совсем недавно в Соединенных Штатах Америки, а похоронен в Англии.
Мир праху его, и да простит он родину свою, так и не принявшую его…
Взгляд
Перебирая фотографии бабушкиного или прабабушкиного детства, мы видим детей. Будущих взрослых и одновременно бывших.
Прямые и спокойные, в локонах, кружевах и кринолинах, наряженные, завитые или гладко причесанные, сидят они на коленях у своих родителей (или стоят рядом) и внимательно (так же внимательно, как мы их) изучают нас с желтоватых плотных карточек.
Глядя друг на друга, знакомых и неизвестных, находим, что мы, нынешние, стали свободнее в своих вкусах и манерах, естественнее и раскованнее в общении и знаем много больше, но какие-то тайны (рождение, боль, смех…), какие-то ценности (доброта, честь, любовь…) для них и для нас остались общими. Пока.
Нас, бывших детьми давно и совсем недавно, объединяет многое, но главное то, что, чудесным образом однажды получив жизнь (весьма случайно), мы стали людьми, обрели способность осознавать себя, познавая мир, и обязанность давать и беречь жизнь другим.
Сохраняйте карточки и чаще фотографируйте детей, они будут смотреть на себя из времени и приноравливаться к проходящей жизни.
Сегодня Лена Бархина уже сама мама. Однажды на выставке она подошла к этой карточке и долго с удивлением рассматривала ее. Рядом стоял фотограф.
– Я хочу снять вас рядом с этой девочкой. Вы чем-то похожи.
– Ничего удивительного – это тоже я, – сказала Лена.
У меня дома хранится довоенная фотография с птичкой. Она сохранилась, хотя мама не брала ее с собой, когда мы отправились в эвакуацию, а отец на фронт. Все время оккупации Киева она провисела в витрине фотоателье на бульваре Шевченко. На карточке запечатлено много будущего и весьма ограниченное прошлое. Сталкиваясь с ней взглядом, я понимаю, что ситуация зеркально перевернулась, но, повторяя Лену Бархину, могу сказать: это тоже я. Только тогда у меня была единственная цель – выпустить механическую птичку из клетки. Теперь целей много. А птичка, кажется, в клетке до сих пор.
Баскервильские коты
Все-таки интересные места есть…
Ветхая лошадка, похожая на тех игрушечных, которые достаются младшим от старших братьев, потертая от частого пользования, тащила такую же обшарпанную маленькую повозку, в которой, кроме теней от листьев одесского платана, ничего не было. Но и эти медленно плывущие тени были ей уже в тягость.
Человек и пони шли по улице на работу.
– Как зовут вашу красавицу?
Старик похлопал по кивающей в такт шагу маленькой седой морде, сказал:
– Я ее зову Королева Марго, но по паспорту ее имя Маруся. Вы не местный?
– Я ищу Староконный рынок. Эдуард Багрицкий в детстве продавал там птиц.
– Вы мне рассказываете…
Птиц продают там и теперь. На том месте, где, возможно, стоял с чижиками поэт, теперь торговал другой человек. Он держал клетку с сиамским котом. Словно прыгала там какая-нибудь канарейка, а кот ее съел и теперь сидит сам.
Другой сиамский кот сидел в сумке, выставив наружу голову, тугую и круглую, как вывалянный в бежевом меху гандбольный мяч. На шее у него болтался обрывок бельевой веревки. Кот изнутри царапал сумку и хрипел. Продавец в кирзовых сапогах и синем сатиновом халате с видимым усилием сжимал сумку под мышкой, то и дело поправляя молнию, которую кот раздвигал затылком.
Перед ним топтались два парня.
– Купите котика, – уговаривал продавец, – это ж такая радость ребенку.
– Какому ребенку! Твоему коту нужно будку собачью и цепь.
– Шо вы такое говорите, даже смешно. Он же ласковый, как я не знаю… Вот смотрите, я могу его погладить.
Он быстро провел рукой по загривку, на котором тут же вздыбилась шерсть. Глаза кота загорелись нехорошим огнем.
– Неизвестно, – сказал серьезно один из парней, – может, и кот-то у тебя не целый. Может, голова одна, без туловища. Может, она на руку надета. А ну покажи целиком!
– То есть? – обиделся продавец. – Все у него есть, пощупайте!
Кот метал молнии, рвался, словно в аттракционе «бег в мешках».
– Ладно, за полцены возьмем. Дом охранять. Доставай.
– Не… берите с сумкой.
Покупатели ушли с котом, а продавец остался. Посмотрел на нас:
– Они смеются. Это ж такой тихий кот. Когда люди видели его на диване, то удивлялись: это у вас кошечка или копилка?
Вино № 1
Когда Окуджаве исполнилось семьдесят, я подарил ему картину любимого друга и прекрасного художника Мишико Чавчавадзе, на которой был нарисован тбилисский домик, поданный на блюде. (Булат мечтал о таком доме. Просто так.) И бутылку цинандали. (Все грузинские вина когда-то были под номерами. Цинандали было вино номер один.) Покрытая почти вековой пылью бутылка 1906 года должна была выполнять совсем не ту функцию, которая ей назначена. Мне хотелось, чтобы в доме Окуджавы был хоть кто-то живой старше его самого, чтобы он не чувствовал пропасть за спиной.
Вино было живо.
Конечно, это был не божественный четырехлетний цинандали, разлитый (и лучше, если выпитый) в подвалах, построенных когда-то Александром Чавчавадзе, но и не уксус.
…Первый раз мы попали на цинандальский винзавод без всяких рекомендаций. Актер Гоги Харабадзе провел нас по крутым лестницам вниз в старые подвалы, к огромным бочкам, лежащим вдоль каменных стен. Под темными сводами не спеша нянчились с вином молчаливые женщины в синих сатиновых халатах. Никто из них даже не думал угостить нас. Между тем…
– Я, – начал Гоги, – снимался в этих подвалах (на самом деле он снимался в Гурджаани) – у Отара Иоселиани в фильме «Листопад».
– Да, хорошее кино.
– А это знаменитый театральный режиссер Шалва Гацерелия.
– Театр – тоже занятие.
– Наш друг, корреспондент важной московской газеты.
Женщины посмотрели на меня невнимательно.
– А этот кто? – кивнули они на скромно стоящего у бочки человека.
– Это Миша Чавчавадзе, художник.
– Александру Чавчавадзе – родственник?
– Не родственник. Потомок.
– А вы про кого нам рассказываете – актер, журналист… Хозяин приехал!
Одна из нянечек, не найдя лучшей емкости, взяла матовый стеклянный плафон (литра на два, а-ха-ха – два с половиной) и скоро вернулась с тем самым четырехлетним цинандали. Потом она ходила не раз.
Посмотрев впервые на снимок, где Гоги со стаканом, а Миша у бочки, мне не сразу было сообразить, а сам-то я где? А сообразив, не понял – отчего все резко?
Дело кончилось тем, что нам подарили и ту бутылку девятьсот шестого.
Теперь Миша и Булат там, где компания не хуже, а мы, оставшиеся, встречаясь, выпиваем за ушедших как за живых.
Фея лета
Я встретил ее вечером, уже темнело…
Ты знаешь, читатель, эти вечера раннего лета, когда в одну секунду понимаешь, что холода уже прошли и впереди долгое тепло: трава, цветы, загорелые ноги, белые ночи, когда хочется раскинуть руки и полететь без мотора, не отравляя шумом и гарью маленькую любимую землю. Когда чувствуешь необходимость сейчас, немедленно совершить что-нибудь высокое, героическое, но не погибнуть. А если погибнуть, то тут же воскреснуть, выкупаться в славе и идти спать или, наоборот, не спать никогда, не тратить на сон этот июньский не то вечер, не то счастье, а вдыхать, трогать, бежать, смеяться, плакать – и жить.
