Со щитом или на щите бесплатное чтение
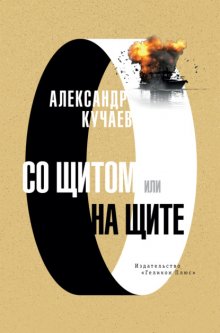
© Кучаев А. К., текст, 2024
© Геликон Плюс, макет, 2024
Победить или погибнуть со славой.
Девиз Древней Спарты
Глава первая
Бой без правил
Удар Корунфеева я пропустил на третьей минуте боя. И через сорок одну минуту после окончания встречи с полковником Лошкариным, как я, сам не зная зачем, подсчитал несколько позже.
– Идите прогуляйтесь по Москве, – сказал полковник, закончив излагать основные детали опасного дела, которым нам довольно скоро предстояло заняться. – Что вы будете сидеть здесь! – он глазами и кивками головы влево-вправо показал на стены явочной квартиры, которая должна была стать временной базой расположения нашей «крамольной» группы. – Только ни во что не встревать; помните, для чего мы собрались. Каждый должен быть в целости и сохранности и готов к любому развитию событий. До вечера все свободны.
Мы с Михаилом Болумеевым вышли первыми. Не спеша прошлись по улице и только остановились поглазеть на роскошную витрину какого-то магазина, как к нам подошёл юнец лет шестнадцати, прилично одетый, деланного представительного вида и сказал:
– Господа, не желаете ли посмотреть нелегальный бой без правил? Выступает сам Елизар Корунфеев по прозвищу Дровосек, многоопытный, непобедимый, не проигравший ни одной схватки. Зрелище будет весьма интересное, в первую очередь для личностей сильных, мужественных, прошедших огонь и воду и не боящихся вида крови.
– А что, разве так можно? – спросил Михаил. И посмотрел на меня, ожидая моей реакции. Я поджал губы и вскинул брови, выражая тем самым своё недоумение. Нам было удивительно, что людям с улицы, каковыми фактически мы являлись, можно вот так запросто попасть на такое представление.
– Можно, – ответил молодой человек, по всей видимости, только-только начинавший в сфере деловой активности. – Но только с условием, что заплатите мне. И контролёру на входе тоже. Спортзал с рингом совсем рядом. Начало через четверть часа.
Озвученные суммы платы за посещение экстремального зрелища показались нам вполне приемлемыми.
– Ну что, сходим? – сказал Михаил, обращаясь ко мне. – Узнаем, чего так жаждет столичная общественность.
– Давай поглядим. Надо же как-то провести время.
– Идёмте, я провожу, – проговорил юный делец. – Только плату вперёд, пожалуйста.
– На, держи, – бросил я, вручая ему деньги.
Так мы оказались в спортивном зале, где проходили поединки, официально запрещённые, по сути, подпольные.
Во втором раунде Корунфеев, он был левша, коронным левым крюком уложил своего противника на пол, а когда тот упал, обрушил на него дополнительную серию яростных размозжаюших ударов – под восторженный вой зрителей, от которого сотрясались стены.
– Что он делает! – с болью в голосе воскликнул парень, сидевший рядом с нами. Он вскочил на ноги и, взмахивая сжатыми кулаками, закричал:
– Рефери, останови Дровосека! Останови, чёрт бы тебя побрал!
Но его беспомощный глас потонул в ликующем хоре любителей жестоких расправ.
– Знакомый, что ли, твой? – спросил Михаил у парня, имея в виду поверженного бойца.
– Да это Димка Рябцев, – плачуще ответил тот, – вместе учились в одном классе. Мать у него тяжелобольная. Решил через бой зашибить деньжат на её лечение. Только куда ему против Дровосека! Тот на десять кг тяжелее его и во стократ опытней и мощнее. И не заработал ни гроша, потому как победителю – всё, а побеждённому – ничего, и покалеченным вдобавок сделается.
Бесчувственного Рябцева положили на носилки и унесли. Где-то в одной из смежных комнат ему окажут необходимую медицинскую помощь, и всё будет хорошо. Так заявил рефери. После чего он обратился к залу и спросил, кто ещё из присутствующих желает выступить против Дровосека и тем самым продлить всеобщее развлечение?
Ответом было робкое молчание. Никому не хотелось оказаться перед безудержным натиском неодолимого бойца.
– Давай я попробую, – тихо проговорил Михаил, взглядом испрашивая моего согласия. – Хочется уделать эту мерзавчину. Как остервенело добивал он несчастного, жесть просто, мороз пробирал по коже.
– Нет, Миша, – тихо же, вполголоса ответил я, – ты не справишься.
– Тогда ты выйди.
– Да ты что! Забыл, что сказал Лошкарин: ни во что не встревать, быть в целости и сохранности. А если Корунфеев угрохает меня! И с каким видом я тогда явлюсь перед полковником?
– Не угрохает. Выйди, сделай его, у тебя получится, должно получиться.
Я подумал немного, и когда рефери в очередной раз бросил клич: «Прошу, господа, кто желает на ринг?!» – встал, поднял руку и направился к огороженному помосту.
Зал встретил моё художество – сумасшедшее, по всеобщему, как я понял, убеждению, – опять же бурным ликованием, ибо предстояло насладиться не просто новой порцией сногсшибательного развлечения, но и в сопровождении серьёзных телесных повреждений сокрушённого бойца, должно статься, и обильного кровопускания.
Корунфеев был на полголовы выше меня и тяжелее килограммов на семь-восемь. Предыдущая схватка не изнурила его, а только разогрела, и он кипел энергией и страстью к новым движениям и нанесению беспощадных ударов.
Я попрыгал с полминуты, помахал руками и врезал в пустоту, по воображаемому противнику, серию стремительных прямых и боковых, чтобы тоже размять мышцы и подготовить весь организм к активной работе.
Зал ревел от восторга, созерцая нашу ожесточённую рукопашную с применением борцовских приёмов и ударов руками и ногами. Минута боя, вторая, третья… и тот самый левый крюк мне в челюсть справа.
Перед глазами сотряслось и потемнело, секунды три или четыре я был в нокдауне, в состоянии настоящего грогги, но у меня хватило соображения и сил показать вид, что со мной всё в порядке. Я улыбнулся во всю ширь лица, рассмеялся беззвучно и сделал несколько быстрых шагов назад и в сторону, чтобы уйти от последующих ударов, которые уже готовы были обрушиться на мою голову и корпус.
– Карузо, держись! – донёсся отчаянный выкрик из зала. Это Михаил, забывшись в азарте, назвал меня по прозвищу. – Не сдавайся, уделай эту суку!
Я и не собирался сдаваться. Ещё шаг назад и в другую сторону. В голове наконец прояснилось. Фигура противника, его лицо, жестокие устремлённые глаза со зрачками, как у ядовитой мамбы, оградительные канаты и ринг в целом приняли чёткие, устойчивые очертания. Явственно донёсся плывший до этого шум беснующегося зала, через который пробивались отдельные истошные выкрики.
Уклон от очередного крюка в голову, и… мой встречный боковой правой свалил Корунфеева на помост. Последовавший затем удар – со всего маха – ногой в область носа и зубов окончательно добил его; это было наказанием за избиение уже беспомощного Дмитрия Рябцева.
Возле физиономии противника, лежавшего на боку, растеклась тёмная лужа крови, хлынувшая изо рта. Видимо, у Дровосека был поранен язык.
Зал взорвался таким исступлённым рёвом, какого раньше я никогда не слыхивал. Дамы визжали, подпрыгивая и размахивая платочками и шляпками. Мужчины яро рычали, вскочив с мест и топая ногами. Все жаждали именно крови, и она полилась в изобилии.
Однако немало было и тех, кто сделал многотысячные долларовые ставки на Корунфеева и потерял их; лица таковых были хмуры и озабочены.
Рефери поднял мою руку вверх, повернул меня во все стороны, представляя людям, алкавшим жуткого зрелища и в полной мере получившим его, и объявил меня победителем. Кажется, именно так происходила церемония моего представления; в неостывшем ещё запале я не обратил внимания на подробности.
Когда мы с Михаилом покидали зал, Дровосек только начал приходить в сознание. Главным для него было то, что он остался жив и серьёзно не изувечен. Удар ногой всё же не был сделан в полную силу; в последнее мгновение перед соприкосновением свода стопы с его лицом я немного сдержал себя, иначе человек мог быть убит.
Гонорар, который мне вручили вместе с красиво оформленной плотной полиэтиленовой сумкой, был довольно значительным: это были три толстенные, связанные алым шнуром стопки баксов, ещё пахнувшие типографской краской.
Михаил был вне себя от восторга и только что не приплясывал.
– Ну, Карузо, как ты сделал его! – ликующе приговаривал он. – Как этот Дровосек летел на пол, как шмякнулся со всего маха!
Прежде чем уйти, я заглянул в бокс, куда унесли Дмитрия Рябцева. Понурив голову, он сидел на кушетке, обтянутой коричневой клеёнкой.
Женщина-врач лет сорока с усталым задумчивым лицом, оказавшая ему помощь, стояла у стола и складывала в саквояж медицинские принадлежности. Подождав, пока она уйдёт, я подвинул стул и сел напротив парня.
– Как чувствуешь себя? – спросил я у него.
– Сейчас – терпимо, – несколько виновато ответил тот, посмотрев на меня и поняв, что мне можно довериться. – Врачиха такая заботливая попалась. Всё приговаривала: «Потерпи, милый, скоро пройдёт, и тебе будет легче, потерпи». Руки у неё такие тёплые, нежные.
– Больше не участвуй в этих боях без правил, Дима. Иначе тебя сделают калекой.
– Да понял я уже. Плохо, для матери ничего не заработал.
– А что с твоей мамой?
Парень ещё больше понурился. Во взгляде его прочиталось беспомощное отчаяние.
– Операция ей нужна серьёзная. А она денег больших стоит. Где только взять их…
– Деньги не проблема, – ответил я и, достав из сумки две стопки только что заполученных шуршиков, сунул их в руки незадачливому бойцу. – Вот, держи. Надеюсь, этого хватит для оплаты операции и последующего лечения.
При виде заграничных дензнаков Рябцев широко распахнул изумлённые глаза и на несколько мгновений словно онемел.
– Вы шутите? – произнёс он, ещё не совсем придя в себя. – Так шутить нельзя, это непорядочно. Так что…
– Никаких шуток, – сказал я, прервав его. И, улыбаясь, добавил: – Держи крепче, чтобы не улетели.
Молодой человек недоверчиво посмотрел на меня.
– Бери, бери, – сказал я. – Ну, кому говорят, бери!
– Как мне отблагодарить вас? – взяв деньги, произнёс он с благоговением.
– Никаких благодарностей не надо. Хватит того, если ты до конца жизни будешь порядочным человеком, и никогда не совершишь подлостей.
– Вы словно ангел, сошедший с небес на помощь мне.
– Перестань. Гм, ангел, нашёл что сказать! Знал бы ты, Дима, кто я такой на самом деле и сколько боли и несчастий причинил многим людям. А кто твоя матушка по профессии?
– Учительница русского языка и литературы.
– И как звать её?
– Вера Алексеевна.
Меня словно жаром обдало: моя рано умершая мать тоже была учителем русского и литературы, и звали её Верой Алексеевной.
– Сколько ей лет?
– Сорок шесть. Учительская работа истрепала ей здоровье. В современной школе…
Дверь приоткрылась, и в бокс заглянул Михаил.
– Ты скоро? – спросил он.
– Уже иду.
– Сказал на две минуты, а сам…
– Передай от меня поклон своей матушке, – сказал я Рябцеву. – Она вырастила замечательного сына. Прощай, будь здоров.
– Как мне найти вас? – спросил он.
– Никак. В Москве я проездом.
С этими словами я вышел в коридор. Дверь в соседний бокс была открыта. Там врачи приводили в чувство Корунфеева. Судя по тому, как он выглядел, бои без правил на год или больше были ему заказаны. Меня кольнуло чувство вины перед бойцом. Последний удар ногой… Зря это я.
– Обмыть бы надо твою победу, – обронил Михаил, когда мы оказались на улице. – Деньжищ-то привалило сколько! Куда будешь девать такую прорву?
– Гм, куда девать! – сказал я усмехаясь. – Было бы что тратить.
– Вон забегаловка напротив, пойдём спрыснем. До вечера запах выветрится, и никому из наших в голову не придёт, что мы хряпнули. И перекусим заодно, есть хочется, не знай как.
– Ладно, уговорил, пошли.
Пересекли улицу. Зашли в заведение, словно в насмешку называвшееся «Трактир под деревом», ибо ничего похожего на деревья возле него не было; замечались только две мало облиственные, плохо прорисованные зелёные ветки по концам вывески.
Сели за столик. Подошёл услужливый официант, игравший роль полового и одетый по-старинному в длинную снежной белизны подпоясанную рубаху и белые же штаны.
– Что изволите заказать? – произнёс он, слегка поклонившись и заведя одну руку за спину.
Мы заказали по стакану красного креплёного вина, запечённую речную рыбу и дрожжевые блины с говяжьим фаршем, свёрнутые в трубочку; они были удобны для нанизывания вилкой.
– Смотри, о моей схватке с Дровосеком полковнику Лошкарину ни слова, ни намёка, – сказал я, отпив с треть стакана довольно приятного алкогольного напитка и подцепив кусочек рыбы; вино хорошо пошло по жилам, привнося ощущение физиологической комфортности.
– Гм, мне-то что, – ответил Михаил с набитым ртом и не переставая жевать. – Зачем ему докладывать о чём-то?! Что, я ничего не соображаю? К тому же мы люди маленькие, подначальные, и наше дело телячье: обделался и лежи, ха-ха, – он допил из своего стакана и с прищуром посмотрел на меня. – А винцо ничего себе, можно употреблять. Не грех бы ещё по стаканчику – для пущего кайфа. Закажем?
– Перебьёшься.
– Грубо с вашей стороны.
– Вообще-то глупость это.
– О чём ты?
– О том, что полез на ринг. Корунфеев очень даже приличный боец. Мне просто повезло, а так я мог жестоко пострадать. И какой тогда из меня был бы участник предстоящего дела с освобождением генерала Храмова?! Вот и выходит, что глупец я.
– Да ладно корить себя; нормально всё получилось на ринге. И в любом случае ты никак бы не пострадал, мне ли не знать твои бойцовские способности – ещё с «Полярного медведя». Сколько раз ты усмирял разных костоломов – новоприбывших дурачков, пытавшихся наехать на тебя.
Вечером мы вернулись на явочную квартиру. Перед тем как войти, я сказал Михаилу:
– Глянь, как у меня с морденцией, всё в порядке?
Он изучающе оглядел мою физиономию.
– Вроде справа на челюсти есть припухлость с краснотой и синевой, но почти незаметно. Если не знаешь, что был бой, не обратишь внимания.
В постели, едва я закрыл глаза, передо мной вновь нарисовалась концовка дневной встречи с полковником Лошкариным.
– Вопросы есть? Вопросов нет.
Этими крылатыми словами из кинофильма «Белое солнце пустыни» полковник закончил изложение дела, связанного с судебным произволом над генералом Борисом Александровичем Храмовым, лживо обвинённым в коррупции и прочих мошеннических делах, одним из моих бывших командиров в войне на Ближнем Востоке. Лучшим едва ли не из всех, кого я знал.
По боевой доблести и умению найти выход из самой критической ситуации его можно было сравнивать только с Лошкариным.
Вопросов было множество, но все они не имели практического значения.
Например, могло ли совершиться самоуправство над Храмовым в действительно правовом государстве? В той же Канаде, допустим, где я проживал несколько последних лет. И отвечал себе, что в этой стране даже отдалённо ничего похожего на такой произвол не было бы.
Или – почему в защиту генерала не выступили его начальники, которые наверняка знали Бориса Александровича как безукоризненно честного человека? По слабости характера своего не защитили, из-за трусости? Или потому, что они в числе многих других должностных лиц тоже занимались расхищением денежных средств, выделяемых на развитие армии, и у них самих рыльце в пушку?
Мысли об этом так и роились в голове, лишая сна и вызывая приступы нестерпимой злобы к происходившему беспределу.
Усилием воли я отогнал фантасмагорию с генералом, и на смену ей пришёл ещё один эпизод минувшего дня.
– Пожрать бы, – сказал Болумеев, подойдя ко мне после встречи с полковником. Я непонимающе посмотрел на него, не способный сразу вникнуть в его слова, а он, немного кривляясь, добавил с южным акцентом и характерными искажениями: – Есть, панимаешь, дарагой, охота.
Вот у кого на уме одни только естественные потребности: пожрать, поспать, дерябнуть при удобном случае – всё без каких-либо мучительных раздумий и угрызений совести.
– На первом этаже есть неплохая кафешка, – услышав его, проговорил Глеб Фролов, тоже участник встречи нашей группы. – Там можно перекусить. И цены божеские. Если что, я с вами. Хотя нет, мне надо успеть по одному адресу; меня ждёт там одна красотка.
Однако в кафешку эту мы так и не заглянули.
– Давай прогуляемся вперёд, – сказал я. – Подышим московским воздухом.
– Ладненько, пошли, – сказал Михаил. – Но потом – по двойной порции самого вкусного-превкусного. О’кей?
– Гут.
Мы вышли на улицу и в итоге оказались в вышеупомянутом спортзале, где проводились бои без правил и где я заработал кучу денег.
Глава вторая
Курсом на восток
Мы с Михаилом Болумеевым ехали в одном купе плацкартного вагона – седьмого. А в шестом, через вагон-ресторан, находились наши товарищи по команде, бывшие собровцы капитан Тимофей Зуев и лейтенант Глеб Фролов.
Местом нашего прибытия был Ольмаполь. Город, в котором я родился и вырос и который во многом определил мой жизненный путь, включая осуждение на пятнадцать лет колонии строгого режима. Туда же в тот же день утренним авиарейсом должен был прилететь и наш старшой, полковник в отставке Дмитрий Иванович Лошкарин.
Меня не покидали мысли о генерал-майоре Храмове, которого нам надлежало спасти от гибели, предначертанной ему высокими функционерами.
Около месяца назад военный суд, состоявшийся в Ольмаполе, приговорил его к десяти годам заключения. По сфабрикованному, как я уже упоминал, обвинению в финансовых махинациях.
В моём представлении вся государственная машина обрушилась на возмутителя спокойствия, надумавшего вынести сор из избы.
Уголовное дело на генерала было заведено спустя недолгое время после того, как он предпринял решительные действия по разоблачению армейских мошенников с большими звёздами на погонах, высших офицеров, наделённых широкими полномочиями и расхищавших многомиллиардные суммы.
На украденное строились дворцы заграницей, преимущественно в Европе и Северной Америке, покупались самолёты, яхты, способные бороздить океаны, заводились роскошные любовницы, словом, налаживалась замечательная райская жизнь, наполненная удовольствиями и снобизмом.
Инициаторами судебного процесса над Храмовым и стали те самые военные чины, которых он обвинял в обогащении на казённых деньгах.
Даже будучи осуждённым, генерал продолжал оставаться опасным для участников хищений. Все они могли жестоко пострадать за провёрнутые ими финансовые аферы. Крушением служебной карьеры, отъёмом накопленных средств, а кому-то и посадкой на длительные сроки. Такие примеры не были редкостью. Обычно это происходило, когда расхитители действовали самостоятельно, без ведома более высоких должностных субъектов, от которых во многом зависели, и не делились с ними наворованным.
Поэтому – по информации, полученной Лошкариным из достоверных источников, – его намеревались убить на другой день после этапирования в колонию строгого режима «Полярный медведь», расположенную на северо-востоке Сибири, недалеко от базальтового плато Путорана, по другую, левую сторону нижней части Енисея. Убийство должно было выглядеть как несчастный случай, и всё для его совершения было приготовлено.
«Полярный медведь» – это зэковский лагерь, в котором мы с Михаилом Болумеевым в своё время отбывали наказания по суду. Он – за разбой, а я – по ложному обвинению в попытке изнасилования несовершеннолетней девушки. И якобы за нападение на полицейских при исполнении ими служебных обязанностей. Хотя на самом-то деле блюстителей порядка я уложил, лишь защищаясь от них, когда они набросились на меня с резиновыми дубинками во время следственного действия в допросном помещении.
Так что обычаи «Полярки», как зэки называли это распроклятое место, были нам хорошо известны.
Убить заключённого тамошние тюремщики (или по их приказу козлы, то есть зэки, которым администрация лагеря давала власть над другими зэками) могли походя и самым изуверским способом, без малейших последствий для них самих, что и происходило неоднократно за годы моего пребывания на зоне.
Задача нашей команды – или группы – состояла в том, чтобы упредить убийц, освободить генерала и переправить его в безопасное место, недосягаемое для карательных органов.
За некоторое время перед отправлением в Ольмаполь мы, пять человек, собрались на московской явочной квартире и обсудили план предстоявшей операции.
В тот день я и Михаил прибыли из Канады по полученному мной извещению от Лошкарина, состоявшему из нескольких слов: «Прилетай. Срочно. Треба твоё содействие». И через пару часов после прибытия узнали о сути намеченного дела: что для выполнения его придётся ехать ещё дальше, на восток, в Сибирь и что, как я и ожидал, оно полно рисков для жизни.
А накануне мы с моей женой Наташей – Натальей Павловной Веряниной, талантливейшей художницей, известной на всём американском континенте, – должны были приехать к Болумеевым в гости. Между нами была договорённость, они ждали и готовились к встрече. До этого ни мы у них, ни они у нас ещё ни разу не бывали.
Я позвонил Михаилу и объяснил: так, мол, и так, мне срочно надо лететь в Россию.
Он категорически заявил, что летит со мной. Я отговаривал его, указывая на грядущие опасности, но тот стоял на своём. Пришлось уступить.
Кроме этого я сделал звонок в ресторан «Калина красная», где выступал со сцены, развлекая гостей своим шансоном – таким способом я зарабатывал на жизнь, – и тоже предупредил об отъезде.
Меньше чем через двое суток мы уже были в Москве, где и встретились с Лошкариным в упомянутом конспиративном пристанище.
Сначала полковник переговорил с нами двумя и коротко изложил существо грядущего, весьма незаурядного предприятия. После чего пригласил Зуева и Фролова, находившихся в соседней комнате.
Полковник оглядел всех, задерживая на каждом взгляд проницательных глаз, и сказал:
– М-да, немного нас. Но, может, это и хорошо – больше народа, больше сутолоки. На крайний случай, у Измайлова и Болумеева, – он поочерёдно посмотрел на меня и Михаила, – остались друзья в Ольмаполе, и на них можно будет рассчитывать в случае чего. Так, господин Петров или не так?
Лошкарин назвал меня по фамилии, прописанной в фальшивом паспорте. Я представлялся Петровым Виктором Степановичем, а Михаил – Киселёвым Артёмом Владимировичем.
– Так точно, товарищ полковник, – отчеканил я, вытягиваясь по стойке смирно, – на них можно всецело положиться; окажут всю необходимую помощь, уверен в этом. Мы с ними много чего рискового проворачивали вместе.
Наш командир предложил располагаться кому как удобно, и мы присели: двое на кушетке и двое на стульях.
– Итак, напомню ещё раз, – продолжил Лошкарин, расхаживая по комнате. – Нам необходимо освободить генерала Храмова и переправить его в надёжное убежище. После чего обеспечить ему эмиграцию. У кого какие будут соображения?
Он посмотрел на Михаила.
– Сперва пусть выскажет своё мнение самый младший по воинскому званию.
Заканчивая фразу, полковник снисходительно улыбнулся, но тут же, негромко кашлянув, снова принял строгий деловой вид. Он знал, что Болумеев в армии не служил и никакого воинского звания у него не было.
Михаил хотел встать, но Дмитрий Иванович остановил его движением руки и словами:
– Пожалуйста, не надо вставать. Говорите.
– Считаю, – сказал Михаил, – что самое надёжное – ударить во время этапирования генерала по маршруту следования конвоя к району нахождения режимного лагеря. Нам с Петровым, – он кивнул на меня, – довелось побывать и в ольмапольском СИЗО, и в «Полярном медведе». Из обоих мест вызволить человека практически невозможно, только если с боем и большим количеством атакующих. Но это грозит серьёзными людскими потерями, и далеко не факт, что удалось бы выполнить задуманное.
Все остальные участники встречи согласились с его мнением. В ходе состоявшегося обсуждения был сделан вывод, что самым правильным будет нападение на заключительном этапе конвоирования – при провозке осуждённого на теплоходе по Енисею.
Иного пути добраться до «Полярного медведя» в летнее время не существовало. Зимой можно было по зимнику, то есть по дороге, проложенной прямо по снегу, на последнем отрезке – по льду Енисея, а с поздней весны до ледостава – только водой.
– Насколько мне известно, – сказал Лошкарин, у которого были надёжные люди в правоохранительной системе, обеспечивавшие его достоверной информацией, – непосредственно в колонию генерал-майора Храмова Бориса Александровича собираются доставить с общим этапом в количестве тридцати человек. На грузовом судне, в специально оборудованном трюме. Под надёжным сопровождением, разумеется. И скорее всего, этим судном будет сухогруз «Витус Беринг».
Тимофей Зуев предложил действовать под видом речной полиции. И что лучше всего совершить нападение, когда судно переместится в нижнюю часть реки, примерно за сутки до его подхода к пристани посёлка Забудалово, являвшейся местом высадки конвоя с генералом и другими осуждёнными, вдали от крупных населённых пунктов с их многочисленной полицией и Росгвардией.
На том и остановились. Обговорили ещё кое-какие вопросы.
Речь зашла об оружии.
Я сказал, что нам с Михаилом достаточно будет стволов, которые мы спрятали во время моего прошлогоднего пребывания в Ольмаполе и его окрестностях.
Тогда, год назад, я приезжал на родину, чтобы выполнить последнюю волю своего погибшего друга Филиппа Никитича Татаринова, с которым мы вместе отбывали сроки в «Полярном медведе». Татаринов был смотрящим, главным среди блатных, то есть зэком, отвечавшим за ситуацию в лагере и взаимоотношения между сидельцами. Блатным был и Михаил Болумеев.
Я же относился к низшей касте мужиков – к заключённым, оказавшимся на зоне случайно, в силу тех или иных житейских обстоятельств или по дурному норову своему привнёсшим сумятицу в человеческое сообщество.
Впрочем, ко мне относились с уважением и блатные, так как я мог постоять не только за себя, но и за тех, кого опекал. Что многажды доказывал. С Татариновым мы были друзьями и в течение всего совместного пребывания на зоне, и после, уже на воле.
Оружие наше находилось в лесном схроне возле Салымовки, обезлюдевшей деревеньки, расположенной за сорок километров от Ольмаполя.
Это были снайперская винтовка «Гюрза-2» с оптическим прицелом и три пистолета. Два моих – ТТ и «Грач»; последний – восемнадцатизарядный, со скорострельностью тридцать пять выстрелов за минуту, но немножко капризный, иногда дававший осечки в холодном состоянии. И болумеевский «Макаров», иначе ПМ.
Полковник и его помощники также были вооружены: пистолетами и короткоствольными автоматами. И ещё у нас был один шприцемёт, тоже выполненный в виде пистолета.
Всего этого было вполне достаточно для затеваемых действий.
Кроме того, Лошкарин должен был обеспечить всех надёжными документами, гласившими, что обладатели их являются значимыми сотрудниками Госбезопасности.
Мы собирались выехать через день после встречи на явочной квартире, но заминка с получением этих удостоверений, которые обещала предоставить полковнику какая-то неведомая мне и Михаилу сетевая организация в силовых структурах, задержала нас в Москве на несколько суток.
Отмечу, что обсуждение плана операции по освобождению генерала Храмова в значительной степени носило формальный характер, так как ещё до нашего с Михаилом приезда Лошкарин со своими собровцами обговаривали его, пришли к точно таким же выводам и уже начали предварительную подготовку. Об этом позже с игривой усмешечкой обмолвился Глеб Фролов.
Уже по завершении совещания Михаил, ни к кому конкретно не обращаясь, произнёс вопросительно:
– А кто на самом деле эти военные чиновники, которых обличал генерал Храмов?
Вопрос прозвучал с несколько наивными интонациями.
– Эти чиновники – паркетные шаркуны, прирождённые холуи, которые усердно лижут зад начальникам, стоящим над ними, – сухо ответил капитан Зуев. – Благодаря своим «выдающимся талантам» они успешно строят карьеры и обретают огромную власть, в то время как достойные, способные офицеры, настоящие профессионалы, задвигаются в дальний угол и остаются в тени. Такая практика, наносящая огромный урон армии и державе, в настоящее время сплошь и рядом.
С момента отправления поезда прошло два часа.
Взглядом и кивком головы я сделал знак Болумееву; мы поднялись и прошли в вагон-ресторан. Сели за один из свободных четырёхместных столиков напротив друг друга. Подошёл официант. Заказали еду из трёх блюд.
Кроме нас в обеденном салоне были ещё трое посетителей, сидевших по разным углам: одна женщина и двое мужчин, все ничем не примечательные личности, какие встречаются почти на каждом шагу.
Через пять минут появились Зуев и Фролов. Устроились сбоку от нас, по другую сторону салона. По их виду я понял, что у них всё в порядке. Выглядели они обычными пассажирами. Только холодная решимость, время от времени обозначавшаяся в глазах Зуева, показывала, что он человек опасный и что лучше с ним не связываться, а обойти стороной.
Я невольно взял это себе на заметку и с ещё большим тщанием постарался принять облик самого заурядного провинциала, добавляя лицу выражение простодушия, дабы избавиться от малейших признаков собственной крутизны.
Фролов же выглядел едва ли не деревенским увальнем, и я фиксировал его трансформацию как положительный факт. От природы он был немного артистом и беззаботным весельчаком, и в этом отношении у него было чему поучиться.
Отобедав, сразу вернулись в свой вагон. Михаил лёг спать, а я долго сидел у окна, провожая глазами пейзажи, проплывавшие в отдалении.
В сознании нарисовались прощальные сценки с Натальей Павловной, дорогой, любимой.
– Измайлов! – восклицала она, заламывая руки. – Это безобразие! Я едва успела привыкнуть к тебе после твоей прошлогодней поездки в Ольмаполь, будь он неладен. И вот ты снова прёшься туда. Образно говоря, опять по своей воле суёшь голову в петлю.
– Наташа, родная, меня попросил приехать полковник Лошкарин, – отвечал я. – Нам надо помочь ему, у него какая-то проблема, и, судя по всему, нешуточная. Лошкарин был командиром нашей группы спецназа на Ближнем Востоке. Мы обязаны жизнью друг другу, я – ему, он – мне, так что…
Увидев, что сказанное мною не убедило её, я продолжил:
– Ты же знаешь – полковник помог мне эмигрировать из России. Если бы не он, меня или пристрелили бы при попытке захвата, или опять посадили, причём лет на двадцать, а то и пожизненно; ты сама говорила, что меня там могло ожидать. И что, мне теперь отказать ему? Да кем бы я был после этого!
Жена ударилась в слёзы.
– Я же на восьмом месяце, – сказала она, всхлипывая и положив руки на вздымавшийся живот.
– Ну и что?
– Как я буду рожать без тебя?
– Может, я к тому времени вернусь!
– Да-а, вернёшься… О, Господи, вот несчастная-то я!
– Не плачь, милая, – говорил я, обнимая её. – В твоём положении нельзя расстраиваться. Всё будет хорошо, вот увидишь. Сколько раз мне доводилось участвовать в разных наворотах, и всегда я выходил сухим из воды.
– Когда-нибудь это «участвование» плохо кончится для тебя, и я останусь одна с тремя детьми на руках.
– Наташа, ну зачем накаркивать! – довольно жёстко проговорил я. – Это всего лишь деловая поездка, можно сказать, как раз по моему спецназовскому профилю. Полковник и люди, которые с ним будут, и я тоже, зубы проели на разных острых делах, имеющих военный оттенок. В конце концов, ты знала за кого выходишь замуж, и видела в какой суровой обстановке сходишься со мной.
– Ага, за кого выходишь! Заморочил тогда мне голову, как тут не выйти.
– Х-ха, это ещё большой вопрос, кто кому что заморочил! Ну-ка скажите, сударыня, кто спровоцировал меня на первые объятия?
Наверное, мне не надо было говорить с ней так неделикатно, но она никак не хотела примириться с моим отъездом, и это немножко ожесточало и выводило из себя.
Поезд прибыл в Ольмаполь точно по расписанию.
Было уже начало июня. Город встретил нас палящим солнцем и влажной удушливой жарой; даже в тени воздух оставался горячим. Лёгкие куртки мы сменили на светлые рубашки с короткими рукавами; попадавшийся народ волей-неволей обращал внимание на наши внушительные бицепсы и трицепсы.
Обогнули здание вокзала, прошлись по привокзальной площади, подошли к ларькам, торговавшим прохладительными напитками, мороженым и табачными изделиями. Выпили по стаканчику освежающей газировки.
– Обратили внимание? – с вопросительными интонациями произнёс Фролов.
– На что? – откликнулся Болумеев.
– На то, какие каменные, застывшие лица у здешних. Особенно у людей зрелого возраста.
– Пожалуй, да, есть такое. Наверное, из-за «необыкновенно богатой» провинциальной жизни, – Михаил рассмеялся странным горловым смехом. – Тут поневоле закаменеешь и голову повесишь. Неслучайно многие, особенно молодёжь, так и норовят бросить якорь в столицах. В итоге Москва и Петербург только и растут по численности народонаселения, а глубинка из года в год обезлюживается. Функционирование государства так «удачно» устроено, что всей его мощности при неисчислимых, богатейших в мире природных ресурсах едва хватает на развитие этих двух мегаполисов.
– Какой ты, Мишка, грамотный стал, – сказал Фролов, усмехаясь. – Как верно обозначил первопричину демографической проблемы. Вопрос, где ты этих знаний понабрался?
– Да всё же на виду, Глебушка, откройте глаза! – воскликнул Михаил. – Москва – это метрополия, куда стекаются основные денежные потоки. В погоне за ними и люди туда же норовят нырнуть. Большая же часть провинции – это колония, подвергающаяся нескончаемому драконовскому ограблению и, как результат, влачащая жалкое существование. Отсюда все упомянутые негативные последствия. Между прочим, демографические проблемы, возникшие на этой почве, давно перезрели, приобрели катаклизмический характер и начали угрожать цельности государства. Только нынешние правители, вероятно, по скудоумию своему, не замечают этого. Или делают вид, что не замечают.
– Предлагаю завязать с подрывными кухонными разговорами, – скрипуче пробурчал Зуев. – А то услышит какой-нибудь бдительный «дятел», ревнитель патриотических настроений, и позвонит куда следует. Зачем привлекать к себе излишнее внимание? Болтовня ни к чему хорошему никого ещё не приводила. Донос, стукачество в нашем обществе – стародавняя традиция, помните об этом.
– Да ладно тебе… – начал было возражать Болумеев, но Зуев оборвал его строгим взглядом и продолжением назидательной речи, сопровождаемой жёсткими интонациями:
– Не ладно, иной раз лучше помолчать. Для собственного благополучия. Иначе кончится тем, что твой язык тебя до каторги доведёт. По нарам соскучился, да? Или по дубинкам в полицейском отделении? Не забывай, что с тобой там могут сделать. И главное – бестолковый никчёмный словесный понос может сорвать всю операцию, ради которой мы приехали сюда.
Глава третья
Мой несчастный друг
Зуев и Фролов взяли такси и поехали в гостиницу «Заезжий дом “Таверна Кэт”», в которой сняли двухместный номер. В «Таверне» поселился и полковник Лошкарин, чей самолёт приземлился за час до нашего приезда.
А мы с Михаилом отправились на квартиру Кости Маткивского, моего старого дружбана, чтобы узнать, что у него и как. Меня связывали с ним не только дружеские симпатии и совместное эпизодическое времяпровождение, но и оказание взаимных услуг с немалыми рисками для жизни и здоровья.
Я несколько раз звонил ему из Москвы и по дороге на разных промежуточных станциях, и позвонил сразу по приезде, рассчитывая встретиться и договориться о постое, но он не отвечал. Поэтому мы ехали наудачу. В любом случае, надо было узнать причину его молчания, это стало нашей главной целью.
Позвонили в дверь. Ответа не было. Я нажал на кнопку звонка ещё и ещё. Всё тот же результат.
Тогда мы прошли в соседний подъезд – благо наружная дверь была открыта, – где проживала Марья Петровна Ильина, Костина приятельница, старушка лет семидесяти с небольшим. Я был знаком с ней, и однажды у нас даже было общее застолье по её приглашению и с участием Маткивского.
Михаил притопил кнопку звонка возле её двери. В квартире прозвучал отрывок классической мелодии, что-то из Огинского. Следом послышались шаркающие шаги, дверь открылась, и перед нами предстала хозяйка квартиры.
Она вмиг узнала меня, приветливо ответила на наши «здравствуйте!» и пригласила к себе.
Вошли. Сняли обувь на половичке в прихожей. Марья Петровна провела нас на кухню и за непродолжительным чаепитием рассказала весьма печальную историю.
С полгода назад, в начале зимы, Костя вечером возвращался после работы домой, уже темно было. И на автобусной остановке сделал замечание трём подвыпившим парням весьма внушительных габаритов и вверх, и вширь, грязно матерившимся в присутствии детей, школьников младших классов, мальчишек и девчонок.
В ответ, не переставая извергать нецензурную брань, молодчики набросились на Маткивского и несколькими ударами по голове булыжником, подвернувшимся им под руки, свалили его на заснеженный асфальт. Уже лежачего, его принялись бить ногами по туловищу и опять же по голове. С минуту, наверное, били, изливая пьяную злобу, после чего сели в подошедший автобус и уехали.
Костя же остался лежать на площадке пассажирского павильона.
Дети, разбежавшиеся во все стороны, собрались возле него, затормошили, чтобы он поднялся, но тот лежал без какого-либо движения, словно мёртвый, и вроде бы даже не дышал. Ладно, один из мальчиков догадался вызвать машину скорой помощи, а то он так и доходил бы на снегу, пока не закоченел.
Врачи приехали и увезли моего друга в больницу, где его определили в реанимацию.
Марья Петровна, узнав о случившемся от знакомой медсестры, каждый день приходила проведывать соседа.
Через трое суток Костя очнулся. Но вроде бы никого не узнавал, по крайней мере поначалу, лепетал что-то бессвязное, нечленораздельное, больше похожее на короткие мыканья. И потерял всякую координацию движений – лишь хаотично подёргивал руками и ногами.
– И где он сейчас? – спросил я, выслушав невесёлый рассказ.
– У себя в квартире, – ответила Марья Петровна. – Месяца четыре назад выписали бедного из нейрохирургического отделения, куда перевели после реанимации. Никому, кроме меня, он не нужен оказался, ни родственников не сыскалось, ни друзей настоящих. Вот, я привезла его, ухаживаю за ним, готовлю, кормлю с ложечки. Да ему, лежачему, много и не надо. И остальной уход делаю.
– Вы одна только им занимаетесь?
– Нет, Клавонька ещё, дочка моя, приходит. После работы и по выходным. Когда есть время, она целыми днями возле него, а я в это время отдыхаю. Книжки всё разные читает ему, художественные, больше приключенческие, которые сама любит. Костик же слушает и иной раз улыбается или печалится. Смотря что в той или иной книжице описывается.
Марья Петровна слегка развела руками, на лице её проявилась грустная улыбка.
– Он ведь сейчас понимает всё, только высказать не может. И полностью осознаёт, что представляет собой совершенно беспомощного инвалида.
Я был наслышан об истории дочери Ильиной. Это была тридцатилетняя женщина, у которой росла дочь двенадцати годков.
В ранней юности, будучи школьницей выпускного класса, Клава дружила с одноклассником, мальчиком весьма красивой наружности и очень продвинутым в плане познавания разных наук, особенно точных.
И так получилось, что она забеременела от него. Родители виновников экстремального события настаивали на аборте, но молоденькая носительница плода только рыдала в ответ на увещевания взрослых.
Через три месяца после окончания школы Клавдия родила здоровенькую девочку и с радостью принялась растить её. Дочку она назвала Машенькой в честь своей матери. А отчество дала по покойному родителю Алексею. И в свидетельстве о рождении новоявленная гражданка стала фигурировать как Мария Алексеевна Ильина.
Отец же ребёнка, в то время семнадцатилетний парень, проявив душевную слабость, прекратил всякое общение с Клавой сразу же, как только узнал об её интересном положении. Даже сворачивал в сторону и прятался по подъездам, когда она попадалась ему на пути.
Мало того, чтобы не видеть её и не испытывать чувства вины перед ней, за месяц до окончания учёбы перевёлся в другую школу, где его с удовольствием приняли, ибо он был на редкость способным учеником, неоднократно становившимся победителем школьных олимпиад.
Сейчас он преподаватель вуза, кандидат математических наук, по слухам, начал готовиться к защите докторской диссертации; в общем, известнейший учёный города с ещё более солидными видами на будущее.
– Каковы же перспективы у Кости? – спросил я у Марьи Петровны по окончании её рассказа. – Есть подвижки к выздоровлению? Что врачи говорят?
– Никаких улучшений. На постели сесть не может; как полугодовалое дитя. Врачи сказали, что нужна операция на головном мозге. Но у нас такие не делают, да и как их делать при такой повальной «оптимизации», когда государственные больницы тут и там закрывают одну за другой и увольняют медперсонал, – Ильина вздохнула глубоко, покачала головой и продолжила: – Знающие люди сказывали, что надо везти в Германию, только там лучше всего могут прооперировать. Но кто и как повезёт, и кому надобна такая хло́пота! И стоят эти операции огромных денег. А где их взять? Одна перевозка больного человека в такую даль сколько потребует!
– К нему хоть можно пройти?
– Отчего же нельзя! Пойдёмте. И Клавонька, должно быть, уже пришла к нему. Она частенько, не заглядывая ко мне, прямиком туда.
Прошли в Костин подъезд, поднялись в его квартиру. И в самом деле, нас встретила молодая веснушчатая женщина среднего роста, довольно миловидная, с ясным чистым взором и скромной стеснительной улыбкой на лице.
Мы представились Костиными друзьями и сказали, что полчаса назад звонили в дверь.
Женщина приветствовала нас неглубоким книксеном и наклоном головы, сказала, что зовут её Клавдией, что она ухаживает за больным и что только что, минут пять как, пришла к подопечному. После чего провела нас в комнаты.
Он лежал на постели, чистенькой, опрятной, и сам чистенький, умытый, и немного повернул голову при нашем появлении.
Мне показалось, что он узнал меня и попытался что-то сказать. Но издавал только звуки, похожие на «ме-ме» и «ва-ва»; действительно как малый ребёночек, несколько месяцев назад рождённый, не способный ещё вставать на ножки. Губы его искривились в горькой улыбке, на глазах появились слёзы.
Некоторое время я стоял в растерянности, увидев его таким; опомнившись же, сказал:
– Ничего, Костян, дружище, не плачь. Мы вылечим тебя, – я приблизился к нему, пожал его слабую безвольную руку и погладил её. – Вот отвезём в Германию и вылечим. Не сомневайся, обещаю, при всех обещаю.
И посмотрел на стоявших в двух шагах Марью Петровну и Михаила. Затем – на Клавдию, поправлявшую подушку больному.
Привлекало внимание, как она смотрела на него: столько тёплого участия было в её взгляде! Так обычно мать смотрит на своего ребёнка.
– Вы уж позаботьтесь о нём, – всё же сказал я ей.
– Я стараюсь, – коротко ответила она.
Когда мы вернулись к старшей Ильиной, я спросил у неё:
– Часто в течение дня навещаете Маткивского?
– Да я почти все свободные минуты провожу с ним, бедолагой, – ответила она. – И по ночам захожу. Книжки тоже всё читаю ему. Сейчас взялись за «Сказки братьев Гримм». И Клавонька, я уже говорила, не отходит от Кости, почитай. Иной раз так вымотается, что засыпает на стуле возле евонной постели. Только если он спит, мы оставляем ненадолго страдальца.
За стеной, в соседней квартире, раздавалась громкая беспрерывная музыка. Какой-то ультрасовременный музыкальный аппарат долбанил. Так же громко, надрывно звучало и в прошлый, годичной давности визит, когда мы с Костей, тогда здоровым человеком, сидели за столом у этой пожилой женщины – по её приглашению. И до Костиной квартиры доставало оглушающе, ибо жилплощадь, где гремели аккорды и литавры, была смежная и с ней.
– Кто это накручивает там? – спросил я, обратившись к Ильиной. – Аж уши режет.
– Да отставной подполковник один, – сказала она; лицо её сморщилось, словно от зубной боли. – Сарпушин, кажется, фамилия его, да, так. В каких-то очень важных органах служил раньше.
– А сейчас?
– Сейчас на пенсии по выслуге лет. Донял всех музыкальными развлечениями своими и в нашем подъезде, и в соседних. С утра до вечера гоняет. И на Костика действует угнетающе, чуть не плачет бедный иной раз от этого треклятого музона. Сколько раз увещевали Сарпушина, никаких слов не понимает; встанет только как истукан, вылупит волчьи глаза, и ни слова в ответ.
– А что, не обращались к кому-нибудь, чтобы успокоили вашего доморощенного менестреля, к той же полиции, например?
– Как же, звонили соседи по подъезду. Приезжал полицейский наряд, поднимались к нему. Он, Сарпушин, как показал им своё удостоверение, так они взяли под козырёк, извинились и уехали. Жильцам же, которые вызывали полицию, сказали, что если ещё будут надоедать, то самих арестуют на пятнадцать суток за хулиганство.
– И участкового просили, чтобы урезонил этого типа?
– И того. Тот отмахнулся только, сказал, что не до вас, мол, у него и так полно работы, и что надо проявлять толику терпимости.
– Совсем, значит, нет управы на человека.
– Ой, нисколько!
– Ладно, нет так нет. Тогда мы сами.
Я посмотрел на Михаила.
– Сходим глянем, что там к чему?
– Отчего ж не сходить, – легонько усмехаясь, произнёс мой товарищ. – Да ты здесь будь, я один.
Он направился к выходу и уже взялся за ручку двери и отодвинул ригель замка, но я остановил его.
– Нет, Миша, пожалуй, не надо пока. Давай не сейчас. Вот сделаем дело, ради которого приехали, вернёмся и тогда уж наведём порядок в танковых войсках.
Ильина смотрела на нас внимательным взглядом.
– Какие-то вы, мальчики, не такие, – сказала она. – Необычные, не как все. Есть в вас внутренний стержень какой-то, уверенность в себе особенная. И что-то вы друзья, задумали, к чему-то готовитесь серьёзному, нутром чую. Ой, смотрите, не натворите дел!
– Это вам, уважаемая сеньора, только кажется насчёт «стержней» и «натворения», – сияя медоточивой улыбкой, ответил Михаил. – На самом же деле мы народ смирный, воды не замутим.
– Сказал тоже – сеньора! – негромко воскликнула хозяйка квартиры. – В первый раз простую бабу так назвали. Шутник, однако.
Марья Петровна предложила нам остановиться у неё на бесплатный постой. Мы согласились, и она выдала нам ключ от квартиры – один на двоих. Михаил заявил, что устал с дороги, и улёгся спать на диване в отведённой нам комнате.
Я же позвонил своему другу Петру Вешину, управляющему ольмапольским отделением банка «Трапезит», одного из крупнейших в стране, и договорился встретиться с ним через час в кафе «Огонёк», находившемся неподалёку от главной улицы города. В этом заведении несколько лет назад я впервые увидел художницу Наталью Павловну Верянину, красивейшую девушку, позже ставшую моей женой.
Точно в указанное время я вошёл в кафе. Пётр сидел в углу за дальним от входа столиком. Вместе с ним был Юрий Самойлов, капитан полиции, его двоюродный брат и тоже мой дружбан.
Я подошёл и присоединился к братьям. Никаких бурных приветствий, просто скупо поздоровались, чтобы не привлекать излишнего внимания присутствующих.
– Как ты? – спросил Юрий, пожимая мне руку.
– Отлично, – ответил я. И подумал, что если кто и поможет отыскать «гомо сапиенсов», искалечивших Маткивского, то только он.
За буфетной стойкой хлопотала какая-то молодая шустрая бабёнка, а не моя старая знакомая Нина Хохлова, жена владельца заведения, как я ожидал. Значит, Ниночка нашла себе подмену; раньше она отпахивала буфетчицей ежедневно, без выходных.
Заказали мясо, обжаренное кусками, и бутылочку мадеры, красного креплёного вина пятилетней выдержки с содержанием спирта двадцать три градуса. За едой и выпивкой я рассказал о Косте Маткивском, о том, кто он такой, о несчастье, случившемся с ним, и его сегодняшнем физическом состоянии.
Отметив ограниченные возможности ольмапольских эскулапов, я повернул Костину проблему со здоровьем в сторону Германии с её высочайшей медициной. И сказал, что только в этой стране смогут поставить больного на ноги и вернуть ему речь. Но нужна довольно крупная сумма денег.
– Как, можно ли посодействовать? – спросил я у Вешина.
– Не такая уж великая проблема, – ответил он, недолго подумав и отпив вина. – У нашей канцелярии есть графа расходов для подобных случаев. Сделаем в лучшем виде. Если надо будет, попросим дополнительную сумму у московского отделения банка, в штаб-квартире «Трапезита», у самого Темникова, владельца нашей финансовой организации, очень даже разветвлённой и могучей, тебе это известно, способной и не на такие вспомоществования.
– Но ещё ведь надо организовать перевозку Маткивского и договориться с немецкой клиникой!
– И с перевозкой всё устроим, и с немцами. У нас хорошие связи с нужными людьми. Они обо всём позаботятся. Доводилось заниматься делами, связанными с заграничным лечением. Сегодня же задействую своих коллег, и они начнут без волокиты. У тебя всё насчёт Маткивского?
– Всё, но только с вашей конторой.
Я обратился к Юрию, молча слушавшему наш разговор.
– Юра, следователь капитан Саблин Андрей Трофимович уже в отставке?
– Да, уже на гражданке, месяц прошёл, как уволился.
– Вот незадача!
– А он-то для чего надобен?
– Хотелось поговорить с ним насчёт подонков, искалечивших Костю, чтобы Саблин разыскал их. Но раз он отставной…
– Ничего, что в отставке. Андрей поможет, так или иначе; в случае чего, своих, которые служат, попросит подключиться, самых надёжных. Тем более что он собирается открыть частное детективное агентство. Сегодня же встречусь с ним и всё обскажу.
Юрий тоже отпил вина и утвердительно кивнул мне головой.
– Будет ему работёнка для старта как частному сыщику. После избиения твоего друга полгода прошло, следы преступников подзатёрлись, но Саблин и не с такой давностью случаи раскручивал и до суда доводил виновников. Только надо будет заплатить ему за труды.
Юрий посмотрел на Вешина.
– Как насчёт денежек?
– Без вопросов, – ответил тот. – Сколько скажет, столько и заплатим.
Мне было известно, что с полгода назад Самойлов оформил законный брак с Сашей Новиковой, фельдшерицей по профессии, моей хорошей знакомой, и спросил о его семейных делах.
– У нас с Сашуленькой всё отлично, – лучезарно улыбаясь, ответил Юрий. – Не думал, что могут быть такие умницы жёны. После работы едешь домой, как на праздник, где тебя встречают с распростёртыми объятиями и полным столом вкуснейшей еды. Жизнь словно сказка пошла! Заметил, как я поправился, вошёл в тело?
– Есть немного.
– Гм, немного! Чуть ли не в полтора раза тяжелее стал, рубашки в плечах трещат. И всё от хорошего питания и повышенного настроения.
Я знал, что у них должен был родиться сын, и спросил:
– Сынишка как? Сколько уже настукало ему?
– Три месяца доходит. Растёт. Улыбается во весь ротик. Почти по килограмму ежемесячно прибавляет.
Речь зашла о Любушке, его дочери от первого брака, крайне неудачного, с женщиной, поведением своим напоминавшей опасную ядовитую змею.
Юрий посуровел лицом, задумался, глубоко вздохнул и сказал, что с дочкой он видится еженедельно и как может отучает её от дурных повадок, прививаемых матерью.
Он словно вжался головой в плечи, поднял свой стакан с вином и молча, без тоста, залпом осушил его. Пётр последовал примеру брата. В сущности, мадеру они употребляли вдвоём, я сделал лишь пару глотков для компании.
– А как, – спросил я, – поживает наш «друг» Арсений Владимирович Патрикеев, главный прокурор города? Слух прошёл, что его банковские счета за рубежом были заморожены.
Семь лет назад, спустя десять месяцев после моего и Петра побега с зоны, мы втроём решились вычистить сейф с бриллиантами, принадлежавшими сему высокому должностному лицу, стоимостью, как позже выяснилось, больше шести миллиардов рублей.
Тёмной дождливой ночью приехали на внедорожнике к посёлку Золотая Долина, где в своём двухэтажном особняке проживала мадам Басина, тёща Патрикеева, и где «притулился» сейф с обработанными камушками, и приступили к рисковому делу.
Пётр остался в машине неподалёку от автострады. А мы с Юрием прорезали дыру в стальной сетке, отгораживавшей посёлок от остального мира, и проникли на его территорию. Прошли незамеченными расстояние до одностороннего уличного порядка и, перемахнув через бетонный забор, стоявший вокруг приусадебного участка мадам, влезли в домостроение. Басина же эту ночь проводила у своего милого друга, что нам было хорошо известно, ибо мы заранее всё вызнали.
В одной из комнат особняка и находился стальной шкаф, заполненный изящными, красиво оформленными коробочками с брюликами, как бесцветными, чистой воды, так и фантазийными – розовыми, синими, зелёными и другими.
Юрий выполнял основную работу: вскрывал замки, дверные и сейфовые, а я был на подхвате.
У нас глаза на лоб полезли, когда мы увидели, каким огромным количеством драгоценностей набито несгораемое хранилище. Наших сумок едва хватило, чтобы погрузить всё это добро, и тяжесть была – руки обрывала.
Вышли из дома. Огляделись. Дождь так и лил не переставая. Перед тем как приступить к выполнению задуманного предприятия, Юрий отключил свет на подстанции, передававшей электроэнергию посёлку, и темень была – глаз коли.
Тем же путём перебрались через забор на улицу – и бегом к дороге, где метрах в ста от домов ждал Пётр за рулём.
Заскочили в машину, Пётр дал по газам, немного погодя свернул на грунтовку и погнал между полями.
Всё добытое спрятали в лесных схронах возле деревеньки Салымовка. Ну и отметили на радостях удачно провёрнутый гешефт. Позже сокровища были переправлены в Москву, в хранилища центрального отделения банка «Трапезит».
Кража была не с бухты-барахты и не из-за наклонности к подобным опасным мероприятиям. Последним качеством мы ни в коей мере не страдали. И на это дело пошли лишь после всесторонних многодневных обсуждений, сопряжённых с тщательной подготовкой.
Главным же нашим двигателем была месть прокурору за его ложные обвинения, по которым нас с Петром посадили на длительные сроки.
– У Арсения Владимировича в плане накопления денежных средств всё замечательно; пожалуй, даже лучше прежнего, – ответил Пётр. – Высокая прокурорская должность предоставляет ему мощнейшие источники для умножения капиталов, и он использует их со всё большим размахом. Прогресс у него в сём отношении поистине удивительный, что мне хорошо известно. По банковской линии у меня есть возможности отслеживать движение его финансов, и время от времени я это делаю.
– Отслеживаешь? Зачем? – спросил я.
– Низачем. Из простого любопытства. Кстати сказать, многое из того, что принадлежало бывшему полковнику полиции Окуневу, погибшему при плавании на парусной лодке по итальянскому озеру Гарда, перешло в руки Патрикеева.
– Ему? – переспросил я. – Я не ослышался?
– Процентов девяносто этому собирателю капиталов досталось из окуневского наследства. Вообще денежки как бы сами стекаются в его карманы. Достаточно «погасить» уголовное дело против какого-нибудь состоятельного чела, преступившего нормы закона, – и новые миллионы рублей или долларов так и устремляются в сторону названного крапивного семени. Так что за последний год он, в целом, не только не понёс убытков, но чуть ли не вдвое богаче стал.
– Непотопляемый, выходит, субъект.
– Да уж, запас плавучести у Патрикеева дай бог каждому. Однако не нескончаемый.
– А что с Николаем Рыскуновым? – спросил я, обратившись к Юрию. – Как у него дела?
В прошлый свой приезд в Ольмаполь я «наградил» Рыскунова, отпетого бандита, двумя винтовочными пулями: одной раздробил локоть правой руки, второй – колено правой ноги. За убийство своего друга Филиппа Татаринова. Окунев был заказчиком преступления, а Рыскунов стал исполнителем: расстрелял Филиппа Никитича из автомата.
– У него дела как сажа бела, – нехорошо посмеиваясь, ответил Юрий. – Ты сделал этого типа совершенным калекой, что привело его к полному, так сказать, экономическому крушению.
И поведал, что, пока убийца моего друга лежал в больнице почти полгода, его «кореша» растащили всю принадлежавшую ему недвижимость и поделили между собой весь бизнес, которым он занимался.
Сгоряча, не оценив новую расстановку сил в бандитских кругах, он попытался качать права и начал угрожать вероломщикам. Но всё кончилось для него жестокими побоями, после которых он двое суток не мог подняться с постели.
– Будешь ещё рыпаться, – сказали ему на прощанье вчерашние друзья, – сломаем левую руку. И левую ногу тоже. И причиндалы оторвём. Будешь тогда лежать, как «самовар».
В настоящий момент Рыскунов ютится в лачуге и передвигается на костыле. Правая рука у него бездействует; даже спичку не может зажечь одной левой рукой, потому пользуется зажигалкой. От него все отвернулись, и он перебивается с хлеба на воду.
И женщины теперь обходят его далёким краем. При том, что до ранений этот субъект отличался исключительной любвеобильностью.
– Поделом, гадине, – произнёс Юрий по окончании своего повествования. – Он многим жизнь поломал. Наконец-то кара настигла его.
Я же спросил у Петра, нельзя ли каким-либо образом ущемить и Патрикеева, сделать его если не нищим, то по крайней мере избавить от излишних накоплений и обратить их в пользу бедных.
Пётр помолчал с минуту и сказал:
– Я сам думал об этом. Попробуем что-нибудь спроворить. Через Темникова. Альберт Брониславович связан со всеми главными банками, и возможностей у него в тысячу раз больше моих. Но дело это непростое, и понадобится некоторое время.
– Взгляд у тебя тяжеловатый, – сказал мне Самойлов под конец встречи. – Он тебя выдаёт. Знаю, нахлебался ты за жизнь всякого, но избавься от него. Слышишь?
– Да. Постараюсь избавиться.
Я весело сощурил глаза и беспечно улыбнулся.
Ещё поделившись новостями, в основном о своей личной жизни, мы расстались, и я отправился на квартиру Ильиной.
Марья Петровна встретила меня с неубывающей радостью, провела на кухню, опять угостила чаем и составила мне компанию.
За чаепитием я рассказал, что вопрос с лечением Кости в Германии решается наилучшим образом и что уже на днях его повезут в эту мощнейшую высокоразвитую федеративную республику. Однако нужен кто-то для постоянного сопровождения больного.
– А пусть Клавонька едет! – воскликнула Ильина. – Я переговорю с ней. Думаю, она с готовностью согласится. Возьмёт отпуск на работе и поедет. Уж больно к сердцу принимает она несчастье, случившееся с Костей. Лучше моей дочки никто не сможет ухаживать за ним.
– Это точно, никто, – поддакнул я. – Она даже смотрит на него, как мать на своего ребёнка.
Пётр сдержал слово. Спустя неделю Костю повезли в Германию. Рядом с ним неотлучно находилась Клавдия Ильина.
Глава четвёртая
Преступление и наказание
Покончив с чаем, я поблагодарил хозяйку и прошёл в отведённую нам комнату.
Михаил сидел на диване и протирал заспанные глаза.
– Выспался? – бросил я усмехаясь.
– Ага, вдосталь. Как встреча с Петром?
– С Петром и Юрой Самойловым. Нормально встретились. Поговорили о том о сём.
– О чём? Или это секрет!
– Никакого секрета.
И я рассказал. В том числе о плачевном состоянии Рыскунова.
– Заслужил своё, сучара, – сказал Михаил, выслушав. – Нет, не то, ещё мало ему досталось. По-настоящему, казнить бы его принародно самой лютой казнью. Одно время добирались мы до него, но немножко не добрались.
И он в свою очередь выдал следующую историю.
Их было четверо молодцов, обесчестивших шестнадцатилетнюю Янину Солодникову, возвышенную девочку, мечтавшую о великих делах, которые она свершит во благо людям.
Кроме того что Рыскунов и компания изнасиловали Янину, кто-то из них заразил её гонореей.
Мать её, Юна Артемьевна, одна воспитывала дочку и души в ней не чаяла.
– Какая ты счастливая, что у тебя такая дочь, – говорили ей друзья и знакомые. – Таких больше ни у кого нет.
– Это точно, – радостно улыбаясь, отвечала она, – Яниночка – моё великое счастье. И мы так любим друг друга.
Старшая Солодникова была медсестрой, работала в одной из городских поликлиник.
Дочь же хотела стать врачом-педиатром, чтобы лечить детей и с первых дней их жизни помогать им в обретении крепкого здоровья. Она заранее готовилась к поступлению в медицинский институт и была лучшей ученицей в классе. Все учителя прочили ей золотую медаль и большое светлое будущее, осыпанное божьими милостями.
Сколько раз, бывало, она подбирала на улице брошенных котят и щенят, нередко больных, облепленных струпьями, выхаживала их до полного выздоровления и потом через интернет передавала в добрые руки.
– Это мои пациенты, – говаривала она иногда. – И я дарю им новую жизнь, благополучную на этот раз, надеюсь.
– И охота тебе возиться с ними, – судили её соседские девочки, глядя на очередного облезлого котёнка, которым она занималась. – Как тебе не противно!
– Врач не должен брезгать пациентами, – отвечала она с улыбкой на лице. – Я и не брезгую, а сострадаю им. И им так же больно, как и людям, только они ещё более беспомощные. Увы, далеко не каждый жалеет их.
Девочку не просто потрясла мерзость, сотворённая с ней, психологически она была убита наповал, внутренне раздавлена, растоптана.
Добравшись до дома, она рассказала о случившемся матери. Та душевно тоже была сражена и в первые минуты не могла произнести ни слова. Но несколько позже, придя в себя, стала просить дочку держаться. Что, дескать, да, тяжко, гадко, однако надо перетерпеть, что жизнь на этом не заканчивается и что будут ещё и хорошие денёчки.
Старшая Солодникова поседела за одну ночь.
Боясь огласки, Юна Артемьевна сама лечила Янину. И вылечила.
В полицию они не обращались. Опять же из страха перед позором.
Только для самой Янины смысл существования в этом бренном мире был потерян. Спустя немного времени она бросила учёбу, стала пить, курить, словом, быстро пошла под откос.
Однажды она так напилась какого-то суррогата, что свалилась в квартальных кустах и пролежала в них половину ночи.
Все окрестные бомжи делали с ней, что хотели, каждый исходя из своих фантазий.
В девятнадцать лет по причине подорванного здоровья Янина лишилась половины зубов.
В двадцать лет она умерла.
На похоронах Юна Артемьевна не пролила ни слезинки; глаза её были сухими. При физической хрупкости она была довольно сильная характером. Дополнительную крепость ей придавали ненависть к насильникам и нескончаемое желание отомстить им.
Все предыдущие четыре года исподволь она наводила справки о молодцах, погубивших её дочь. И в конце концов установила личность одного из них, некоего Ермилина, где он проживает и место его работы.
Это был двадцатитрёхлетний парень, единственный сын своих родителей, слесарь на одном из заводов.
Чтобы быть поближе к нему, Юна Артемьевна при появлении вакансии перевелась в здравпункт этого предприятия. На меньшую зарплату. И стала ждать своего часа. И спустя ещё год дождалась.
Это были дни, когда в коллективе завода проводили вакцинацию против вирусного заболевания, имевшего некоторые признаки кори.
Вирус отличался особой агрессивностью, представлял большую опасность для здоровья, потому прививали всех, за исключением редких противопоказаний.
Наконец в кабинет здравпункта пришёл и Ермилин. Они оказались вдвоём.
Юна Артемьевна прикрыла дверь с защёлкивающимся замком, посадила рабочего на стул и велела ему высвободить левую руку из рукава спецовки. Когда он высвободил руку, она сделала ему инъекцию в мышечную плечевую ткань.
– Посиди немного, – сказала она и, подождав, пока он засунет руку в рукав робы, продолжила: – Знаешь, дружок, что я вколола тебе?
– Лекарство против вирусного заболевания, что же ещё! – ответил пациент, ухмыляясь.
– Нет, дорогой, ты ошибаешься, – холодным механическим голосом произнесла Юна Артемьевна. И, назвав препарат, сказала, что это смертельный яд.
– Через пару минут ты сдохнешь, – холодно же посмеиваясь, добавила она.
Ермилин оцепенел на несколько мгновений, затем сделал движение, чтобы вскочить и бежать к двери, но ноги отказали ему, и он бессильно снова опустился на стул.
– Видишь, понял, почувствовал, яд уже действует, – сказала убийца, продолжая улыбаться холодной хищнической улыбкой. – А знаешь, почему я вколола его тебе? Помнишь, пять лет назад вы вчетвером изнасиловали несовершеннолетнюю девочку, школьницу десятого класса? Это была моя дочь, её звали Янина. В прошлом году она умерла. Из-за вас. Вы погубили её. И вот час расплаты настал. Как, хорошо тебе сейчас? Нет?! И мне нехорошо. С того самого проклятого дня. Смотрю, тебе совсем поплохело. Ах, бедненький, ха-ха.
Ермилин действительно побледнел, как смерть; он схватился за горло, захрипел, покачнулся и, уронив стул, повалился на пол.
Через минуту парень уже не дышал.
Юна же Артемьевна сняла с себя белый халат, вышла в коридор, заперла кабинет здравпункта на ключ и прошла к заводской проходной.
– Что-то рано сегодня наша медсестра, – сказала ей вахтёрша, сидевшая возле вертушки. – Или заболели? На вас лица нет.
– Да, самой нездоровиться стало, – ответила Юна Артемьевна. – Со стольким народом за день контактируешь. Видимо, инфекцию подхватила. Вот, отпросилась.
Она вышла на улицу, где её ждало заранее вызванное такси, и поехала к себе домой.
Приехали. Юна Артемьевна расплатилась с шофёром.
– Вам плохо? – проговорил он, глядя на неё. – Что-то вы скверно выглядите. У вас такой бледный вид. Может, вам помочь?
– Нет, со мной всё в порядке, – ответила Юна Артемьевна. – А вам за доброе намерение спасибо.
Она вышла из машины, поднялась в свою квартиру на третьем этаже, переоделась во всё чистое и написала предсмертную записку, упомянув в ней совершённое убийство. Затем позвонила в полицию, сделала себе инъекцию того же яда, дозу которого получил Ермилин, отпёрла входную дверь и легла на диван.
Врач, прибывший вместе с полицейскими недолгое время спустя, констатировал лишь смерть несчастной.
Случилось так, что вся эта трагедия дочки и матери Солодниковых дошла до Филиппа Никитича Татаринова. И привела его в мрачное состояние духа. Он даже выпил немного коньяку, дабы расслабить нервы, чего обычно не делал в течение рабочего дня.
Поразмыслив немного, Татаринов вызвал к себе Михаила Болумеева, рассказал о Солодниковых и велел ему разыскать насильников. И наказать по справедливости. Тот привлёк своих подручных.
На город словно накинули мелкоячеистую сеть, сквозь которую не могла незаметно ускользнуть ни одна мало-мальски стоящая информация.
Если на поиск Ермилина и его наказание Юна Артемьевна потратила в общей сложности пять лет, то помощники Татаринова ту же работу выполнили за три дня.
Одного прелюбодея зарезали в тёмном проходе между нежилыми постройками, второго вытолкнули из лоджии одиннадцатого этажа двенадцатиэтажного дома.
Болумеев лично участвовал в обеих расправах. С предварительными объяснениями педофилам, за что их собираются превратить в прах земной.
В первом случае виновник гибели Янины Солодниковой бросился бежать, достиг конца прохода и уже начал поворачивать за угол, но Михаил метнул вдогонку нож. И угодил ему в спину возле левой лопатки. Тот упал.
– Ты понял, за что тебя? – спросил Михаил, наклонившись над поверженным.
В ответ послышалось недолгое хрипение, лишь отдалённо похожее на слово «да-а».
– Ну, хоть это хорошо, – произнёс исполнитель наказания.
Удары тем же ножом в шею и левый бок довершили начатое.
Второго групповушника, двадцатипятилетнего парня, застали ночью в квартире, которую он снимал.
– Я н-не хотел, – заикаясь, сбивчиво сказал тот в ответ на обвинение. – Это всё Рыскунов, он всё затеял.
– Но тебе понравилось? – спросили у него.
– Не-е, у неё и грудок-то толком ещё не было. Я таких не люблю. И я был последним.
– Последним – разве это что-то меняет? – сказал Болумеев. – Ты виновен, значит, должен расплатиться. Это ты заразил её триппером?
– Нет, наверное. Я к тому времени уже вылечился.
Предварительно мохнорыльника заставили выпить водку. Поллитровку с лишним. Стакан за стаканом. Когда он пришёл в невменяемое состояние, его вывели в лоджию.
– Куда вы меня ведёте? – спросил он заплетающимся языком.
– Гулять, – ответили ему. – Сейчас ты хорошо прогуляешься. И мозги у тебя прочистятся.
Был сильный дождь с грозой, молнии сверкали одна за другой, гром гремел, не переставая, и звук разбившегося тела никого не потревожил.
Осталось добраться до Николая Рыскунова, инициатора изнасилования Янины. Но начались масштабные полицейские преследования людей, возглавляемых Татариновым, затем он сам был убит, и стало не до того.
– Здо́рово ты, не дрогнула у тебя рука, – сказал я, подытоживая повествование Болумеева.
– Пепел Клааса стучал в моём сердце, – ответил Михаил словами из знаменитой книги «Легенда об Уленшпигеле». – А тебе надо было всё же уничтожить этого подонка Рыскунова.
– Ладно, чёрт с ним, – ответил я с некоторым чувством виноватости и досады. – Переделывать сделанную работу не будем; добивать глубокого инвалида – не для меня.
Глава пятая
В Сибири
Через трое суток после прибытии в Ольмаполь полковник Лошкарин собрал нас в своём гостиничном номере и оповестил, когда и каким именно транспортом генерал Храмов будет этапирован к месту заключения.
– Информация получена из надёжного источника, – сказал он. – Сначала Храмова доставят в Красноярск. Поездом, в специальном вагоне для осуждённых. В так называемом вагонзаке. Внешним видом он практически не отличается от многих других типовых цельнометаллических вагонов.
Мы с Михаилом переглянулись. Нам обоим доводилось «путешествовать» в подобном транспортном средстве – с зарешёченным внутренним пространством, под вооружённым конвоем. Мне – один раз, ему – трижды.
– В вагонзаке восемь камер, – продолжил Лошкарин. – Три малых и пять больших. В одной из них, малой, отдельно от остальных осуждённых будет находиться Борис Александрович Храмов, честный боевой генерал, а не вороватая канцелярская крыса, каковым его представили судебные органы. Как вы понимаете, наш путь тоже поначалу до Красноярска. Дальше, к самому месту заключения, всю партию арестантов – об этом у нас уже был разговор – повезут водным путём на сухогрузном теплоходе. Нам важно не отстать от него и под видом полиции вмешаться в решающий момент.
У каждого из нас кроме гражданской одежды была повседневная полицейская форма подходящих размеров: пиджак, брюки, рубашка и кепка. И обувь из хорошей кожи, соответствовавшая общей цветовой гамме костюмов. А также полицейские же плащ и куртка на случай непогоды. Всё было закуплено в одном из московских магазинов Военторга.
– Вопросы есть? – произнёс полковник, закончив докладывать.
– Разрешите? – сказал Зуев, поднявшись с места.
– Говори.
– Когда едем?
– Ты и Глеб – послезавтра. Прибудете в Красноярск, займётесь материальной подготовкой для проведения заключительной фазы операции, непосредственно связанной с освобождением генерала. Купите достаточно надёжное быстроходное судно; мы это тоже обсуждали. Также закупите продовольствие и прочее, что может понадобиться на всё время экспедиции по Енисею и последующее передвижение по тайге. Денег у вас достаточно – и наличных, и на банковских карточках.
Получив от полковника необходимые инструкции, капитан Зуев и лейтенант Фролов быстро собрались и отправились на железнодорожный вокзал за билетами. Через день они скорым поездом выехали в Красноярск.
А я, Болумеев и Лошкарин взяли билеты на поезд, к которому должен быть прицеплен вагонзак с генерал-майором Храмовым и другими осуждёнными.
Со дня нашего прибытия в Ольмаполь прошло две недели. Шла уже третья декада июня. Дни тянулись мучительно долго. В какой-то мере мы коротали их, занимаясь упражнениями на выносливость и отработками приёмов рукопашного боя.
Выезжали за город и там, на поляне, окружённой осокорями и узколистным лохом, тренировались и устраивали спарринги.
Особый упор делали на выучку Михаила, так как его техника и тактика в рукопашном отношении больше походили на обычную уличную драку. Он всё схватывал на лету и освоил немало из того, что я и полковник показывали. Вдобавок у него была необыкновенно высокая скорость движений, что давало дополнительное преимущество в схватке с противником.
И вот наступил день нашего отъезда. Приехали на вокзал, поднялись в купейный вагон, прошли в своё четырёхместное купе, выкупленное на троих. Полковник Лошкарин расположился на левом от двери диване, я – на правом. Болумеев занял полку надо мной.
Впереди – двое с лишним суток пути.
За несколько минут до отправления Михаил спустился на перрон и прошёлся вдоль состава.
– Не опоздайте только! – в спину ему крикнула проводница, стоявшая у входа в вагон, миленькая такая, симпатичная.
– Ни в коем случае! – махнув ей рукой и смеясь, отозвался он и пошёл дальше.
В купе Болумеев вернулся, когда поезд уже тронулся.
– «Тюрьма на колёсах», – сказал он, присев на диван рядом со мной, – в конце эшелона, как и всегда. А потом, после перецепки, будет спереди, сразу за локомотивом.
Он говорил о вещах, известных каждому зэку, побывавшему на железнодорожном этапе. Просто чтобы почесать языком. И ему, и мне, повторяю, доводилось курсировать в тюремных вагонах. При доставке к местам заключения.
Ничего хорошего в этих транспортировках нет; сидишь, точимый тоской, в душной камере без окна, как зверь в клетке, вместе с другими осуждёнными. Среди них нередко бывают и чрезвычайно опасные. Негативная тяжёлая энергетика таких личностей ощущается на физическом уровне.
Могут попасться и маньяки, в том числе такие, у которых неистребимая психопатическая тяга к душегубству. С ними особенно нужно держать ухо востро и всегда быть готовым к столкновению. Такие персонажи хуже самых страшных хищников. Последние обычно нападают на свою жертву лишь будучи голодными, а серийные убийцы – в любой момент, как только их настигнет патологическое обострение, и случается это внезапно.
Более-менее уверенно чувствовать себя давала только способность свернуть шею любому из этой мрачной разношёрстной компании, исходящей ненавистью ко всему добропорядочному. Но самое лучшее – быть подальше от неё.
Когда поезд перевалил через Уральский хребет, лесные массивы исчезли и потянулась однообразная плоская степь, наполненная сладкими, кружащими голову запахами цветущих трав. Час утекал за часом, а пейзаж с его ровным однообразным горизонтом почти не менялся. Редко когда попадались берёзовые рощи, называемые колками.
Бездействие угнетало и приводило в состояние, напоминавшее психологическое оцепенение.
Михаил убивал время, отправляясь на свою полку полежать в объятиях морфея. Иногда он шёл к проводницам и завязывал с ними разные шутейные разговоры с любовным подтекстом. Полковник Лошкарин что-то чиркал карандашиком в небольшом блокноте. Я размышлял о судьбе человечества и его предназначении, а также о скором будущем, ожидающем нас. И рисовал мысленные картины с участием Натальи Павловны и наших сыновей-близняшек.
– Длинная дорога – это средство для отупления мозгов! – заявил Михаил к концу второго дня, после того как отлежал бока.
Вот он-то, пожалуй, ни о чём сколько-нибудь значительном не думал, а жил только ощущениями текущего бытия.
– Буду я ещё голову забивать себе разной дребеденью, – говаривал он порой, отталкивая от себя даже намёк на какие-нибудь отвлечённые рассуждения.
Уже в поезде, спустя сутки после отправления из Ольмаполя, полковник Лошкарин получил эсэмэску от одного из своих информаторов, служившего в правоохранительных органах, о том, что в Красноярске генерал Храмов будет выведен из партии осуждённых. И к месту заключения его повезут водным путём одного. На контейнеровозе «Академик Маслов». Под надёжным конвоем, разумеется.
– С чего бы отделять его? – сдвинув брови, проговорил Лошкарин. – На кой чёрт везти Храмова порознь от других? Не нравится мне всё это, очень не нравится. Ладно, там посмотрим, что к чему, разберёмся по ходу дела.
Он позвонил Зуеву и сообщил о предстоящих изменениях в этапировании генерала.
Наконец прибыли в Красноярск, более чем миллионный город, раскинувшийся на обоих берегах Енисея.
В открытом тамбуре вагона распрощались с симпатичной проводницей.
– А ты хорошенькая, – сказал ей Михаил на прощанье.
– Вот я тебе! – шутливо ответила она и погрозила ему пальчиком. – Будешь знать.
– Что, не понял?
– Укушу, вот что. Съем, ха-ха.
– С удовольствием побыл бы в твоём чудесном организме и слился с ним воедино на полчасика.
– Хулиган!
– Жаль, мало было времени для лучшего знакомства. Вот встретимся на обратном пути, и тогда уж ты да я да мы с тобой…
– Ага, встретимся, как же!
На вокзальном перроне нас ждал Тимофей Зуев.
Взяли такси, проехали в правобережную часть города, где бывшие собровцы снимали трёхкомнатную квартиру на втором этаже пятиэтажного дома.
К своему удивлению, в прихожей рядом с Глебом Фроловым я увидел Леонида Голованина, с которым мы в составе группы спецназа ВДВ воевали на Ближнем Востоке. Он был тогда сержантом, а я – старшим сержантом.
Как и меня, служить в армии по контракту его заставили жизненные обстоятельства, главным образом ничтожные заработки на гражданке и связанного с этим отсутствие сколько-нибудь нормального будущего. И ещё дух авантюризма подтолкнул надеть военную форму.
Однажды нам, четырём спецназовцам под командованием Бориса Храмова, в то время капитана, довелось сопровождать караван двугорбых верблюдов-бактрианов с каким-то секретным грузом. Возможно, это было оружие или ценные материалы, или и то и другое; мы много-то не думали об этом, просто нам приказали, и мы пошли.
Несколько суток мы двигались жаркой безводной пустыней.
В пути довелось пережить песчаную бурю самум и отражать атаку двух вражеских вертолётов с десантом, во время которой были убиты три бактриана из восемнадцати и один молодой араб, погонщик верблюдов; крупнокалиберные пули размозжили парню лицо, и на кровавое месиво, в которое оно превратилось, страшно было смотреть.
Одно из уязвимых мест вертолёта – ротор несущих лопастей. Цель не самая сложная, особенно когда летательный аппарат как бы зависает в воздухе. В эти вращающиеся части я и ударил. Из снайперской винтовки. Бронебойными пулями.
Вертушки одна за другой почти камнем рухнули примерно с трёхсотметровой высоты, на которой находились. И шваркнулись о землю, издав жуткий оглушающий скрежет и подняв клубы пыли, на несколько секунд скрывшие низвергнутые машины.
Зрелище было ошеломляющим; у меня волосы на голове дыбом встали при виде этого и дыхание прервалось, словно от удара под дых.
Людей, находившихся в вертолётах, которые выжили в катастрофе, раненых, не способных оказать сопротивления, добили погонщики ударами прикладов и выстрелами в упор.
Через трое суток после боя караван прибыл в пункт назначения, четырёхтысячный городок Эль-Хамала, приютившийся в оазисе возле одноимённого озера.
Поселение – зажиточное, чистое, ухоженное, с красиво оформленными одно- и двухэтажными каменными жилыми домами и общественными зданиями. И ни единого хоть сколько-нибудь убогого строения, которое вызывало бы мысли о скудости его обитателей.
– Вы поглядите, как люди живут! – обводя руками городские кварталы, воскликнул тогда Голованин. – Кругом пустыня на сотни километров, источников дохода кот наплакал, а они вон как обустроились! Ни обездоленных нет, ни чрезмерно богатых – чуть ли ни коммунизм создали себе, мать твою.
Он состроил обескураженную гримасу, мотнул головой и сжал кулаки.
– У нас же земли плодородной немерено, леса, поля без краю, реки полноводные, одна Волга чего стоит! А большинство народа – нищета, бедность беспросветная, от зарплаты до зарплаты перебиваются кое-как, да ещё в ипотечных долгах как в шелках. Эх, восхвалять только себя мастера мы великие да других учить уму-разуму – при собственном нескончаемом скудоумии, безалаберности и неспособности к созиданию!
– Ты поговори ещё, – сказал ему капитан Храмов. – Ладно, мы все нашенские; в другом месте наговоришь на свою шею: прицепится кто-нибудь из особистов, и будет тебе «счастье» за дискредитацию родимого отечества и наших государственных руководителей, великих и неповторимых, – последние два слова, произнесённые с ядовитым сарказмом, дали знать, что и он, в общем-то, не в восторге от высшей власти. – Сядешь лет на десять, тогда научишься помалкивать.
– А что, разве я не правду сказал?! – вопросил Голованин. – При таком изобилии природных богатств наша страна должна жить лучше всех в мире и быть образцовым примером для остальных государств, а мы тащимся чуть ли не в самом хвосте человеческой цивилизации.
– Кому твоя сермяжная правда нужна? Это во-первых. Во-вторых, не кажется ли тебе, сержант, что ты просто наговариваешь на любимое отечество – из-за собственной жизненной неустроенности? Не смог по безголовости своей нормально вписаться в гражданское общество, и всё-то наше стало тебе негодным.
– Зря вы так, товарищ капитан.
– Не зря! Ты в армии и должен служить, выполнять приказы, и не более того. Всё остальное решат без твоих критических замечаний, в том числе и с развитием страны, её подъёмом. Так что лучше помалкивай. Понял?
– Так точно, понял всё.
Теперь, увидев меня, Голованин глазом не моргнул; наверное, полковник Лошкарин предупредил его о моём участии в предстоявшем деле. А может, и нет. Как бы то ни было, я тоже не подал виду, что его появление для меня неожиданность. Мы только обменялись рукопожатием и внимательно посмотрели в глаза друг другу, напомнив тем самым о былых сражениях, участниками которых являлись, и передав взглядами взаимную симпатию.
– Теплоход «Академик Маслов» отправляется через три дня, – доложил капитан Тимофей Зуев во время совместного обеда. – Ориентировочно, в десять часов утра.
Мы вшестером сидели за овальным обеденным столом в комнате, смежной с кухней. На первое были мясные щи со свежей капустой, на второе – жареная свинина с картофельным гарниром, на третье – сладкий чёрный чай и пирожки с рисом и изюмом. В центре столешницы – тарелка с нарезанным ржаным хлебом, баночка с горчицей и солонка.
– У нас практически всё готово, – продолжил далее Зуев. – Наш катер, название «Шквал», находится у пристани, на расстоянии примерно полтора километра от грузового речного порта, где стоит под погрузкой теплоход, на котором должен отправиться конвой с осуждённым генералом Храмовым. Катер – однокаютный кораблик, достаточно быстроходный, с большим запасом пути. Однако обошёлся он в копеечку.
– А что с закупкой припасов? – спросил полковник Лошкарин.
– Необходимое горючее закуплено, залито в топливный бак и дополнительную цистерну. Часть продовольствия тоже на судне – то, что может храниться достаточно долго и что обговорено ещё в Москве и Ольмаполе: крупы, консервы, сухари, соль, сахар, растительное масло…
Зуев докладывал, выпрямившись и неотрывно глядя на полковника.
– Хватит на всю операцию в акватории Енисея и последующие несколько суток передвижения по тайге. Остальное можно подкупить сегодня или завтра: мясо, молочные и прочие продукты, необходимые для разнообразия питания. В том числе с учётом вкусов каждого, кому что хотелось бы. Кроме того, мы приобрели блокиратор сотовой связи «Вампир»; радиус его действия шестьсот метров.
– А блокиратор зачем? – спросил Михаил.
– Для подавления телефонных звонков в момент нашего пребывания на «Маслове».
– И что это даст?
– Временную задержку с подачей сигналов тревоги со стороны экипажа о чрезвычайном происшествии на контейнеровозе – начальству, которому он подчиняется. Или в службы экстренного реагирования с целью получения помощи. Какие-то действия для подобных авральных случаев у них да предусмотрены.
Михаил хотел ещё что-то спросить, но остановился на полуслове.
– Пару часов назад я познакомился с одним из матросов этого сухогруза, рулевым-мотористом, – сказал лейтенант Глеб Фролов. – В пивном баре. Сидели за одним столиком, опрокинули по кружечке «Крюгера», пива местного сорта. Так вот, он сказал, что сегодня утром к ним под конвоем доставили необычного пассажира – в наручниках. И что это, по его словам, какой-то важный генерал, попавший в опалу, которого везут к месту отсидки.
– Гм, как быстро всё начинает поворачиваться! – как бы размышляя вслух, произнёс полковник Лошкарин. – И где поместили столь необычного пассажира?
– В вещевой кладовой на нижней палубе, рядом с матросскими каютами. С постоянным конвоиром у двери.
– Большой ли конвой? – спросил Лошкарин. – Сколько человек сопровождают охраняемого?
– Вот и я задал ему тот же вопрос, – продолжил Фролов. – Смеясь задал, дескать, целую роту, наверное, отрядили для охраны «важного генерала». Четверо караульных, ответил матрос: старлей и три сержанта. Все – с пистолями, то есть с пистолетами, извините. По крайней мере, у всех пистолетные кобуры на поясном ремне, ближе к левому боку. Он так и показал рукой, где эти кобуры у них пристёгнуты.
– Значит, каждый конвойный вооружён пистолетом, – опять же несколько отрешённо проговорил полковник. – Это нормально, так и должно быть. Возможно, у них и ещё что-то имеется из оружия, короткоствольные автоматы например. Я вот всё думаю: для чего генерала Храмова отделили от других осуждённых, с которыми его везли в вагонзаке? Для чего?!
Лошкарин посмотрел на меня, перевёл взгляд на Фролова; тот вытянул лицо, выражая тем самым недоумение.
– Не для того ли, чтобы расправиться с ним не в самой колонии, а во время движения контейнеровоза по реке? – предположил полковник. – Долго ли, скажем, ночью вывести охраняемого на верхнюю палубу, ударить чем-нибудь по голове и выбросить за борт. Как говорится, и концы в воду. Был человек – и нет его. Куда подевался, кто его знает, может быть, сбежал.
– Это легко сделать – расправиться с кем угодно, – подал свой голос Михаил. – При нынешних порядках в правоохранительных службах. Достаточно распоряжения сверху, и исполнители всё отработают. Для такой надобности специально отбирают самых отмороженных, не то что без Бога в душе, а вообще без таковой, и потому готовых на любое преступление. Ещё и удовольствие от этого получат. На зоне немало рассказывали о подобных эксцессах.
– И как исключить такой вариант? – произнёс Зуев, обращаясь к Лошкарину.
– Не знаю, – мрачно нахмурившись, сказал тот. – К сожалению, придётся рисковать. В надежде на трезвомыслие людей, причастных к этой истории. Не думаю, что расправу с генералом вознамерятся устроить вблизи Красноярска и других городов, более-менее крупных; если только вдали от них, где-нибудь в низовьях Енисея, подальше от посторонних глаз. Если вообще такой вариант предусмотрен.
Не ограничившись разговором с матросом, Глеб Фролов побывал в речном порту, прогулялся по причалам, нашёл, где стоит «Академик Маслов» и поднялся на борт. Правда, его почти сразу же заметил вахтенный помощник капитана, находившийся в рулевой рубке.
– Эй ты, посторонний на палубе, холера тебе в бочину! – угрожающе прорычал он в мегафон. – Пошёл вон на берег, пока тебя не отделали линьками как следует!
Наш товарищ беспрекословно подчинился и быстро сбежал по сходням на причал. Но перед тем как покинуть судно, успел незаметно бросить в трюм между размещёнными контейнерами спутниковый трекер размерами с крупную монету, предназначенный для отслеживания того или иного движущегося объекта.
Уже находясь на берегу, он повернулся и, весело улыбаясь, помахал вахтенному рукой и послал воздушный поцелуй. В ответ тот погрозил кулаком и обложил нецензурными словами.
– Ах, как некультурно с вашей стороны! – крикнул Фролов, не переставая скалиться. – Чему только вы, господин уважаемый начальник, учите свою команду!
– Гражданин, отойдите от чалки, – проговорил вахтенный в мегафон, – а то огреет!
Последнее слово опять было произнесено на матерный лад и имело оскорбительный смысл.
– Итак, «Академик Маслов» отходит через трое суток, – сказал Лошкарин. – Нам же, по всему получается, надо трогаться послезавтра. Теперь уже вниз по Енисею, на север. С суточным опережением сухогруза – объектом нашего непрестанного внимания. Время у нас есть, так что без особой спешки, в нормальном рабочем режиме продолжим подготовку: пополним ещё провиант и займёмся оформлением необходимой документации, чтобы придать нашему предприятию легальный вид.
– Здесь, в Сибири, есть люди, готовые оформить для нас нужные бумаги? – несколько удивлённо произнёс Глеб Фролов.
– Да, здесь есть должностные лица, – подтвердил полковник, – которые разделяют наши взгляды и помогают нам.
Глава пятая
Эль-Байран
Из акватории пристани мы вышли в серых утренних сумерках.
Город ещё спал, и над речной гладью висела неподвижная тишина, нарушаемая лишь тихо работавшим двигателем нашего катера. В рулевой рубке за штурвалом, представлявшим собой вертикальную рукоять вроде большого джойстика, которую надо было поворачивать влево и вправо по мере управления судном, сидел Тимофей Зуев. Рядом с ним на вращающемся стульчике пристроился Глеб Фролов. Полковник Лошкарин, Михаил Болумеев и я стояли на открытой площадке позади каюты.
Леонид же Голованин остался в Красноярске. У него было другое задание: ждать нас в определённой точке соседней области на расстоянии около трёхсот пятидесяти километров от предполагаемого места освобождения генерала на автомобиле, который был куплен Зуевым и Фроловым через пару дней после прибытия в столицу края.
Это был надёжный восьмиместный внедорожник. На нём мы разъезжали по городу, когда отоваривались дополнительными припасами, съестными и прочими. И на нём же Леонид довёз нас до пристани, где стоял «Шквал».
Было довольно прохладно. На каждом из нас – полицейская демисезонная одежда: кепка с удлинённым козырьком, ветровлагозащитная куртка, брюки, заправленные в берцы с высокими голенищами.
Мне к одежде с погонами было не привыкать. В подобном обмундировании, только другого цвета, я проходил шесть лет. Из них больше года – с тремя сержантскими лычками, как и в нынешней экспедиции.
А Михаил, нарядившись полисменом, полчаса, наверное, плевался, оглядывая себя. Ему, бывшему урке, претило всё, имеющее отношение к полиции.
И у каждого из нас – огнестрельное оружие: в кобурах пистолеты, а полковник Лошкарин, капитан Зуев и лейтенат Фролов были вооружены ещё и короткоствольными автоматами Калашникова. Так что выглядели мы довольно внушительно.
Кроме того, в моём личном распоряжении имелись пистолет-шприцемёт «Судак» со снотворными зарядами практически мгновенного действия и уже опробованные ранее снайперская винтовка «Гюрза-2» с оптическим прицелом и восемнадцатизарядный пистолет «Грач». Все эти стволы находились в каюте, на дне одного из рундуков.
Конвой, с которым нам предстояло иметь дело, тоже вооружён, наверняка имел опыт сопровождения арестантов и хорошо, всесторонне подготовлен к самым сложным вариантам действий.
На что мы рассчитывали, собираясь управиться с ним? В первую очередь на собственную дерзость, смекалку, внезапность нападения и счастливый случай. И на специфическую военную подготовку, естественно.
Четверо из нас в прошлом были спецназовцами и представляли собой профессионалов по проведению диверсий и разного рода налётов с применением стволов и лезвий. Многажды нам доводилось участвовать в операциях наивысшей степени сложности.
Только Михаил был сугубо штатским человеком. Но он был сведущ в вооружённых разбоях. И одиночно, и в составе банды. Так что опыт сшибок, причём весьма жестоких, с пролитием крови, у него был немалый. В психологическом же отношении Болумеев практически находился на одном уровне со всеми остальными, и на него можно было рассчитывать, как на самого себя.
В памяти всплыла диверсионная операция на Ближнем Востоке, в горном районе Эль-Байран, где противник обустроил крупный склад с оружием и боеприпасами, некое подобие арсенала.
Нас, шесть «коммандос» во главе со старшим лейтенантом Лошкариным высадили с вертолёта. Я спрыгнул первым. За мной поочерёдно – Лошкарин, сержанты Голованин и Воронцов, ефрейторы Флеганов и Капустин. Как сейчас, явственно увиделись их мужественные обветренные лица.
У противной стороны было больше двух десятков бойцов только из числа охраны. К тому же они пребывали на своей территории, а мы знали местность лишь по топографическим картам, фотографиям воздушной съёмки и видеороликам. И им предстояло обороняться, а нам – наступать, что особенно уязвимо. Но нашим преимуществом должна была стать внезапность нападения.
От места высадки до базы хранения – километров пятнадцать. Пробирались узкими тропами с постоянным риском сорваться в пропасть. Затем сутки укрывались в расщелине между двумя скалами. Изучали подходы к месту нахождения склада. Фиксировали режим передвижения обслуги и охранников; днём – в бинокли, после заката солнца использовались приборы ночного видения.
Дело было в январе. Ночью температура воздуха опустилась до минусовой, и, несмотря на тёплую камуфляжную одежду, все сильно мёрзли.
Главным обогревом был горячий чай в термосах, который мы иногда отпивали. Лично я восполнял убыль тепла ещё тем, что периодически со всей силой напрягал мышцы тела, прежде всего рук и ног. Кроме того, мы прижимались спиной друг к другу во время короткого урывочного сна.
Заметно давал знать о себе разреженный воздух большой высоты, и дыхание было несколько учащённым. И сердце билось ускоренней.
И вот наступил момент решительных действий.
Когда достаточно рассвело, я, вооружённый снайперской винтовкой «Гюрза» с глушителем на конце ствола, расположился в укрытии, облюбованном во время суточного сидения, а остальные начали скрытно выдвигаться к объекту.
От меня до склада было метров пятьсот – ближе не нашлось подходящей позиции, – но оптический прицел сокращал это расстояние в двадцать раз. Так что поначалу я видел всё отчётливо и в подробностях.
Я находился в относительной безопасности, а мои товарищи в любое мгновение могли быть поражены вражеским огнём. Моей задачей было своевременное обнаружение неприятеля и упреждение его действий против нас – нейтрализация, говоря на нашем сленге.
Если оценивать строго, моё участие в операции было вспомогательным, вторичным, хотя и необходимым; без меня всё могло пойти к чертям собачьим. Самое же ответственное и рисковое, повторяю, выпадало Лошкарину и тем четверым, кто с ним пошёл. Их уменьшающиеся фигурки в камуфляжной одежде то исчезали в складках местности, то появлялись вновь на короткие мгновения.
Сооружение, в котором хранились боеприпасы и оружие, большей частью было сокрыто в горе, наружу выступал лишь угол двух смежных стен, сложенных из тёмно-серого природного камня. Потому пристрой хорошо сливался с окружающей территорией, и на фото воздушной съёмки его почти невозможно было различить.
В каждой стене – ворота с вделанными в них одностворчатыми дверными проёмами. В десятке метров от складского угла, слева, если смотреть с нашей стороны, стояло приземистое каменное строение с плоской крышей и небольшими узкими окнами, предназначенное для отдыха караульных.
Неожиданно поднялся встречный ветер, и повалил косой снег с дождём. Видимость заметно ухудшилась, иногда залепляло глаза. Случалось, всё вокруг закрывали плывущие клочья грязно-серых облаков, и меня напрягало то, что в нужный момент я не смогу взять неприятеля на мушку.
Изрезанность рельефа позволяла большую часть расстояния передвигаться скрытно, но последние несколько десятков метров являли собой ровное голое пространство.
Сначала был захвачен замаскированный крупнокалиберный пулемёт, находившийся в некотором отдалении от склада.
Мое содействие было в том, что двумя выстрелами я поразил двух вражеских бойцов, сидевших в этом пулемётном гнезде и наблюдавших за прилегающим районом. Я не убил их, а только довольно серьёзно ранил – настолько, что они не могли ни оказать сопротивления, ни даже предупредить кого-либо из охраны или позвать на помощь.
Через оптические линзы видно было, как всё происходило в результате огнестрелов.
Нажатие на спусковой крючок – и один из пулемётчиков дёрнулся и упал, словно его сбили с ног. Напарник же удивлённо посмотрел на него, не понимая, что с ним – звук моего выстрела поглотил глушитель, – хотел что-то сказать, потянулся рукой к раненому, но свалился сам, поражённый пулей в область шеи, немного ниже левого уха, приблизительно в сантиметре от сонной артерии.
Ефрейтор Капустин залёг возле пулемёта – с этой точки можно было обстреливать почти всё окружающее пространство, – а четверо пошли дальше.
Снежный заряд повторно ослепил меня секунды на две или три, а когда зрение восстановилось, я увидел, как Лошкарин и Воронцов бегут к складу, как они подбежали к ближней стене и, скользнув вдоль неё, поочерёдно проникли внутрь, открыв одну из дверей, правую относительно моей позиции.
Днём противная сторона не запирала двери ни изнутри, ни снаружи, в чём мы убедились за время суточного наблюдения.
В те же самые мгновения Флеганов и Голованин через окна забросали гранатами караульное помещение и заняли оборону, взяв под прицел зоны по обе стороны от себя. Они были ниже моей позиции, и я хорошо видел каждое их движение.
Внутри склада четверо из обслуги делали какую-то работу. Заслышав взрывы и увидев чужаков, один из них схватился за оружие, но был опережён: две автоматные очереди, и со всеми четырьмя было покончено.
Убедившись, что в складских помещениях больше никого нет, Лошкарин и Воронцов оставили под настилами, загруженными взрывчаткой и снарядами, бомбы с взведённым часовым механизмом и выскочили наружу.
В этот момент из-за склона горы показались трое охранников, бежавших к арсеналу. Одного автоматной очередью наповал срезал сержант Голованин, ещё одного – ефрейтор Капустин из захваченного пулемёта. Создавалось впечатление, что крупнокалиберные пули размозжили голову человека на части – красные фрагменты полетели во все стороны.
Третьего свалил я одиночным неслышным выстрелом, опять же не смертельным. Он уже направил автомат на Голованина и, видимо, начал придавливать спуск, но за долю секунды я опередил его; пули, выпущенные им во время падения, ушли в небо.
Подготовительная работа была выполнена, и предотвратить её последствия не могли уже никакие силы.
Командир по рации дал приказ отходить и подал знак рукой, и все пятеро цепочкой устремились в направлении моей позиции; Флеганов бежал первым, Лошкарин – замыкающим. Я видел их разгорячённые лица и сверкающие глаза.
Когда они преодолели половину расстояния, возле склада показались ещё двое охранников. Оба вскинули стволы и открыли огонь по убегавшим «хауфер нами» – «мягким лапам», как сирийские боевики называли наших спецназовцев за умение незаметно просачиваться сквозь позиции противника.
Несколько пуль просвистели рядом со мной. С визгом ударило по склону слева, на расстоянии вытянутой руки.
Я сразу поймал в прицел первого вражеского бойца, но в этот миг меня ослепил ещё один заряд снега. С секундной задержкой всё же я сделал два выстрела, получилось в определённой степени наугад, интуитивно, но тем не менее мне удалось положить обоих, угодив им по ногам, в область бёдер.
Едва Лошкарин и остальные «мягкие лапы» скрылись за скалой, возвышавшейся метрах в восемнадцати позади меня, раздался такой грохот, что задрожали горы, и над складом взвился гигантский огненный шар.
Машинально я припал к выемке за камнями, служившими мне бруствером. И тут же над укрытием пронеслась ужасная ударная волна, поднявшая град мелкого щебня; казалось, что она снесёт меня с позиции и сдерёт обмундирование вместе с кожей.
Когда я открыл глаза и поднял голову, то увидел, что склада и горы, в которой он был устроен, не существует, что на их месте – огромная дымящаяся воронка с каменными обломками, а высоко в небо поднялось чудовищных размеров грибовидное облако чёрного цвета.
Откровенно сказать, зрелище было не из приятных, угнетающе действовавшее на психику и заставлявшее вспомнить об атомном взрыве.
Кое-как встав на ноги, я потащился к скале, за которой укрылись мои сотоварищи.
Главное, все были живы. Только ефрейтор Флеганов получил лёгкое осколочное ранение в голову, на пару сантиметров выше правого виска – от взрыва собственной гранаты, – и половина лица и шея у него были залиты кровью. Его перевязали, кровь смыли; он чувствовал себя в общем-то удовлетворительно.
Кроме того, Лошкарину пулями прошило камуфляж с правого бока. И черкануло по кисти левой руки; так, подобие большой царапины, её только смазали йодом.
– Мог бы и расторопней быть, – с некоторой досадой бросил мне Лошкарин, взмахнув передо мной пораненной рукой. – Будь они точнее, – он показал другой рукой в сторону того, что осталось от склада, и имея в виду двух последних бойцов противника, – лежали бы мы там сейчас все пятеро. Если бы, конечно, взрывом не зашвырнуло куда-нибудь, куда ворон костей не заносит.
– Виноват, товарищ старший лейтенант, – сказал я, встав по стойке смирно, – исправлюсь.
Не мог же я сослаться на снежный вихрь, ослепивший меня, и этим себя оправдывать. Известно: кто оправдывается, у того грешок на душе.
Лошкарин взглянул на наручные часы, помедлил немного и сказал:
– Четыре минуты пятнадцать секунд.
– Что говорите? – не расслышав, спросил сержант Голованин.
– Я сказал, управились за четыре минуты с небольшим, – ответил старлей. – А рассчитывали за пять осилить, – и повернулся ко мне: – Прости, Карузо, за упрёк. Это я на взводе, не остыв, нервы ещё не отпустило. Знаю, ты сделал всё, что можно было сделать. Лучше тебя никто бы нас не прикрыл.
– Это точно, – поддакнул ефрейтор Капустин. – Вон сколько этих архаровцев он положил! Выстрелов не слышно, а они падали, как игрушечные, и это было удивительно видеть. По крайней мере, для меня удивительно.
– Ладно, ребята, шагом марш! – улыбнувшись губами, скомандовал Лошкарин. – Дело сделано, теперь аллюр три креста.
Обратный пятнадцатикилометровый переход к месту высадки по уже знакомым горным тропам. Пришли. По рации же отправили условленное сообщение.
Спустя сорок минут прибыл тот же самый вертолёт. Один из пилотов сбросил верёвочную лестницу. Поднялись во чрево машины. Ещё через полчаса мы были в расположении нашей части.
– Хорошая штука – везение! – воскликнул Голованин уже по прибытии к своим. – Правду сказать, поначалу я думал, что мы поляжем у склада, не вернёмся, а как просто всё получилось.
– Просто только тем, кто умеет, – ответил Лошкарин. – А что было бы с неподготовленными людьми, окажись они там вместо нас?!
Эти видения прошлого, исключительно опасного, грозившего нашей шестёрке полным уничтожением, промелькнули передо мной за считаные мгновения. Удача тогда действительно сопутствовала нам, и операция по уничтожению склада прошла почти как по писаному. Если бы ещё не было ранения Флеганова и царапины на руке Лошкарина!
Взрыв склада с боеприпасами не прошёл бесследно. Активность противников правящего режима заметно снизилась на довольно длительное время. Того самого режима, который я ненавидел и за который воевал. Но и к противоположной, оппозиционной стороне симпатий у меня не было. И те и другие всегда оставались мне одинаково чужими.
О возможности нашего поражения и гибели при взятии «Академика Маслова» или в последующем отходе никто не произносил ни слова. Но, конечно же, она была, причём очень высокой. Как и во всяком рисковом предприятии, связанном с вооружённым противостоянием. Лично я опять рассчитывал на удачу и грамотные решительные действия каждого участника предстоявшей акции.
Глава шестая
Вниз по Енисею
Перед тем как отдать ключи хозяевам и покинуть квартиру, плотно позавтракали.
Ощущение сытости, тёплая одежда, наличие оружия, боевые навыки придавали твёрдую уверенность в своих возможностях, и мы чувствовали себя бессмертными неуязвимыми героями, способными на немалые подвиги. Я судил по себе и расположению духа моих товарищей, выдаваемому теми или иными репликами, выражением лица и всем поведением.
Выдвинулись на середину реки, ширина которой в черте города составляла приблизительно пятьсот метров, и взяли курс вниз по течению, на север. Прошли под одним мостом, соединявшим две части города, ещё под одним. Наконец городские кварталы остались позади и скрылись за береговым поворотом.
Впереди более тысячи километров, которые предстояло пройти, и только после этого должно было начаться самое главное и шухерное. И интересное, должно быть, если смотреть на складывающиеся обстоятельства как бы извне, с позиции стороннего наблюдателя, особенно если со стаканом чая или чашкой кофе в одной руке и с пышной выпечкой или куском торта – в другой.
Перед глазами нарисовались сменяющиеся картины нашего с Петром Вешиным побега с таёжного лесоповала. Как мы, два зэка, поливаемые дождём, пробирались заболоченной низменностью, по пояс, а где и по грудь в воде. И как тёмной беззвёздной ночью на утлой лодчонке переправлялись с левого берега Енисея на правый; ширина его в районе той нашей переправы была около пяти километров.
Подгребали вёслами ритмически, не спеша и бесшумно, поглядывали вперёд и назад и во все стороны и молчали, даже дыхание в какой-то степени сдерживали, словно из боязни, что нас кто-то услышит. Кажется, за всё время форсирования не было произнесено ни слова.
Вниз по течению нас снесло километров на восемь. На рассвете пристали к узкой галечной полосе, сразу за которой вздымался крутой обрыв. Пустили лодку по течению, оттолкнув её от берега, поднялись по расселине крутояра наверх, оглянулись на водную ширь, оставшуюся внизу и позади, посмотрели друг другу в глаза, подмигнули, улыбнулись горячечно и ступили под кроны первых деревьев.
Весь день шли почти безостановочно, маршевым темпом, по нескончаемой тайге на восток, в глухие безлюдные районы плато Путорана.
Представилось и то, как вечером на скорую руку готовили еду на костре, как ели, выпив перед тем разбавленного спирта, и как провалились в тяжёлый глубокий сон. А на следующий день снова почти что беспрерывный переход таёжными дебрями. Останавливались, только чтобы хлебнуть воды из ручья или дождевой лужи.
Точно такие же быстрые, на пределе сил, длительные передвижения во все последующие дни, вплоть до речки Нерямы, возле которой остановились на трое суток. Отчётливо, явственно увиделись золотые зёрна и самородки, добытые в её русле.
Позже, в Ольмаполе, деньги, вырученные от продажи драгметалла, позволили нам сделать первые шаги по легализации в обычном человеческом сообществе.
Семь лет уже пролетело после нашего бегства с зоны. Сколько событий произошло с той поры, и счастливых, и смертельно опасных, даже самых невероятных, едва ли не фантастических!
Всё миновало и растаяло в прошлом, как дымка в ночи. Осталось только самое главное, ради чего стоило жить и работать: жена, дети и связанные с ними радости и заботы. Всё прочее – человеческое сообщество, природа, мироздание в целом и его воображаемые создатели – лишь приложение к ним, моим дорогим, любимым.
Тем не менее я опять за тысячи километров от них, рядом с людьми, которые по зову долга – а Михаил от скуки и предрасположенности к авантюризму – тоже оставили свои семьи и обычные повседневные дела.
Да, наверняка нас ждут новые приключения, острые события, из которых надо выйти не только живыми, но и здоровыми, с достаточно высокой работоспособностью для последующей активной жизни, с возможностями максимально полно обеспечивать своих домочадцев материальными ценностями, прежде всего хлебом насущным.
Одно только предстоящее взятие на абордаж «Академика Маслова» чего стоит! Это ключевой момент. От того, как пойдёт на судне в течение коротких минут и секунд, зависит успешность всей операции в целом, которая в общей сложности должна занять несколько суток.
Варианты действий на «Маслове» всесторонне обсуждены, обговорены все вопросы взаимовыручки, но известно – гладко бывает только на бумаге. Как правило, какая-нибудь пертурбация да влезет. Важно только чётко, мгновенно отреагировать на неё и полностью снивелировать.
Дальше, по завершении эвакуации генерала с теплохода, опять множество неизвестных. Сценарии последующих шагов тоже вроде бы просчитаны, только, повторяю, сюрпризы иной раз такие вылезают, что и во сне не приснится.
Вот такой сумбур нет-нет да лез мне в голову, заставляя задуматься о многом.
Катер, на котором мы шли, относился к плавсредствам класса «река – море», и это словосочетание сразу многое объясняло.
Обсуждения выбора «ковчега» для передвижения по Енисею, основных характеристик, которыми он должен обладать, происходили ещё в Москве между Зуевым, Фроловым и Лошкариным. Мы с Михаилом только слушали эти разговоры, не встревая в них по причине малых знаний о предмете дискуссий. На основе всех «за» и «против» и было совершено приобретение у красноярских торговцев водным транспортом.
Предложений продажи было немало. Покупатели, перебрав несколько типов посудин, в конце концов остановились на этом «Шквале», наиболее отвечавшем выполнению поставленных задач.
Судно отличалось быстроходностью и небольшой осадкой, позволявшей идти и на мелководьях. Прочный металлический корпус. Четырнадцать метров длины. Ближе к носу – палубная надстройка, вмещавшая в себя рулевую рубку и каюту, разделённые переборкой с дверным проёмом; дверь была и в задней стенке каюты. Вся эта конструкция выглядела вполне гармонично с остальной надводной конфигурацией катера, создавая впечатление высокой надёжности.
В рубке – все приборы и механизмы управления судном. В каюте – столик, за которым свободно могли разместиться пять-шесть человек, четыре откидные койки у боковых стенок и столько же откидных сидений. Михаил, оказавшись внутри этого замкнутого помещения, прошёлся туда-сюда, огляделся, крутнулся, шмыгнул носом и окрестил его «кубриком». Это словечко сразу же вошло в обиход.
По левому борту под верхней палубой находился камбуз с газовой четырёхконфорочной плитой, холодильником, продуктовым и посудным шкафами. Рядом с ним, за тонкой перегородкой с раздвижной дверью – кладовая, где хранились основные съестные припасы. В кормовой части судна – душевая кабина, гальюн и машинное отделение.
«Шквал» стоил немалых денег. Покупку его оплатил Альберт Брониславович Темников, владелец банка «Трапезит», мой и Петра Вешина дружбан по совместному заключению в «Полярном медведе». Приятельство наше началось с того, что в своё время я защитил банкира от наезда блатных сидельцев, чем фактически спас ему жизнь.
На воле наши дружеские отношения продолжились и в значительной мере перешли в деловую сферу. Через меня и Петра состоялось знакомство финансиста с полковником Лошкариным.
Когда встал вопрос о покупке катера и других экспедиционных расходах, полковник обратился к Альберту Брониславовичу, и тот открыл ему безвозвратное кредитование по какой-то разовой придуманной статье.
Накануне поездки в Красноярск Фролов и Зуев прошли краткий курс вождения маломерных судов на внутренних водоёмах, совмещая теорию с пятичасовой практикой, организованной недалеко от Москвы. И изучили лоцию Енисея в объёме, достаточном для безопасного передвижения по этой реке.
Создавалось впечатление, что полковник Лошкарин предусмотрел буквально всё для успеха предстоявшей операции.
Серый холодный небосвод смыкался с плохо различимой вдали поверхностью реки. Тёмная, почти чёрная вода Енисея из-за густой полумглы и низкой плотной облачности казалась тяжёлой и совершенно непрозрачной.
Едва вышли за пригороды, небо ещё больше нахмурилось, пошёл сильный дождь, и видимость сократилась метров до двухсот пятидесяти.
Мы трое, остававшиеся без дела, нырнули в кубрик, довольно тёплый, отапливаемый обогревательным котлом на солярке в машинном отделении и соединённый с ним трубопроводной и радиаторной системой.
Во избежание столкновения со встречными суднами Зуев увёл катер с середины фарватера ближе к правому берегу. За час проходили около пятнадцати километров. Это в пределах обычной средней скорости передвижения грузового речного транспорта.
Посидев недолго в кубрике, я глянул на наручные часы и спустился в камбуз.
Обязанности судового кока были возложены на меня в первый же день приезда в Красноярск. Кому-то надо было заниматься приготовлением пищи, я предложил свои услуги, и полковник Лошкарин с признательностью утвердил меня в этой поварской должности. И он, и все остальные прекрасно знали, насколько она хлопотна и утомительна.
– На тебя я и рассчитывал, – сказал Лошкарин, тронув меня за плечо. – Лучше тебя никто не справится.
Камбуз небольшой, но удобный; главное, всё в нём было под руками. Над газовой плитой иллюминатор – герметически закрывавшееся круглое окно, создававшее иллюзию несколько большего пространства.
Осмотрелся, заглянул в холодильник и шкафчики, ещё раз мысленно оценил запасы провизии в них. Кое-что переложил с места на место в продовольственной кладовой – для первоочередного использования.
Закупка и доставка доброй половины продуктов питания на борт катера проводилась при моём непосредственном участии, в основном тех, которые не подлежали длительному хранению, с моими расчётами их объёма и ассортимента и прикидками, что и как буду варить и жарить.
Часа за два до полудня принялся готовить обед.
За работой периодически поглядывал в окно, отмечая изменения в характере погоды и береговых рельефов.
Без четверти час местного времени еда была готова. На первое – суп-харчо, на второе – отбивные свиные котлеты довольно внушительных размеров с гречневым гарниром и подливой, на третье – компот из сухофруктов и сдобные французские булочки. Плюс аккуратно нарезанные кусочки ржаного хлеба. Последним мы запаслись на двое суток; дальше в ход должны были пойти чёрные сухари.
Кроме всего прочего в моём распоряжении было несколько бутылок рыже-янтарного двадцатиградусного «Грахамса», одного из лучших португальских портвейнов, которые я купил на собственные средства. Зашёл в винный магазин, постоял, поглазел на батареи изящных стеклянных сосудов, наполненных спиртосодержащей «амброзией», и не устоял, поддался соблазну.
Перед трапезой я с разрешения командира выдал каждому по сто граммов этого, можно сказать, целебного, солнечного напитка – для поддержания настроения, а также нормального пищеварения и положительного воздействия на обмен веществ. И сам выпил столько же.
– В далёкие прошлые времена, – сказал я, разлив портвейн по стаканам, – употребление вина было заведено на всех боевых кораблях, а в настоящее – только на подводных лодках с их более вредными условиями. Мы же употребим в порядке исключения, – и добавил, как бы оправдывая свою инициативу: – В каком-то смысле мы тоже экипаж боевого корабля. Исходя из стоящей перед нами задачи.
Мне хотелось удивить своих товарищей, и уж я постарался, приложил всё умение, не упустив ни малейшей тонкости. Блюда получились исключительно вкусными, и все ели не просто с аппетитом, а даже с некоторой жадностью. И каждый просил добавки. Я предполагал, что так оно и будет, приготовил с немалой лихвой, и без промедления подавал дополнительные порции.
– А ты умеешь поварничать, – сказал полковник Лошкарин, управившись с едой. – На редкость. И первое, и второе – как в лучших ресторанах Лондона, м-да. Знал, что ты спец по поварской части, но чтобы настолько!
– Кухарское дело у меня в крови, Дмитрий Иваныч, наследственное, – сказал я, не без удовольствия выслушав похвалу, содержавшую элементы шутливости. – Мой отец был отменным поваром. И мать умела хорошо готовить. А как чай показался?
– И чай вкуснейший. Ты свои рецепты запиши и дай мне, авось пригодятся.
– Если бы каждый день так было за столом, нормалёк выходило бы, – тяжело отдуваясь, произнёс Михаил. – Чувствуешь себя как на отдыхе при круизном плавании.
– Так надолго не получится, – возразил я, – и ты, и все это прекрасно знают. Сегодня ещё, завтра, может быть, послезавтра, а там одному Богу известно, как пойдёт.
– Посмотрим, Карузо. Вот возьмём на абордаж «Академика Маслова», а дальше… Если выйдет по задуманному на контейнеровозе, останется только улизнуть от погони и затеряться среди добропорядочных граждан. Тогда мы закажем тебе праздничный пир с хорошей выпивкой. Чтобы по всем правилам отметить окончание операции. А я буду у тебя поварёнком. И по совместительству – дегустатором алкогольных напитков.
– Не будем предвосхищать события, – сказал полковник. – Чтобы не сглазить.
Фролов, раньше всех управившись с обедом, сменил за штурвалом Зуева, и тот, пройдя в кубрик, в свою очередь принялся за еду.
На реке ещё похолодало, а в кубрике и рулевой рубке было всё также тепло, сухо и даже комфортно.
Лошкарин с Болумеевым, за ними и Зуев легли на откидные койки подремать. Я же вернулся в камбуз и принялся за мытьё грязной посуды.
Закончив работу, вышел на площадку сзади палубной надстройки и огляделся.
Дождь к тому времени прекратился, и Фролов опять вёл катер серединой фарватера, подаваясь вправо лишь при появлении редких встречных судов.
Я всматривался в берега и невольно вновь и вновь сравнивал их с приречными местностями в нижнем течении Енисея, где мне в составе зэковской бригады доводилось работать на лесоповалах и на формировании огромных плотов, достигавших четырёхсотметровой длины.
Затем лес сплавлялся ближе к устью реки и океанскими судами отправлялся в Китай и другие страны с развитой экономикой. И даже самый тёмный зачуханный лагерник понимал, что Россия в данном случае выказывала себя сырьевым придатком ведущих держав, ещё не так давно тащившихся в хвосте нашей страны, но благодаря умному правлению в целом и грамотному ведению народного хозяйства в частности вырвавшихся вперёд.
