Россия-Русь в зеркале Снежной королевы бесплатное чтение
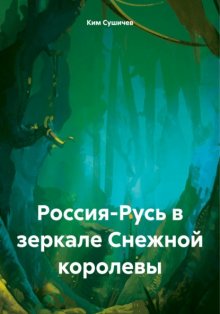
Введение
Эта книга (этот свиток) родилась из двух источников: моей любви к Родине – Руси/России и моей любви к «Холодному сердцу/Замороженной» и к сказкам Андерсена и Туве Янссон.
Какая связь меж этими разными вещами, спросите вы? Да никакой, отвечу я, никакой, кроме той, что родилась в моей голове в силу моего философского (любомудрского), синтетического (сборного) склада ума. Люблю сочетать казалось бы несочетаемое!
Конечно же, в самом «Холодном сердце/Замороженной», «Снежной королеве», «Деве льдов» и «Волшебной зиме» нет ничего о Руси/России. Я просто использую их как некое образное (метафорическое) зеркало (названье моего произведения, кстати, как раз и указывает на это), в коем может быть отражена Русь/Россия.
Дак вот, любил я, значит, себе и то и другое по отдельности, писал заметки, свитки о Руси/России, собирал и возвращал забытые и малознакомые большинству родные слова и образовывал новые родные, прививал людям любовь к родным словам и родному (вы уже заметили эту мою любовь к родным словам)) Привыкайте, эти самые родные слова, от которых многие носители великорусского языка давным-давно отвыкли, вам ещё не раз встретятся в этом свитке. Хватит преклонятся перд иностранными словами и принижать родные. Хватит уже отменять родные слова и подменять их иностранными) просвещал их насчёт всего этого, создавал любомудрие (философию) родного и смотрел заодно все части «Холодного сердца/Замороженной», по мере их выхода и показыванья.
Кстати, именно эти две любви: любовь к родному и любовь к сказкам, небыли (фантастике) помогли мне в своё время пережить потерю-смерть самых родных и близких людей. Происходящее с дейщиками «Холодного сердца» было созвучно в некоторых чертах с тем, что происходило со мной, некоторые переживания совпадали. Эти две любви послужили для меня теми жизненными опорами, что помогли мне справиться с горем и пустотой.
В общем, мой мозг, моё подсознание смогли связать-увязать воедино и то и другое, что проявилось сначала в написании ряда отдельных заметок, статей, записей в любомудрско-языковом (философско-лингвистическом) сообществе «Родноречие» (РР) в ВК (VK), а потом – в собирании всего этого в свиток (книгу).
Прибавкой к основным статьям-главам являются «Дополнения» – ссылки на обзоры и разборы «Холодного сердца/Замороженной», на радость поклонникам данного творения.
Глава 1. «Я всегда была другою, Вечно в поисках себя». А ведь это точно про нас, про нашу Русь!
Тут припомнились слова из песни «Где же ты?», кою пела Эльза в «Замороженной» («Холодном сердце»):
«Я всегда была другою,
Вечно в поисках себя».
А ведь это точно про Нас, про Русь, Мы всегда были иными и вечно в поисках Себя, своей Самости.
Помните строки Ф. И. Тютчева:
«Умом – Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать
– В Россию можно только верить».
1866 г.
Но, что значит, другою/другими? Другою/другими по отношенью к кому? Каким именно и чьим именно умом Русь не понять? Каким таким общим аршином не измерить? Что это за общий аршин такой?
Мы другие по отношенью к Западу, мы не такие как они, мы отличаемся, «у нас особенная стать». Мы самобытны, неповторимы, также, как и все народы и уклады на Земле. Западным умом нас не понять, потому что у нас, как и у всех народов, есть свой самобытный ум. У Запада – свой, у нас – свой. Поэтому Запад не может нас понять. Мы мыслим по-разному. Общей для всех мерки (аршина) не существует. У каждого народа она своя. У Запада – своя, у нас – своя. Они же пытаются нас мерить своей меркой, поэтому и не могут вымерить. К тому же, они пытаются выдать свою мерку за общую для всего человечества, подменить ей мерки иных народов.
Но вернёмся к Эльзе. Помните, чему её учили родители?
Чтобы она не открывала, хранила тайну, закрыла все чувства на замок, молчала, терпела, не дала узнать и была бы хорошей девочкой для всех.
Её учили бояться, стыдиться своего Дара, своей Силы, своей Самости, ненавидеть, подавлять, скрывать, таить, прятать её от мiра, не показывать никому, не проявлять, не познавать, не развивать, не применять. Точно также и нас на протяжении тысячи лет приучали отрицать свою укладную народную самость, самобытность, свою русскость, свою славянскость, прятать, скрывать, таить, подавлять, стыдиться, бояться, презирать, ненавидеть, очернять, предавать её, сдавать, продавать, отказываться от неё, уничтожать и подменять инородными укладами. Русь учили «быть хорошей девочкой для всех».
Нас точно также учили не открывать, хоронить в себе Тайну нашей Русской, славянской Души-Сущности. Учили быть хорошими для всех, прежде всего, для Запада, угождать всем, быть не собой, а такими, какими нас хотят видеть иные. И стиснув зубы и переступая через себя, мы «молчали и терпели», «закрывали на замок» свои отчинные (патриотические) чувства, но это не могло продолжаться вечно, рано или поздно наша скрываемая и подавляемая Родная сущность должна была вырваться на волю, также, как это произошло с Эльзой.
Помните её знаменитую песню освобождения «Отпусти и забудь»?
И те строчки, где она пела о том, что у неё на сердце буря, кою она пыталась сдержать, но не смогла.
Вот так и мы, как бы не пытались сдерживать и подавлять в себе бурю своих отчинных (патриотических) чувств, нам это не удалось, буря вырвалась наружу.
Заметьте, как меняется постепенно настроение Эльзы, по мере её освобождения от внутренних оков, сдерживающих её силу.
Сначала она просто бежит-убегает от своих трудностей и страхов дней минувших.
Потом она отпускает и забывает то, что её подавляло и пугало. Появляется новая надежда, она из состояния бессилия и переходит в состояние силы и начинает становиться собой, признавая свою морозную сущность, признавая, что холод всегда был ей по душе!
Вот так и мы должны отпустить все те предательские, отрицальные (негативистские), противородные, безроднические «грёзы» – установки и вымыслы, подавляющие нашу Родную сущность, отпустить и забыть. Новый день укажет нам путь. Пусть Запад бушует и наши западники-предатели, вместе с ним. То, от чего они нас пытались отворотить и отучить, всегда было нам по душе, потому что это наше. Мы бежим всё выше, к вершинам духа, а они пускай остаются внизу и всё больше расчеловечиваются-оскотиниваются.
Дальше Эльза проявляет и познаёт свою подавляемую силу и сущность. Она понимает, что настала пора узнать, что она может, на что способна и призывает на службу метель.
Вот так и мы должны познавать самих себя, свою подавляемую русскость, славянскость, а все другие народы. Познать, проявить и навсегда обрести свободу от западного рабства, от безроднического и противороднического западничества.
Проявив и познав свою силу, видя как искрятся воздух и земля от её чар и понимая, что ей подвластны мороз и лёд, Эльза понимает, как же, на самом деле, прекрасен её дивный дар и что же ей дальше нужно делать, она понимает, где находится её настоящий дом, её настоящее убежище-пристанище, в котором она, наконец, может ничего не бояться и где может обрести свободу.
Вот так и мы, познавая себя, понимаем всю ценность и красоту Родного, понимаем, что нам нужно делать и где находится наш настоящий Дом-Родина.
А помните, с чего вообще начиналась-то «Замороженная» («Холодное сердце»)? Ведь начально-то у Эльзы никаких трудностей с её даром, с её силой не было, она легко и естественно с ними управлялась, трудности появились у неё только после того несчастного случая с Анной, когда Эльза нечаянно попала в неё своим ледяным зарядом и то, не сами по себе, а потому что родители внушили ей, что её дар – это зло, это не дар, а проклятье и приучили её с ним бороться, подавлять его. Вожак-то каменных троллей говорил о том, что Эльза должна научиться управлять своим даром. Управлять, а не подавлять. Но дело в том, что она и так всегда умела им управлять, а её взяли и отучили это делать, в итоге чего её дар стал неуправляемым. Начально она была душевно здоровой девочкой, живущей в ладу с собой и с мiром, а потом её перевернули в самоборку (невротичку).
Вот так же когда-то наши предательские верхи сделали и с нами. Мы были самими собой, были в ладу с собой и с мiром, а они нам внушили, что наша родная славянская, русская сущность, наша укладная, народная самобытность, самость, наши отличия, особенности – это зло, проклятие , коего нужно стыдиться и с коим нужно бороться. Нас перевернули в самоборцев (невротиков) – постоянно борющихся с самими собой, со своей русскостью, славянскостью.
В конце концов Эльза снова смогла принять свою силу только тогда, когда поняла, что ключом к этому является её любовь к сестре и сестры к ней. Для нас же, таким ключом является любовь к Родному, к Родине. Именно она позволит нам снова стать самими собой и обрести утерянную родную силу.
Помните, каким был путь Эльзы к освобожденью, к оволенью, к выздоровленью, к самопринятию, к налаживанью отношений с собой и с остальным мiром, путь Домой, путь к Себе?
Сначала она действовала так, как её приучили, пыталась спрятаться, скрыться-закрыться, убежать от людей и от себя, но это ей не помогло, потому что нельзя убежать от себя, от своей сущности.
Он поёт, что стояла, словно крепость, храня тайну много лет.
Первым шагом к выздоровленью было освобождение-высвобождение, понимание и принятие ею своей силы на Северной горе.
Вторым – когда любовь к сестре вытеснила из её души все отрицальные чувства и беспокойство сменилось покоем.
Третьим – когда она вернулась на Родину матери, на Родину предков, в Зачарованный лес, наладила отношенья с духами-хранителями Леса, узнала правду о прошлом, восстановила справедливость, поняла, кто она такая и приняла себя окончательно.
Эльза всегда чувствовала, что она иная, не такая, как все, что она не от мiра сего, что она не в том месте, где должна быть и душа влекла её вновь за окоём (за горизонт). Каждый день давался ей с трудом, потому что сила чар её постоянно росла. Вот так и мы всегда чувствовали, что мы иные, нежели Запад, что мы не такие, как они, что мы не от мiра Западного, что в нашем западническом обществе что-то нет, что-то не то, что мы не там, где должны быть и наша душа вновь и вновь влекла нас за окоём – за пределы, навязанного нам западного мiра. И каждый день в западной шкуре даётся нам с трудом, потому что сила Родного в нас растёт, западнические границы не в силах её удержать, она сметает их и выплёскивается за них.
Эльза и во снах и наяву слышала некий голос, зовущий её куда-то в неведомые дали. Сначала она пыталась не оборачивать на этот зов внимания, старалась не замечать его, отметать, не слушать его. Но зов был слишком силён и заглушить его ей не удалось. Она стала вслушиваться в него, пошла за ним и в конце концов узнала, что это был голос её матери Идуны. Вот так и мы слышим Зов Рода, Зов предков, он властно/волостно звучит в нашей душе и заглушить его неможно, хотя мы изо всех сил пытаемся это сделать. Но те, кто отвечает на этот Зов Родного и идёт за ним, в конце концов, приходят к самим себе, к своей родной Сущности, приходят Домой, ворачиваются на Родину, к родным словам, родному языку, укладу, духу и понимают, что это Мать Сыра Земля зовёт их, Родина-Мать зовёт своих детей.
Её душа искала свой Дом и нашла его.
Мать Эльзы Идуна поёт, что душа дочери ищет дом, а Эльза отвечает, что уже нашла его, что она вернулась и наконец-то пришла домой.
Вот так и наши души ищут свой Дом и находят его в Родном.
Там же, в Родном, мы находим и те ответы, что мы искали и силу, чтобы жить и менять свою жизнь в лучшую сторону.
Но, чтобы вернуться Домой, найти ответы и открыть в себе Силу, нужно вернуться на Родину предков – в Зачарованный лес, к своему народу (нортулдрам), к родным Корням, к Предкам и к родным Богам (Духам-хранителям), коих мы предали и кои прокляли наш народ, нашу сторону, наложили на нас Проклятье предательства и несчастья, выкупить вину перед Ними, выправить грех, восстановить справедливость.
Узнать же Правду, можно только погрузившись в воды или спустившись в ледники реки времени, реки памяти Ахтохаллэн.
Идуна, мать девочек, пела им когда-то, что в краю суровом, в море льда , есть помнящая всё река и что в той реке можно найти нужный ответ, стоит лишь нырнуть и воды реки всё расскажут и укажут путь.
Для нас же такой чудесной рекой памяти является язык, наш родной язык. Помните, снеговик Олаф говорил о том, что у воды есть память? И именно знание об этом свойстве воды позволило Эльзе и остальным узнать всю правду о прошлом, всю правду о себе. И это же знание позволило Эльзе потом оживить Олафа.
У общества тоже есть память и этой памятью является язык – связующее звено меж поколениями, меж отдельными людьми и обществами. Только бологодаря языку можно познание мiра, накопление, сохранение и передача знаний и умений, обучение, воспитание. Без языка не было бы ни общества, ни народа, ни государства, ни уклада (культуры), каждому новому человеку и поколению пришлось начинать всё сначала, не было бы ни преемственности, ни развития, не было бы Человека Разумного.
И именно родной язык позволит нам узнать правду о прошлом, правду о себе. И именно родной язык позволит нам восстановить наш родной словенский/славянский уклад. Его нет, но в нашем языке схоронилась память о нём. Стоит лишь нырнуть-начать постигать родной язык и его воды-слова и выраженья всё расскажут и укажут путь.
Но не каждому дано услышать пенье волшебной реки, потому что она поёт только для тех, чья душа открыта, кто слышит Зов предков и что лишь тем, кто выше своих страхов дано узнать, что хранит река.
Вот так и наш язык, наши слова, наши песни, сказки, сказы, былички, пословицы и поговорки, «поют только для тех, кто слышит», для тех, кто ещё не полностью обезкорнился, обезроднился, для людей с сохранным родным самосознанием, для тех, кто не боится защищать Родное. Только им дано узнать, что хоронит наш язык-река и какое волшебство таит в себе его песнь.
Но тут некоторых отчинников (патриотов) подстерегает опасность, стоит сделать только один лишний-ненужный-неверный шаг и ты утонешь.
Опасность попасться в ловушку лжерусских, лжеславян, лжеродноверов/лжеязычников, лжеправославных, лжеотчинников (псевдопатриотов), инородоненавистников (шовинистов, ксенофобов, нацистов), лжеязыковедов, лжебылеведов (лжесториков) и прочих обманщиков и заблуждающихся, кои примысливают всякие бредни про Русь, словен и словенское родноверие. Родной язык «всё расскажет и укажет путь, так доверься его глубине, но лишний шаг (шаг в сторону лжеотчинства (лжепатриотизма), лжеязыковеденья и лингвофричества (языкочудничества) – и ты на дне (на языковом, укладном и духовном дне)».
Идуна поёт, что суровом краю, в море льда есть мама, коя всё помнит (для нас это наша Родина-Мать, Русь) и что, в час, когда домой придёшь, утратив всё, ты всё найдёшь.
Те же, кто с честью пройдут все испытанья, нырнув в родной язык, доверившись его глубине и не сделав лишнего шага, «в час когда домой придут, утратив всё, всё обретут». Утеряв неродное, подменное, ложное, они найдут своё, родное, настоящее. Найдут себя. Они найдут своих Предков-Родителей, Богов, свою Родину-Отчину, свой народ и поймут, что самое головное на свете – это Дом, родина, семья, род, община, народ, Родное и что дороже всего – любимых видеть, быть семьёй, что, когда мы вместе, нет добрее вести, поймут, что дороже всего быть семьёй, быть вместе с родными и близкими, поймут, что когда мы вместе, все наши мечты уже с нами, поймут, что родные и родное – это всё, что им нужно, что больше им ничего и не нужно, больше нечего им желать, не о чем мечтать, у них и так всё есть, всё – это родные и родное. Всё остальное – лишнее, без него можно и обойтись.
Обретя Родное, они обретут и родную мудрость и силу. Когда ты не оторван от родного, у тебя на душе всегда светло, тогда твой дух летает, тогда у тебя праздник каждый день, тогда тебе и зимой тепло.
Но как быть тем отчинникам, тем защитникам родного, коим приходится биться в одиночку, у коих нет ни родственной, ни дружеской поддержки, кругом коих одни только вороги и безразличники, инородцы или соотечественники, оторванные от родных корней и сами уничтожающие свой народ? Как быть, когда твой народ, твой уклад, твой язык гибнет и нет надёжи на его спасенье? Как быть, что делать в таком случае?
А делать нужно то, о чём поёт и что делает Анна, когда гибнет Эльза – её сестра, её единственный родной человек на свете, её головная опора и веха в жизни – нужно делать, что должна!
Оставшись одна, без сестры, за коей она всегда шла, шла до конца, Анна не знает, что делать, как дальше жить, она в безмерном отчаянии, сердце её пусто, рвётся нить, связывающая её с жизнью, свет жизни остался в прошлом, настала ночь и глядя в бездну, она готова уступить смерти.
Но она слышит голос в глубине души, который говорит, что хватит слёз, что всё пройдёт, что пусть судьба её ведёт и чтобы она делала то, что должна.
Мы, отчинники, тоже слышим этот голос, это голос наших Предков и наших Богов, это Зов Родного. Он говорит нам: «делайте то, что должны!».
Анна не находит дороги во тьме ночной, идёт наугад, не зная сможет ли заря развеять мрак, ведь она потеряла свою звезду – Эльзу.
Мы тоже, во многом, идём наугад, наощупь, в темноте, в незнании, многие бредут, потеряв свою звезду.
Анна не знает, сможет ли она подняться вновь и сделать, что должна, тогда, когда у неё уже не осталось ни сил, ни слов.
Когда нет сил и слов, как мы сможем подняться вновь и сделать, что должны?
Анна делает первый шаг, второй и вспоминает, что Эльза всё равно с ней.
Вот так и мы будем подниматься, потихоньку, шаг за шагом, первый шаг, второй, третий, всё равно наши Предки-Родители и Боги и наша Родина (наш народ, уклад, язык, память, наследие и будущее) с нами.
Так в путь и будем делать, что должны. И духом не падать, не унывать. И рук не опускать. Мы пройдём через Ночь, через Зиму, будем делать, что Должны.
Анна поёт, что когда придёт восход, этот мiр навеки станет для неё совсем другим, но она вернётся к себе, сквозь тень и грусть, и начнёт делать, что должна.
Мы тоже переправимся через Море беспамятства, Море лжи, вспомним всё, вспомним Себя, сквозь тень и грусть вернёмся к Себе.
И не имеет значения, что нас ждёт, главное – это делать, что Должны, и всё.
Что бы не было, вопреки всему, что бы не ждало нас в будущем, победим мы или проиграем, уничтожат нас или нет, каждый отчинник (патриот), даже если он останется последним представителем нашего народа, до последнего своего вздоха должен делать, что Должно, т. е. спасать Родное. Таков Долг каждого отчинника/роднолюба (патриота).
Глава 2. Мы – иные, Мы не от мiра сего или О ледяных образах «Холодного сердца» и Ледяном государстве из русского народного заговора
Продолжаем разбирать вопрос инаковости-неотмирасегошности владычицы/володычицы Эльзы и нашей Руси, нас всех.
«Образ Эльзы можно толковать как образ любой инаковости» (Почему «Холодное сердце» – самый революционный мультфильм Disney // Кинопоиск).
Вся эта ледяная-снеговая-морозная-северная ознаковка (символика) в «Замёрзшей/Замороженной/Холодном сердце» (лёд, снег, метель, зима, Северная гора, сотворённые-оживлённые снеговики, замёрзшая волшебная река памяти, вода, память воды, морозное волшебство) – это ознаковка иности-иновости-инакости-инаковости-сторонности-потусторонности-неотмирасегошности-иномирности. Она указывает на то, что Эльза не от мiра сего, а от мiра иного. Поэтому она не вписывается в этот мiр, поэтому не находит себе в нём места, не находит саму себя, поэтому ей в нём не по себе, поэтому её влечёт за окоём (горизонт), поэтому она туда отправляется. Потому что там её Дом, там её Родина.
Вот также и с Русью, так и с нами со всеми. Мы – люди иного мiра, мы – иномирцы, не вписывающиеся в этот мiр. Наш Дом – не в этом, а в ином мiре.
Эльза способна порождать ледяную жизнь – снежных существ, некое иномирное-потустороннее подобие жизни земной (Кстати говоря, этот дар творенья ледяной-иномирной жизни делает Эльзу не просто каким-то заурядным жителем иного мiра, а чуть ли не настоящей Богиней-Матерью. Так что образ Эльзы не так прост, как может кому-то показаться).
В одном забытом русском народном любовном заговоре схоронился занятный образ Иного мiра – образ Ледяного государства.
«Стоитъ въ подсѣверной сторонѣ ледяной островъ; на ледяномъ островѣ ледяная камора; въ ледяной каморѣ ледяныя стѣны, ледяной полъ, ледяной потолокъ, ледяныя двери, ледяныя окна, ледяныя стекла, ледяная печка, ледяной столъ, ледяная лавка, ледяное ложе, ледяная постеля, и самъ сидитъ володыка ледяной». №32. [Заговоръ на остуду. – 1907 г.]. ФЭБ: Заговор на остуду. – 1907 (текст).
Глава 3. Мороз, Снегурочка
Мороз, Морозко,
дейщик славянского сказочного и обрядового уклада; почитанье Мороза косвенно отражёно во всех славянских обычаях (головным образом в пословицах и поговорках). У восточных славян представлен сказочный образ Мороза – удальца, кузнеца, который сковывает воду «железными» морозами (калинниками, по ложному толкованию связанными с «калить»); сходные представления отражены в чешских и сербо-хорватских выраженческих оборотах и обычаях, связанных с кузнецами. Возможно, что сказочный образ Мороза (Трескуна, Студенца), в русской сказке идущего с Солнцем и Ветром и угрожающего заморозить встретившегося им мужика, может быть сопоставлен с образом Мороза, живущего в ледяной избушке и одаривающего (задача сказочного помощника) пришедшего к нему. Обрядовые представления, лежащие в основе этих образов, сохранялись у восточных славян в обряде кормления Мороза перед Рождеством и в Велик день. В каждой семье старший должен был выйти на порог или высунуться в волоковое окно с печи и предложить Морозу ложку киселя или кутьи со словами: «Мороз, Мороз! приходи кисель есть; Мороз, Мороз! не бей наш овёс!»; затем следовало перечисление растений и злаков, которые Мороз не должен был побить (ср. обычай кормления дедов-покойников и сочетание Дед-Мороз).
Русские народные поверья о Морозе получили поэтическую обработку у Н. А. Некрасова. Дальнейшее преобразование обрядов, связанных с Морозом, в городской среде вызвана влиянием западноевропейских рождественских обычаев: Дед-Мороз – рождественский дед; ср. Санта-Клаус, Пэр-Ноэль и т. п. В. Н. Топоров, В. В. Иванов. Мороз // Мифы народов мира: Энцикл. в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. – 2-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1988. – Т. 2 : К—Я. – С. 176.
МОРОЗ —
дейщик сказочного уклада и некоторых календарных (месячниковых) обрядов; олицетворение пиродной силы.
Сказочный Морозко одаривает невинно гонимую падчерицу богатством за её «правильные» ответы на вопрос, тепло ли ей или холодно; он же губит дочерей злой мачехи, которые проклинают лютый холод (Аф.НРС 1:113 – 117).
В других сказочных повествованиях мужик, у которого М. побил всходы гречихи, пошёл в лес искать виновника, чтобы «взыскать с него убытки»; найдя в глуши ледяную избушку, снегом укрытую, сосульками обвешанную, он увидел Мороза – «старика в белом»; вознаграждая потери селянина, М. одаривает его скатертью-самобранкой (Аф.ПВ 1:318).
Олицетворение М. как природной силы отмечается в в.-слав, обряде приглашения «мороза» на праздничную еденье (на кутью, кисель, блины), включенном в святочный или пасхальный наборы. Считалось необходимым накормить М. обрядовой пищей, чтобы он не морозил посевы злаков и огородные возделки (см. Приглашение ритуальное). Восприятие М. как людовидного сказальческого существа проявляется и в словесных уравнениях, и в некоторых игровых (шуточных) действиях участников этого обряда. К М. обращаются ласково или почтительно: «Морозе-морозе», «Морозе-морозенько»; именуют его по отчеству: «Мороз Васильевич»; называют «дедом» или «паном»: «дед мороз», «пане морозе» и т. п.
Его просят «на вечерю прийти», «кутью съесть», «летом не ходить», «цветов не сбивать», «всходов не губить», «телят не морозить» и т. п. Например, на Псковщине в перед Крещением приглашали М. на блины: «Дед Мороз, дед Мороз! Приходи блины есть и кутью! А летом не ходи, огурцы ÍKJ съедай, росу не убивай и ребятишек не гоняй!» (РП:254). В Минской губ. во время крещенского ужина старший из членов семьи бросал в угол дома ложку кутьи «для зюзи» (зюзя -* «детское» слово в некоторых бел,' и з.-рус. говорах, обозначающее мороз).
В похожих полесских выражениях мороза приглашали вместе с его «семьёй»: «Мороз-мороз, иди кутти исти з детками и з жоною, з маткою и з сестрою, з сватом и з братом!» (ПА, киев., Копачи). В отдельных видах этого же обычая в образе М. выступало настоящее лицо: когда домовик рвал М., кто-либо из домочадцев (или соседей) отзывался за окном: «Ось я йду!» или «Я вужэ прышоу!» (ПА, бреет., Житомир.).
По свидетельствам из Смоленской обл., каждый из сидящих за рождественским ужином приглашал М. на кутью: «Мороз, мороз, ходи куттю есть!»; на что М. отвечал: «Спасибо, я наелся. Сел на коня и полетел через поля, и леса, и долы, и высокие горы!». От лица Мороза говорил, повернувшись к образам, володелец дома (Паш.К.ЦВС:185).
Определённая степень олицетворения М. отмечена также в з.-слав. выражениях и верованиях. У словаков известны устойчивые выражения dedo Mráz buži po tele [дед Мороз пробегает по телу]. Олицетворением М. у поляков Поморья выступает Pan Мгоzewski или Mrôzk, которого представляли в виде косматого, усатого старика, покрытого инеем (Sychla SGK 3:128-130). В Келецком воев. в сильные морозы люди кипятили воду в горшке и выливали её в доме за печью, стремясь «ошпарить мороз», чтобы он ослабел (SSSL 1/1:183).
Образ М. как высокого (или очень маленького ростом) старика с длинной белой бородой, приходящего с северной стороны, который бегает по полям и стуком своей палки вызывает трескучие морозы (упомянутый начально в трудах А. Н. Афанасьева, а затем и в других исследованиях по слав. сказальщине), не подтверждается позднейшими народоописными и народчинными свидетельствами.
Дальнейшее преобразование образа «деда Мороза», связанного со святочной обрядностью, сложилось преимущественно в городском укладе: это произошло, с одной стороны, при содействии вестимых укладно-строчных произведений Н. А. Некрасова, А. Н. Островского и др. творцов, а с другой – под влиянием западноевропейской сказальщины, связанной с месяцесловными дейщиками зимнего круга (св. Николай, Санта-Клаус), которые осмыслялись как доброжелательные сказальческие существа, одаривающие в день св. Николая, на Рождество или в Новый год детей подарками.
Лит.: Мадлевска я Е. Л. Образ Деда Мороза и современные представления о нём // ЖС 2000/4:37-39; МНМ 2:176; МСІ376; АФ. ПВ1: 109, 312-313, 318-319; 2:52; 3:32, 81, 681; РДС: 388-389; Паш. КЦВС: 185-186; МФФ: 186-193; СБЯ 1993: 62-74; Усп. ФР: 116, 130-131, 141; РП: 254-259; Гнат. НУМ: 154-155.
Л. Н. Виноградова.
Сказки Морозко
Сказка была записана в двух видах:
Морозко
(Записано в Никольском уезде Новгородской губ.)
Жили-были старик да старуха. У старика со старухою было три дочери. Старшую дочь старуха не любила (она была ей падчерица), почасту её журила, рано будила и всю работу на неё свалила. Девушка скотину поила-кормила, дрова и водицу в избу носила, печку топила, обряды [Уборы, женские платья] творила, избу мела и всё убирала ещё до́ свету; но старуха и тут была недовольна и на Марфушу ворчала:
– Экая ленивица, экая неряха! И голик-то не у места, и не так-то стоит, и сорно-то в избе.
Девушка молчала и плакала; она всячески старалась мачехе уноровить [Приноровиться, прийтись по нраву] и дочерям её услужить; но сёстры, глядя на мать, Марфушу во всём обижали, с нею вздорили [Ссорились] и плакать заставляли: то им и любо было! Сами они поздно вставали, приготовленной водицей умывались, чистым полотенцем утирались и за работу садились, когда пообедают. Вот наши девицы росли да росли, стали большими и сделались невестами. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Старику жалко было старшей дочери; он любил её за то, что была послушляная [Послушная] да работящая, никогда не упрямилась, что заставят, то и делала, и ни в чём слова не перекорила [Не поперечила]; да не знал старик, чем пособить горю. Сам был хил, старуха ворчунья, а дочки её ленивицы и упрямицы.
Вот наши старики стали думу думать: старик – как бы дочерей пристроить, а старуха – как бы старшую с рук сбыть. Однажды старуха и говорит старику:
– Ну, старик, отдадим Марфушу замуж.
