Добрачные сексуальные практики в русской традиционной культуре бесплатное чтение
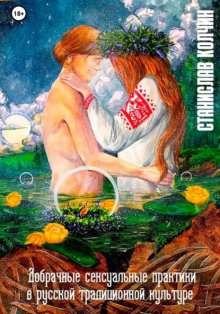
Введение
Тема сексуальности в русской традиционной культуре до сих пор не имеет однозначного и всеобъемлющего освещения в этнографической литературе.
Не вызывает сомнения, что учёные прошлого были во многом ограничены цензурой и рамками православной морали своего времени, в то время как авторы конца XX века – начала XXI века, напротив, иногда явно перегибают палку в своём стремлении показать традиционную культуру максимально развратной и извращённой, выдавая исключительные случаи за правило. Создаётся парадоксальная ситуация, когда часть современных этнографов начинает отрицать научную ценность работ по этнографии авторов XIX века и описывает быт наших предков совсем не так, как описывали этнографы XIX – начала XX вв. С 90-х годов XX века, после отмены цензуры и контроля со стороны государства, модной стала и сексуальная тема. Нередко можно видеть такую картину, когда в произведениях современных специалистов по этнографии славяне предстают в очень неприглядном свете.
Создаётся ощущение, что подобные авторы целенаправленно собирали в свои произведения много грязи и пошлости, чтобы вызвать у читателя отнюдь не любовь к народной традиции, а скорее отвращение к ней, видна и радость по поводу того, что русская народная культура уже почти полностью ушла в прошлое. При этом такие «прогрессивные» современные этнографы сетуют, что читатель массово изучает не их «опусы», а труды «фантазёров», к которым относят И.П. Сахарова, А.Н. Афанасьева, М.М. Забылина, а также Б.А. Рыбакова. А таких этнографов, как И. М. Снегирёв и А. В. Терещенко, считают неинформативными.
При этом, когда данные авторы связывают любовь читателя к этнографии XIX века с лёгкостью и художественностью изложения, и понимания текста, то они несколько лицемерят.
Тут дело даже не в художественной ценности текста, а в отношении автора к теме написания. В книгах И.П. Сахарова, А.Н. Афанасьева, И.М. Снегирёва, А.А. Коринфского, А.В. Терещенко, М.М. Забылина, А.А. Потебни, Д.К. Зеленина, В.Я. Проппа, а также часто критикуемого сейчас археолога и исследователя славянской культуры и истории Древней Руси Б.А. Рыбакова даже самый неискушённый читатель чувствует любовь к русскому народу, его традициям и культуре. Чего он далеко не всегда ощущает в работах некоторых современных любителей показать самые неприглядные стороны народного быта.
В итоге это приводит к тому, что часть традиционалистов, изучая одни работы по этнографии, считают своих предков целомудренными и высокоморальными, а другая часть, изучая другие труды по этнографии, – развратными и склонными к групповым оргиям. При этом никакой золотой середины между этими крайними позициями не наблюдается. Тема того, как строились отношения между парнями и девушками до свадьбы, остаётся тайной для широких масс, и эта загадка побудила меня поискать ответы в самой этнографической литературе.
«Русский фольклор, как и фольклор других народов, невозможно представить без пласта текстов эротического и обеденного (непристойного) содержания. О важности этой сферы народного творчества свидетельствуют многочисленные издания эротического фольклора и посвящённые ему научные исследования в странах Европы и в США. К сожалению, в России ситуация обстояла менее благополучным образом. Жёсткие запреты на публикацию многих произведений народного творчества накладывались в XIX веке церковной цензурой, а в XX веке – цензурой коммунистической. Целые пласты фольклора, да и народной жизни в целом, оказались как бы вычеркнутыми из действительности, как были вычеркнуты и духовные стихи, заговоры, проблема народной религиозности и многое другое».1
Современный российский фольклорист, литературовед и этнограф Андрей Львович Топорков, в частности, утверждает, что «невозможность публикации фольклорной эротики объяснялась прежде всего цензурными запретами. Однако помимо внешней цензуры существовала и цензура внутренняя». Как отмечал известный собиратель фольклора П. В. Шейн, «кроме правительственной цензуры, достаточно строгой, в среде русского общества… Существовала ещё более строгая, более щепетильная цензура нравов и поступков со стороны влиятельнейших его представителей и законодателей. Этой цензуре все безусловно и безапелляционно покорялись». «Нежелание деревенских исполнителей раскрывать перед заезжим горожанином потайные пласты фольклора помножалось на нежелание самих фольклористов фиксировать всякую «похабщину», теряя время, которое можно было использовать на запись серьёзных произведений, таких как былины, сказки, необрядовые песни. А практически полная невозможность публикации этих материалов и вовсе обессмысливала их собирание».2
Примерно такое же мнение высказывает и советский и российский фольклорист-славист, этнолингвист, доктор филологических наук Татьяна Алексеевна Агапкина:
«Человек, мало-мальски знакомый с современными работами по восточнославянской мифологии и фольклору, да и просто любитель «русской старины», прочитавший известные книги И. М. Снегирёва и А. В. Терещенко и тем более трёхтомник А. Н. Афанасьева, почти наверняка имеет ясное представление о купальских игрищах, масленичном разгуле и разнузданных обрядах, посвящённых Яриле. Вместе с тем исследователь – этнограф, фольклорист или мифолог, однажды столкнувшийся с этой проблемой, чувствует себя не столь сведущим, ибо свидетельства об эротике в весенне-летней обрядности и фольклоре на самом деле весьма немногочисленны и не всегда достоверны». 3
«Сведения, заимствованные нами из источников XIX – начала XX в., практически всегда не столь информативны, как хотелось бы. По тем или иным причинам собиратели и публикаторы обычно воздерживались от изложения наиболее «пикантных» подробностей того или иного обряда; избегали они и обнародования откровенно «порнографических» (по выражению С. Венгрженовского) фольклорных текстов». 4
Своеобразную критику написания работ в соответствии с нормами сексуального поведения в русской культуре прошлого высказывает Н. Л. Пушкарёва:
«Видение сексуальности сквозь призму задач регуляции репродуктивного поведения, устойчивый гетеронормативизм и отрицание нормальности гомосексуальных отношений, жёстко негативное отношение к расширению возрастных рамок сексуальной активности, особенно к ранним сексуальным дебютам, мастурбации – всё это отвечало общему уровню развития не только российской, но и западноевропейской медицинской и научно-гуманитарной мысли того времени.
Если кто-либо из общественных деятелей или ученых того времени и мог выступать с позиций феминизма в вопросе о допущении женщин к высшему образованию или профессиональной деятельности, то в вопросах, связанных с сексуальной сферой, те же сторонники женской эмансипации подчас проявляли себя как сторонники традиционного распределения гендерных ролей и во вполне традиционалистском, патриархатом духе рассуждали о «греховности» или «нравственности» тех или иных проявлений сексуального поведения. Это детерминировало и место истории сексуальности в кругу исследовательских проблем, – как правило, даже изучение добрачной и внебрачной сексуальной активности строилось вокруг тем, связанных с анализом изменений в брачно-семейных отношениях и увязывалось с вопросами популяции/депопуляции».5
Видимо, ввиду своих личных взглядов, Н. Л. Пушкарёва сожалеет об отрицании нормальности гомосексуальных отношений и невозможности выступать с позиций феминизма в сфере сексуальных отношений во времена развитого патриархата традиционной культуры, когда создавались основные труды по этнографии.
У традиционалистов подобных сожалений нет, но для нас вполне очевидно, что нормы, которые приняты в сексуальной жизни, во многом зависят от общего культурного уровня общества, моральных ценностей, взгляда на рамки допустимого в интимной жизни, поэтому в современную эпоху постмодернизма особенно актуальной становится проблема сексуального воспитания будущих поколений.
На данный момент даже само понятие сексуального воспитания нередко подменяется и искажается, а вместо воспитания идёт сексуальное развращение, прививание пороков и сексуальных отклонений. Времена изменились, и мы не можем вернуться к обрядам и традициям патриархального общества, но мы можем проанализировать, как действовала система сексуального воспитания в русском традиционном обществе.
Для начала следует определить, какие именно обряды, традиции и практики мы будем исследовать, и что именно мы имеем в виду под русской традиционной культурой. В исторических исследованиях XIX века под русским народом подразумевали великорусов, малорусов и белорусов. В данной работе я, исходя из терминологии XIX века, отношу к русской культуре не только материалы, которые касаются великорусского этноса, но и этнографический материал по обрядам и добрачным сексуальным практикам малорусского (украинского) и белорусского этносов. Таким образом, русский народ принимается расширенно как общее название великорусского (русского), малорусского (украинского) и белорусского народа, а русская культура как совокупность великорусской, малорусской и белорусской культуры. При этом, работа построена всё же в основном на этнографических источниках, касающихся традиции великорусского этноса, так как материалов об украинской и белорусской традиции мне известно гораздо меньше.
Подробное изучение этнографии началось только в XIX веке, поэтому по более раннему периоду у нас, к сожалению, нет детальной информации о народном быте русских крестьян и подробных описаний их добрачных сексуальных практик и традиций. В связи с этим я использую ретроспективный метод, опираясь на хорошо изученные этнографические материалы XIX-XX вв., и перенося эти знания на более ранний период, пробую понять общую динамику развития народной культуры в целом. Но следует отметить, что народная культура русского крестьянства была очень консервативной, поэтому изменялась достаточно медленно, после реформы Никона существенных культурных изменений государственного масштаба в ней не было, а благодаря существованию старообрядцев сохранилось многое и от народной традиции, которая была до Раскола. Зато под действием различных внешних и внутренних условий появлялись региональные отличия и совершенно разные обряды и практики в разных губерниях (областях), а иногда, даже в разных деревнях одной губернии. Эти отличия я буду выявлять и анализировать. При этом следует обратить внимание на то, что границы современных областей РФ далеко не всегда совпадают с границами одноимённых с ними губерний Российской Империи. К примеру, деревни Тихвинского уезда Новгородской губернии сейчас относятся к Волховскому району Ленинградской области, а деревни Ветлужского уезда Костромской губернии сейчас — к Ветлужскому району Нижегородской области. Во избежание путаницы такие случаи я стараюсь указывать.
Кроме того, подбирая материал для написания этой книги, я старался не подгонять факты под своё миропонимание, не утаивать и не скрывать неугодные и неприятные мне факты народного быта, ибо они всё равно уже зафиксированы и будут приводиться как аргументы и дальше, поэтому нуждаются в детальном изучении, осмыслении, объяснении, а иногда и опровержении. В данном случае нам важно установить истинную картину добрачных сексуальных практик в русской традиции, чтобы не строить на песке фундамент здания о русской национальной культуре, а опираться на реальный позитивный опыт предков, но в то же время не протаскивать в будущее пороки моделей добрачных и семейных традиций прошлого, не повторять их ошибок.
Именно для этой цели нам следует обратиться к материалам этнографии и понять, какой была русская традиционная культура на самом деле, без чёрных мифов и без розовых очков.
Праздничные вольности
Начну свой анализ с изучения материала, который касается игрищ, приуроченных к различным праздникам, и вечёрок. «Праздничных дней в русском быту было довольно много: около 140—150 в году. В это число входили и воскресенья, которые служили регуляторами будничного и праздничного времени. Русские крестьяне шутили: «Сколько дней у Бога в году, столько святых в раю, а мы, грешные, их празднуем». В России традиционно отмечались: Пасха, двунадесятые и великие православные праздники. Большими праздниками считались Ильин день (20 июля / 2 августа), Егорьев день (23 апреля / б мая и 26 ноября / 9 декабря), Николин день (9/22 мая и 6/19 декабря), престольные (храмовые) праздники. К большим, не установленным Церковью праздникам, которые обычно называют календарными, относились зимние Святки (от Рождества до Крещения), Масленица, зелёные (летние) Святки (от Троицы до Петрова дня). Они отмечали главные рубежи в смене времён года и подводили своего рода итоги определённым периодам в жизни природы и людей».6
«В России свободные формы межполового общения молодёжи
практиковались во время посвятительных святочных игр, на масленичной неделе и в постпасхальный (преимущественно троицко-купальский) период. Эти формы досуга и развлечения были направлены на частичное «растрачивание» эротического потенциала молодёжи и подготовку её к будущим брачным отношениям. К числу наиболее невинных стоит, видимо, отнести такие игровые формы с участием молодых людей и девушек, как:
– хлестать друг друга крапивой в Крапивное (петровское) заговенье (Балов, 1901, 134, рус.);
– жалить крапивой девушек, после чего бросать их в воду (КА, Любинцы Стрыйковского р-на Львовской обл.);
– мазать друг друга сажей с помощью головешек от купальского костра (Полесье, Польша и др.);
– вместе качаться на качелях или купаться в реке (притом, что в непраздничное время это расценивалось бы как непристойность);
- бороться друг с другом за обладание купальским деревцем;
– перепрыгивать вдвоём, взявшись за руки, через костер (о.-слав.);
– устраивать совместные трапезы девушек и парней: в Пензенской губ. (Керенский у.) в Семик после гаданий с венками девушки и парни вместе трапезничали в избе, причём каждая из девушек кормила своего парня своей ложкой (Соколова 1979, 205) и мн. др.».7
Наиболее жёсткие высказывания, в которых сравнивает игрища с групповыми изнасилованиями, позволяет себе и Наталья Львовна Пушкарёва — доктор исторических наук, культуролог-антрополог, основоположница исторической феминологии (научная дисциплина, занимающаяся изучением статуса и положения женщин на мировом уровне) и гендерной истории в советской и российской науке, к тому же активная деятельница современного женского движения в России:
«Явления полигинии – сравнительно прочных и длительных связей вне основного, венчанного брака, наличия побочных семей – никогда не смешивались в сознании средневековых православных дидактиков с примерами уголовно наказуемых групповых изнасилований (толоки). Толока, если судить по текстам канонических памятников, зачастую сопровождала упомянутые выше игрища. Эти «компанейские предприятия», да ещё нередко и с обманом, не были, однако, обрядовыми. И всё же «сама теснота, сам физический контакт тел получал некоторое значение: индивид ощущал себя неразрывной частью коллектива, членом массового народного тела». Эти ощущения и переживания были сродни сексуальным, и подталкивали к «всеобщему падению». В то же время в ранних памятниках отсутствовали наказания за блуд «двух мужей с единой женою. И это объяснимо: только на первый взгляд подобная форма интимных связей кажется пережитком дохристианской свободы. При более глубоком анализе они могут предстать (и не случайно именно такими и являются в покаянной литературе XV—XVI вв.) показателем постепенной индивидуализации и сентиментализации сексуальных переживаний, началом признания в сексуальности (разумеется, не дидактиками, а теми, кто «грешил») самоценного аффективного начала. Примечательно в этом смысле, что исповедный вопрос по поводу рассматриваемого нами казуса обращён к «жене» (если она «створит» подобное с несколькими мужчинами). И женщина в этом случае, как мы видим, выступает отнюдь не жертвой, а искательницей «сластей телесных».8
Разберём более подробно этнографические материалы о таких праздниках, как Масленица, Купала и Коляда.
Масленица
«Масленица, один из самых весёлых праздников восточных славян, была когда-то, как и Рождество, посвящена поминовению покойников. Об этом неопровержимо свидетельствует обязательное при этом ритуальное блюдо – блины; кое-где сохранилось и другое блюдо, принятое на поминках, овсяный кисель (Вельский уезд Вологодской губ.). Кулачные бои, которые обычно устраивают на Масленицу, также следует считать одним из элементов поминального обряда» (§ 142). «У русских такие бои в некоторых районах сочетаются с сооружением замка из снега, целой снежной крепости, которую обливают водой. Всадники, штурмующие эту крепость, старались верхом на коне достичь её вершины – сцена, которую изобразил Суриков в своей известной картине «Взятие снежного городка» на Масленицу. Защитники крепости были вооружены розгами. После взятия городка участники игры все вместе устраивали общую попойку».
«У русских поселенцев на Кавказе все девушки деревни, вооруженные длинными палками, влезают на длинную скамью и защищают этот «город». Мужчины верхом на конях штурмуют его, а девушки не пускают их и беспощадно бьют своими палками.
Те, кому удаётся взять этот «город», получают право перецеловать всех девушек». (Станица Вороздинская Терской области Кизлярского округа. – Сборник материалов для описания местностей и племён Кавказа, вып. 7. – Тифлис, 1889. – с. 39—40).
«Костры, которые жгут на Масленицу, причём всегда из соломы и старых вещей, также могут быть связаны с культом предков. Разведение костров в последний день Масленицы, т. е. в воскресенье перед началом Великого поста, обычно называется жечь Масленицу, однако это могло служить и приглашением умерших предков к обильному ужину накануне поста, тем более что существует обычай перед постом не убирать со стола в ожидании покойников.
Такие же костры, которые кое-где разводят уже в начале масленичной недели (ОР РГО, II, 831), доказывают, что дело здесь совсем не в «прощании с Масленицей». Новейшее бытовое толкование этих костров предназначается, прежде всего, для детей: на них-де сжигают ту молочную и мясную пищу, которую уже нельзя больше есть. Другие элементы масленичных обрядов свидетельствуют о том, что когда-то этот праздник совпадал с окончанием периода свадеб».9
«Одним из способов проявления внимания со стороны парня к девушке было приглашение прокатиться с ним на санках. Это называлось «собирать целовники», потому что за катание девушка прилюдно благодарила парня долгим поцелуем. Поэтому губы девушек, пользовавшихся вниманием парней, к концу Масленицы сильно болели. Вообще, во время катания молодёжи с гор проявлялась особая праздничная разнузданность, когда парни могли «задирать девок»: целовать их, таскать, засовывать девушке руки за ворот рубахи, расстегнув шубу, задирать подол и набивать ей снег между ног. Это хорошо удавалось парням в общей свалке внизу горы. Девушки выражали своё возмущение игриво, воспринимая такое поведение парней как знак внимания и завидуя той девушке, которую больше всех валяли в снегу или больше всех сталкивали с горки».10
Бытовал на Масленицу и своеобразный обряд ритуального оголения, описанный в статье К. Э. Шумова и А. В. Черных:
«В масленичном обряде для передачи земле плодородной силы женщины молодуху скатывали с горы, задрав юбку, на голых ягодицах, «чтобы урожай был хорошим»».11
Во время празднования Масленицы «парни и девушки катались с горок парами: девушка садилась к парню на колени, обняв его за шею, чтобы не сорваться с узкой лодейки, или парень сидел, а она стояла сзади и держалась за его плечи».12
Как можно заметить из материалов Д.К. Зеленина и И.И. Шангиной, такие масленичные игрища, как штурм зимнего городка и катание в санках, явно включали в себя целовальные элементы для холостой молодёжи, способствующие её сближению и снятию комплексов. И направлено это было, конечно же, на создание пар. Но есть и другие мнения о масленичной обрядности.
К примеру, В.Я. Пропп считал, что «Масленица есть, как мы видели, преимущественно праздник женатой молодёжи, которую окружают всеобщим весёлым вниманием, тогда как Святки – праздник молодёжи холостой. Холостая молодёжь вновь выступает на сцену в русальную неделю – в праздник весны и на Ивана Купалу – в разгар лета».
«На русальной неделе обращает на себя внимание обряд кумления. Обряд этот записан довольно часто, и основные черты его, при расхождении в деталях, довольно устойчивы. Обряд кумления совершался девушками в лесу после завивания берёзок. Как мы уже видели, ветки берёзок загибаются в круг, так что образуют венки, или венки из берёзок или трав и цветов навешиваются на берёзки. К этим венкам девушки подвязывали свои крестики, затем сквозь венки целовались, менялись крестами и пели песни, содержанием которых является призыв к кумлению. Покумившиеся девушки считаются подругами на всю жизнь или до следующего кумления через год с другой девушкой, или на срок праздника».13
«Иной характер носит другая забава – катание с гор на санках или на бычьих кожах, или на дощечках, которым придаётся приблизительная форма лыж. Это увеселение не связано ни с какими формами состязания или борьбы. Вместе с тем, однако, это и не простое катание, которое могло практиковаться молодёжью и детьми в течение всей зимы. Масленичное катание отличается тем, что в этот день катались молодожёны и что в этом состоял весь смысл увеселения. Время от 6 января до Масленицы в старой деревне было брачным сезоном. В XV столетии январь и февраль иногда прямо назывались свадебными. Пары, которые в этом году поженились, должны были теперь на глазах у всего населения деревни вместе скатиться с горы».14
Несколько по-другому описывает масленичный обряд штурма зимнего городка М.М. Забылин. Правда, это касается Пензенской и Ульяновской областей, а как мы увидим далее, многие обряды имеют очень сильные региональные отличия. «В Пензенской и Симбирской губерниях в субботу на Масленице крестьянские ребята строят на реке из снега род города с башнями и двумя воротами, между которыми сделана прорубь. Игра начинается так: ребята разделяются на две партии – на конницу и пехоту. Конница осаждает город, а пехота защищает его.
Устроясь в боевой порядок, конные по данному знаку пускаются во всю прыть на взятие городка, а пешие, вооружённые помелами и мётлами, стараются маханием испугать лошадей, чтобы не допустить к городку. Но некоторые из конных, невзирая на сопротивление, прорываются сквозь пехоту и на всём скаку въезжают в ледяные ворота, что и значит: взять городок. Победителя купают в проруби; после чего угощают вином всех ратоборцев, отличившихся в пехоте и коннице. Потом, сломав крепость, возвращаются в деревню с песнями».15
Хотя в целом одно не противоречит другому. «Обращает на себя внимание и тот факт, что действующими лицами, исполнителями и персонажами масленичных обычаев эротического характера являются представители всего традиционного сообщества, всех его социо- и половозрастных групп, в то время как, например, в троицко-купальском цикле заметно преобладает молодёжь».16
«На Святках и Масленице во всех славянских традициях имели место праздники, закреплявшие новый статус молодых пар, поженившихся в течение прошедшего года, и тем самым окончательно выводившие новожёнов за рамки молодёжных объединений. И, кроме того, именно во время Масленицы ритуальному и символическому осуждению подвергались те молодые люди и девушки, которые должны были покинуть социо-возрастную группу молодёжи брачного возраста и вступить в брак, но не сделали этого вовремя. Таким образом, к Великому посту и Пасхе в стратификации традиционного сообщества, «приведённой в соответствие» с реальным раскладом социо-возрастных групп, ясно обозначались вакантные места, предназначенные для тех молодых людей и девушек, которые достигли совершеннолетия и могли быть приняты в ряды молодёжи брачного возраста».17
Кроме того, в целом, по мнению Т. А. Агапкиной: «Посредством фольклорного, культового, эротизма как составной части ритуально-магической традиции в славянском народном календаре воплощается три основных значения.
Во-первых, фольклорная эротика есть проявление праздничной разнузданности, оргиастичности, характерной для наиболее мифологически насыщенных, переломных периодов календаря. Эротика в сезонном ритуале – своего рода апогей праздничного хаоса и вседозволенности, мены социальных и даже половозрастных ролей, физического и психологического освобождения и пр. Именно поэтому наибольшее число эротически окрашенных обычаев и фольклорных текстов, а также фаллических символов встречается среди переломных празднеств славянского календаря: на Святках, Масленице и в Иванов день.
Во-вторых, фольклорная эротика и в особенности ритуальная нагота (обнажение гениталий как производительных органов и частей тела человека) связана с тем, что принято называть «комплексом плодородия», аграрными культами и производительным началом. Согласно магической ассоциации, эротические проявления со стороны человека благотворно влияют на производительность земли и скота и потому расцениваются положительно и даже приветствуются как форма праздничного или ритуального поведения.
Наконец, в-третьих, фольклорная эротика обретает особый смысл в перспективе матримониальных отношений молодёжи фертильного возраста и потому широко «применяется» в предбрачных играх, любовной магии и гаданиях о замужестве.
Таким образом, оргиастичность, производительное начало и предбрачные игры – вот те три области, в которых фольклорная эротика в славянском календаре занимает безусловно сильные позиции. Понятно, однако, и то, что в каждом конкретном празднике и даже календарном цикле фольклорная эротика задействует лишь часть этих тем, «согласуя» свою семантику и символику с основными мифопоэтическими доминантами этого цикла».18
Можно сделать вывод, что Масленица, хотя и была преимущественно праздником женатой молодёжи, носила черты ритуального осуждения молодёжи брачного возраста, не вступившей в брак, но всё же служила и целям предбрачных игр для инициации холостых парней и девушек.
«В составе весенних праздников важнейшее место занимают формы знакомства и межполового общения молодёжи, среди которых можно выделить совместные (когда в игре или иной форме досуга участвовали в равной степени и парни, и девушки), взаимные и односторонние (в которых инициатива принадлежала лишь одной из сторон).
Подобные формы досуга не были, конечно, исключительной прерогативой пасхально-троицкого цикла: они практиковались в течение всего года, в том числе и на Масленицу (вспомним хотя бы совместное катание с гор с обязательными поцелуями), однако в период с Пасхи до Троицы или Петрова дня такие развлечения становились постоянными и захватывали не только воскресные дни, но фактически все свободное время молодёжи, были своего рода пиком предбрачных игр и увеселений».19
Купала
«Обряды Иванова дня были отголосками древнеславянского праздника в честь солнца. Об этом свидетельствует и само слово «Купала», которое происходит от глагола «купать», – в его основе лежит индоевропейский корень –kup – со значением «кипеть, вскипать, страстно желать»».20
Купала, или Ярилово празднество, пожалуй, считается наиболее разгульным и сексуальным праздником в славянской культуре. Славянский день влюблённых. Именно его церковь считала наиболее развратным и растлевающим нравы.
«Игумен Елеазарова монастыря Памфил в своём послании к князю Димитрию Ростовскому, наместнику псковскому (1505) так описывает любовный разгул Купальского праздника: «Еда бо приходит велий праздник день Рождества Предтечева, и тогда во святую ту нощь мало не весь град взмятется и взбесится, бубны и сопели, и гудением струнным, и всякими неподобными играми сотонинскыми, плесканием и плясанием <…> женам же и девам плескание и плясание, и главам их накивание, устам их неприязнен клич и вопль, все – скверненыя песни, бесовская угодия свершахуся и хребтом их вихляние, и ногам их скакание и топтание; ту же есть мужем же и отроком великое прелщение и падение, но яко на женское и девическое шатание блудно и в зрение, такоже и женам мужатым беззаконное осквернение, тоже и девам растление».
Подобное же описание Купальского праздника находится, как мы видели выше, и в «Стоглаве». Несмотря на протест духовенства, до позднейшего времени на Яриловом празднестве допускались свободные объяснения в любви, поцелуи и объятия, и матери охотно посылали своих дочерей поневеститься на игрищах. В Витебской губернии накануне Иванова дня «молодые девушки надевают на голову вайник (головной убор замужних женщин)»; в других местах молодые люди обоего пола купаются в реках перед закатом солнца. Вечером раскладывают огонь на полях и на горах.
Девушки и мужчины, побравшись за руки, прыгают попарно чрез огонь. Если при скакании не разойдется пара, то это явный признак, что она соединится браком».21
Так что же служители церкви подразумевали под блудным шатанием, осквернением и растлением дев? Давайте попробуем разобраться подробнее. Для начала следует заметить, что для православной церкви «все удовольствия, развлечения, игры были делом дьявола, бесоугодием, языческой мерзостью. Народные песни, сказки, поговорки относились к той же категории, а сочинения, исполненные «небылиц и вымысла», сожигались на теле их авторов и распространителей. Игры, хороводы, качели предавались проклятию и преследовались властью».22
Таким образом, вполне возможно, что растление на этих праздниках было только с точки зрения православной церкви, так как любые игры и увеселения по её канонам считались греховными. Но присутствовал ли разврат с нашей, современной, точки зрения, ещё следует разобраться.
«В Малороссии накануне сего праздника молодые люди обоего пола купаются в реках до захождения солнца, потом в сумерки раскладывают огонь на выгонах, на полянах, в садах и попарно, держась рука об руку, перепрыгивают чрез огонь. Если во время перепрыгивания руки не разойдутся, это означает, что пара эта, то есть парень и девушка, совокупятся браком; подобно тому, как в Карпатах и Судетах молодёжь, препоясавшись цветными перевязями и надев на головы венки из цветов благовонных, составляют вокруг огня хороводы с песнями в честь Купалы. Иван Купало между простым народом в Ярославской, Тверской и Нижегородской губерниях называется Ярилою».23
«Празднуя Иванов день, парни и девушки объединялись в единую группу, вместе гуляли до самого утра, вместе купались в реках и озерах, что было не принято в другие дни, устраивали совместные трапезы на берегах рек, прыгали через костры. Взаимоотношения любовных пар были достаточно вольные: не возбранялись поцелуи, ласки, объятия, считавшиеся непозволительными в другие дни. Девушка на эту ночь могла «играть» не обязательно со своим постоянным «ухажёром», а выбрать себе в пару любого понравившегося ей парня, даже из чужого села. Почётник же не имел права её ревновать или сердиться из-за «измены». Традиционные развлечения молодёжи – хороводы, качели, пляски – сопровождались песнями с эротической направленностью».24
«В северо-восточных местах России праздновали вместо Купалы, Агриппину Купальницу. Пред собиранием хлеба приносили ей жертвы и того же времени начинали купаться в реках, потому она прозвана Купальницей. Молодые люди украшались венками, раскладывали ввечеру огонь, плясали и пели в честь купальницы». 25
Ещё в ночь на Купалу искали цветок папоротника, который, как известно, цвести не может.
««Невидимый цвет» добывается с папоротника, который расцветает в ночь на Иванов день. Берут с собой скатерть, приходят на то место, где растёт папоротник, и расстилают скатерть рядом с ним. Как только цветок папоротника распустится, надо в ту же минуту его сорвать. Держа при себе цветок папоротника, станешь так же невидим, как и в шапке-невидимке и можешь достать с ним клад».26
«До сих пор во всех славянских землях верят, что без огненного цвета папоротника ни за что нельзя добыть клада. Этот фантастический цветок – метафора молнии, что очевидно из придаваемых ему названий и соединяемых с ним поверий. У хорватов он прямо называется Перуновым цветом, у хорутан – suncec – солнечник, ибо, по их рассказам, он расцветает тогда, когда весеннее солнце победит чёрного волка (демона зимы), и хотя нечистые духи силятся не допустить его до расцвета, но усилия их постоянно бывают безуспешны. На Руси ему даётся название светицвет; народная же сказка упоминает о жар-цвете, который когда цветёт – то ночь бывает яснее дня и море колыхается. О папоротнике рассказывают, что цветовая почка его разрывается с треском и распускается золотым цветком или красным, кровавым пламенем, и притом столь ярким, что глаза не в состоянии выносить чудного блеска; показывается этот цветок в то же самое время, в которое и клады, выходя из земли, горят синими огоньками…
Другая ночь, в которую цветёт папоротник, бывает среди лета – на Ивану Купалу, когда Перун, по древнему представлению, выступал на битву с демоном-иссушителем, останавливающим колесницу Солнца на небесной высоте, разбивал его облачные скалы, отверзал скрытые в них сокровища и умерял томительный зной дождевыми ливнями».27
«Нечистая сила всячески мешает человеку достать чудесный цветок; около папоротника в ночь, когда он должен цвести, лежат змеи и разные чудовища и жадно сторожат минуту его расцвета. На смельчака, который решается овладеть этим цветком, нечистая сила наводит непробудный сон или силится оковать его страхом; едва сорвёт он цветок, как вдруг земля заколеблется под его ногами, раздадутся удары грома, заблистает молния, завоют ветры, послышатся неистовые крики, стрельба, дьявольский хохот и звуки хлыстов, которыми нечистые хлопают по земле; человека обдаст адским пламенем и удушливым серным запахом; перед ним явятся звероподобные чудища с высунутыми огненными языками, острые концы которых пронизывают до самого сердца. Пока не добудешь цвета папоротника – Боже избави выступать из круговой черты или оглядываться по сторонам: как повернёшь голову, так она и останется навеки! А выступишь из круга, черти разорвут на части. Сорвавши цветок, надо сжать его в руке крепко-накрепко и бежать домой без оглядки; если оглянешься – весь труд пропал: цветок исчезнет! По мнению других, не должно выходить из круга до самого утра, так как нечистые удаляются только с появлением солнца; а кто выйдет прежде, у того они вырвут цветок. Те же условия: очертить себя кругом и не оглядываться – необходимо соблюдать и при добывании клада. Замкнутая круговая черта служит преградою, за которую не может переступить нечистая сила; нож, четверговая свеча, рябиновая палка и лучина – эмблемы молнии, поражающей демонов».28
«Откуда возникло это сказание, трудно вообразить; по всему можно думать, что невозможность цвести папоротнику въявь как растению тайнобрачному (возьмем хоть грибы, которые тоже не цветут видимо) не есть ли насмешка ради того, что никому, мол, не нужно рассчитывать на слепое счастье, а пользоваться только трудом и от него получать средства к жизни.
Впрочем, есть предположение, что на папоротник садится самец светящегося червячка или светляка, который ночью, как известно, даёт от себя фосфорический свет; не это ли и породило басню? Червячок этот тоже носит название «Иванова»».29
«На Украине, в Белоруссии, у зап. славян и в западной части ю.-сдав. ареала (Словения и Хорватия) возжигание костров в канун И. К. – центральный акт купальской обрядности (в относительно редких случаях костры раскладывались ежедневно неделю или больше до праздника и несколько дней или неделю после него, но главным был костёр в ночь на И. К.). Костры раскладывали за селом (иногда несколько костров вокруг села), на выгоне, па возвышенном месте (чаще всего), у реки, над водой, на паровом поле или возле засеянного поля ржи, пшеницы, а также на границах сёл, на развилках и перекрёстках дорог, под большим одиноким деревом на открытом месте и т. п.
Целью разведения костров в большинстве случаев считалось «сожжение ведьмы (чаровницы)», отпугивание её, изгнание из села или «разоблачение» сельской ведьмы, которая якобы не могла не прийти к огню в эту ночь; однако встречаются и другие объяснения, например, в некоторых р-нах Словакии (окрестности Нитры) костры жгли для вызывания дождя».30
В купальскую ночь, согласно поверьям, ведьмы летают на шабаш, отбирают молоко у коров, вредят хлебным полям – похищают их урожайность, делают «заломы» и т. п. Люди в это время не только защищались от ведьм, но и старались их выследить, опознать и обезвредить. Считалось, что сожжение в купальском костре предметов, символизирующих ведьму, причиняет ей нестерпимые боли.
«Девушки изображали русалок: в белых рубахах и с распущенными волосами они бежали на луг, где пели, плясали, водили хороводы, а когда возвращались, то нападали на встречавшихся им парней и мужиков и хлестали их плётками».31
Безусловно, и подобные игры в русалок с битьём парней плётками были частью системы сексуального воспитания в традиционном обществе.
Помимо разгула нечистой силы, ведьм и русалок, позволялся и разгул молодёжи, недопустимый в обычное время. Но, судя по описаниям, вероятно, смысл этих бесчинств не носил сексуального характера и сводился скорее к сбросу скопившейся негативной энергии и освобождению от стресса.
«В купальскую ночь, как и в одну из ночей на святки, у вост. славян часто совершались ритуальные бесчинства молодёжи: крали дрова, телеги, ворота, затаскивали их на крыши, подпирали двери домов, замазывали окна и т. п.».32
Так что, в целом, летний солнцеворот — магическое время, когда участники праздника проходят очищение водой и огнём, ищут цветок папоротника, защищаются от ведьм и нечистой силы, молодёжь снимает стресс бесчинствами, играми в русалок, но всё же, самые главные обычаи связаны именно с предбрачными эротическими игрищами для холостой молодёжи.
«Стародавний, освящённый веками обычай, многие и многие годы спустя после исчезновения из памяти народной первобытного брака-умыкания, заставлял матерей ещё не так давно (в конце XVIII столетия) посылать девушек «невеститься» на Ярилины игрища. На последних допускалось самое свободное обращение молодёжи обоего пола между собою. В память этого ещё и теперь в начале Всесвятской недели происходит местами «смотрение невест», для чего последние сходятся в зелёной роще и проводят целый день в играх да песнях; а парни ходят – высматривают каждый пару себе по сердцу. При этом, впрочем, всё сопровождается полной благопристойностью. Собравшимися затевается игра «в горелки». Высмотревшие себе невест становятся попарно с приглянувшимися им девицами в длинный ряд; один из них, которому выпадет жребий «гореть», выступает вперёд всех и выкликает: «Горю, горю, пень!» – «Чего ты горишь?» – спрашивает его какая-нибудь девица-красавица. «Красной девицы хочу!» – «Какой?» – «Тебя, молодой!» После этого одна пара бросается в разные стороны, стараясь снова схватиться руками, а «горевший» пытается поймать девушку прежде, чем она успеет сбежаться со стоявшим с нею раньше парнем. Если «горящий» поймает девушку, то становится с ней в пару, а оставшийся одиноким «горит» вместо него; а не удается поймать – он продолжает гоняться за другими парами.
На Всесвятской (Ярилиной) неделе, по суеверному представлению народа, особенно неотразимую силу имеют всевозможные любовные заговоры – на присуху, на зазнобу да на разгару».33
В Заонежье, в локальных группах русской Карелии, «девичьи обнажения могли быть одним из многих, далеко не главных элементов обрядового действия, как это имело место в праздновании встречи лета в д. Суйсари, что расположена в 50-ти км к северу от г. Петрозаводска. Происходило празднование следующим образом. В ночь на Иванов день парни и девушки собирались за деревней у озера около большого приметного камня, именовавшегося у местных жителей «Тобот». У камня разводили костёр, прыгали через огонь парами, взявшись за руки (поперёк кострища) или поодиночке (вдоль кострища). Девушки, отделившись от парней, под утро шли в баню. Там готовили на каменке пироги-сканцы. Угостившись, собирали цветы и плели из них венки, а ещё ломали веники из тридевяти прутьев. Возвращались в баню, парились (для славы) этими вениками, после чего шли купаться в Онего-озеро с одними лишь венками на голове. Искупавшись, бросали венки в воду и смотрели, куда они поплывут, гадая о «судимой сторонушке»: «Куда он поплывёт, там мой суженый живёт». Если венок уносило в открытое Онего, считалось, что ещё год в девках сидеть придётся. Парни суйсарьские подглядывали за девушками». 34
Хотя принародные обнажения не были исключительно купальской традицией. Следует заметить, что «принародные обнажения мужчин и женщин в заонежской традиции не всегда воспринимались как эротические или магические. Ещё в начале XX в. у заонежан было принято ходить купаться в озере без одежд после жаркой бани. Это было нормой. По свидетельству В. Лосева, в 1908 г. на купающихся после бани голых девушек никто из местных жителей, т. е. заонежан, не обращал ни малейшего внимания».35
«Эротические забавы Ивановой ночи были тесно связаны с ритуалами, посвящёнными брачной тематике, с любовной магией и гаданиями о замужестве. Считалось, например, что если парень и девушка, прыгая через купальский костёр, не разомкнут руки, то их любовь будет вечной. Если во время прыжка парень подхватит на лету упавший с головы девушки венок, то он имеет право к ней свататься».36
Те же тенденции в купальских игрищах наблюдал и А.В. Терещенко: «В Калужской губернии существовало обыкновение, которое местами отправляется поныне, что парень, задумавший жениться, должен вытащить из воды венок для той, которую просит за себя. Вытащивши венок, он может свататься». 37
Важную роль в купальских игрищах играли и хороводы. «Хороводы составляли первоначально часть языческих религиозных обрядов. Нам кажется, что ритуал некоторых хороводов сохраняет в себе ясные следы первобытного гетеризма. Например, в одном хороводе девушки должны поочередно целовать парней с первого до последнего».38
«В этих хороводных играх и песнях, уцелевших от древних времен, мы также видим ясные следы тех свободных сговоров и обоюдного выбора женихов и невест, о которых говорит летописец. Мало того, что в этих играх парни выбирают себе девушек, а девушки – парней и составляют пары и что в хороводах выбор пары предоставляется девушкам наравне с парнями, – часто мужчины и женщины составляют две отдельные партии, которые сходятся затем, чтобы договариваться о свадьбах». 39
Как видно после хороводов и игрищ, «девушки и мужчины, побравшись за руки, прыгают попарно чрез огонь. Если при скакании не разойдётся пара, то это явная примета, что она соединится браком».40
«В Рязанской и Тамбовской губерниях праздник Ярила совершался в день Всех Святых или на другой день Петрова дня, во Владимире на Клязьме – в Троицын день, в Нижегородской губернии – июня 24-го, в день ярмарки, в Твери – в Первое воскресенье после Петрова дня. Здесь девушки и парни собирались плясать и веселиться. Матери охотно отпускали своих дочерей на это гулянье «поневеститься». Женихи высматривали невест, а невесты – женихов, но, однако, случались и дурные последствия от поневестыванья. Во время разгула дозволялись обнимания, целования, совершавшиеся под ветвистыми деревьями».41
«Очевидно, что «дев растление», которым сопровождались эти игрища, было жертвою в честь языческих божеств. Нужно думать, что вначале девушки не только могли являться на эти игрища, но и обязаны были к тому. Последнему предположению нисколько не противоречит то обстоятельство, что на этих игрищах заключались личные браки». 42
Из всех подобных описаний, которые встречаются в этнографической литературе, можно сделать вывод, что никаких признаков массовых купальских оргий мы не наблюдаем. А «растление дев» и, в целом, молодёжи, о котором так сокрушалась русская православная церковь заключается в прыжках через костёр, песнях, танцах, купаниях в реке голыми, хороводах и многочисленных игрищах с поцелуями и со сменами пар. И всё это было направлено на создание пары и последующее замужество.
А ведь из всех праздников Купала наиболее страстный в своей сексуальности.
«Цикл празднеств летнего солнцеворота начинался в день Аграфены Купальницы (день памяти св. мученицы Агриппины; 23 июня / б июля) и продолжался до Петрова дня (29 июня /12 июля), а его кульминацией был Иванов день (день Ивана Купалы; 24 июня / 7 июля), который считался «макушкой лета».
Эти дни отмечали как праздник природы, которая к этому времени достигает высшей точки своего расцвета. После дня Ивана Купалы её буйство постепенно «идёт на убыль»».43
«В троицко-купальском цикле (в отличие от Святок не столь тесно связанном по происхождению с культом предков) эротический элемент, как мы увидим в дальнейшем, обнаруживал себя прежде всего в проводных ритуалах, состоящих в изготовлении и последующем уничтожении обрядового чучела. Иными словами, сквернословие и вольное поведение и здесь зачастую соотносились именно с областью смерти, пусть даже символической. Что же касается специально купальской обрядности, то в ней эротический элемент органично вплетался в общую вседозволенность праздничного времени, когда люди, природа и потусторонние силы как бы объединялись в своём стремлении нарушить принятые нормы, воплотить невозможное и реализовать несбыточное (ср. в этом смысле бесчинные забавы молодёжи, поверья о разгуле нечистой силы, цветении папоротника, разговорах домашних животных и т. п.).
И ещё на одно обстоятельство обратим внимание. Эротические забавы и непристойное поведение практически всегда были связаны (во всяком случае – во временном плане) с ритуалами, посвящёнными матримониальной тематике, с любовной магией и гаданиями о супружестве. Таким образом, эротический «сюжет» обряда или обрядовой песни как бы на деле (пусть даже в самых крайних формах) реализовывал желаемое и вместе с тем создавал прецедент, следование которому (в отличие от самого анти-поведения) полностью отвечало норме».44
Коляда
«Коляда – ключевой термин, обозначающий Рождество и связанные с ним обрядовые реалии».45
«Святки, святые вечера – так обыкновенно называются в России, да и не в одном нашем отечестве, а и за границей, дни празднества, дни веселья и дни священного торжества Рождества Христова, начинавшегося с 25 декабря и оканчивавшегося обыкновенно пятым января следующего года. Это торжество соответствовало священным ночам у немцев. По другим наречиям Святки (swatki) означают праздники».46
«В Белоруссии и в Малороссии Святки называют Колядою, Каледою; название сходствует с римскими Kalendae от греческого глагола «сзывать», также от санскритского kala».47
«Декабря 24 русские язычники славили Коляду, о которой уже мы ранее говорили. По словам нашего знаменитого историка Карамзина, Коляда был бог пиршеств и мира, и хотя по созвучию можно производить Коляду от римских календ и других, но римские праздники этого названия были празднуемы во всех месяцах. А если находят, что наш рождественский праздник был сходствен с Янусовым, то причиною тому было, вероятно, не что иное, как влияние римского владычества над славянскими народами, причём, конечно, каждый народ, усваивая и принимая чуждые понятия и верования, всегда ищет в них сходства внешнего или внутреннего со своими коренными понятиями и верованиями.
Значение слова «Коляда» у разных народов различно: у виндийцев Koleda (коледа) почитается за божество празднеств, и также называются некоторые церковные обряды, а koledowati (коледовати) означает «хождение детей по разным домам с песнями и плясками». У чехов, болгар и сербов Koleda, а также wanoenj pisnieky значит – «святочная песнь», choditi po Kolede (ходить по коледу) значит поздравлять с Новым годом и за это получать подарки от каждого, кто что может дать».48
Во время празднования Коляды распространено колядование. «Колядование – приуроченный преимущественно к Святкам ритуал посещения группой участников, которые исполняли благопожелательные приговоры и песни в адрес хозяев дома, за что получали ритуальное угощение».49
Само колядование связано с культом предков, ибо колядовщики в данном обряде являются, как бы представителями потустороннего мира предков. Еда, которую подавали колядовщикам, тоже была своеобразным даром предкам. Подробнее об этом можно прочитать в книге Виноградовой Л.Н. «Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования». Но даже в культе предков была некоторая эротическая составляющая.
«В Касимовском районе Рязанской области ещё в 30-е годы молодые мужчины и парни, собравшись компаниями человек по десять, наряжались «стариками» («дедами калёными»). «Придя на посиделки, «деды» пляшут, забавляются с девчонками [эти забавы, очевидно, мало отличались от тех, которые затевались «медведем» или «покойником».– Авт.]. Когда это надоест, «деды» хватают девиц и выволакивают их на улицу. Поднимается неописуемая свалка, так как изба обычно переполнена, кроме участвующих, ещё наблюдающими (главным образом, дети школьного возраста).
Вытащив девиц на улицу, на снег, «деды» задирают им подол и натирают снегом между ног (конечно, никаких панталон шостьинские девочки не носят, а может быть, умышленно не надевают их в эти дни).
Но интересней обстоит дело, когда эта процедура совершается коллективно. Тогда двое «дедов» берут девушку за ноги и поднимают кверху, держа юбку колоколом; третий насыпает в этот колокол лопатой до пол. Девушка, подвергнутая таким манипуляциям, отряхивается от снега, произнося: «Спасибо, дедушка родимый!» – и убегает обратно в избу».50
Этнографы И.А. Морозов и И.С. Слепцова, которые привели описание данного обряда в статье «Свидание с предком (Пережиточные формы ритуального брака в святочных забавах ряженых)», объясняют такие добрачные сексуальные обряды следующим образом:
«Мотив ритуального брака с предком, почтившим своим вниманием участников святочного торжества, является, по-видимому, ключевым для понимания смысла большинства сценок с участием ряженых, а также развлечений и игр, практиковавшихся во время игрищ.
В сценках, зафиксированных исследователями с середины прошлого века, ритуальный брак или даже коитус с «покойником», как воплощением предков, уже заменяется, как правило, «венчанием» и «женитьбой» всех присутствующих юношей и девушек, которые осуществляет персонаж, в большей или меньшей мере связанный с духами предков».51
М. Л. Лурье в статье «Эротические игры ряженых в русской традиции» приводит следующее описание игрищ с участием ряженых:
«Более распространённым видом эротического контакта в ряженье являлся поцелуй. Кстати, он часто наделялся животворной силой: целуя ряженых, девушка «чинила мельницу», «оживляла коня», «воскрешала покойника». Скорее всего, для ряженья поцелуй был важен не столько сам по себе, сколько как знак контакта между девушкой и ряженым, олицетворявшим мужское начало. Не случайно девушки так неохотно шли на это: целовать ряженых было страшно, противно и, наконец, стыдно, что явствует из многих рассказов бывших участников игрищ. В некоторых случаях поцелуй мог прямо символизировать половое сближение. Например, в игре в «стульчики» реплики ряженых подростков «Поцеловать теперь!» и «Поебать с голоду!» воспринимались как равнозначные – и в одной, и в другой ситуации выбранной девушке предстояло целовать «стульчика».
Встречались случаи, когда контакт носил иной характер: девушка должна была подержаться за половой член персонажа (натуральный либо изображавшийся каким-либо предметом) или за то, что его эвфемистически представляло в игре (это мог быть «межевой столб», «кран квасника» и т. д.).
В некоторых случаях девушек заставляли целовать фаллос (см. игру в покойника в очерке К. Завойко), а иногда – наблюдать за имитируемой эрекцией. При этом каждая из названных форм «приобщения» к фаллосу была функционально эквивалентна поцелую, поскольку тоже обеспечивала оживание «покойника» (в конкретном варианте последний эпизод мог отсутствовать, но в принципе он предполагался игрой), починку или имитацию действия какого-либо предмета, механизма («межа», «квасник», «аршин, отмеряющий ситец»).
Исконная ритуальность действа ряженых, направленного на контакт с присутствующими, подтверждается следующими обстоятельствами. Это, к примеру, обязательность участия в каждой из подобных игр всех девушек».52
М. Л. Лурье в данной статье приводит к выводу, что « в сущности, взрослая молодёжь проходила в этих играх ту же сексуальную инициацию, только на словесном уровне.
Коитальная ситуация проигрывалась здесь на словах, подобно тому как в других играх – в условных действиях. Таким образом, на ритуально-игровом уровне обеспечивалась и удостоверялась готовность молодёжи к брачным отношениям».53
Мне кажется, в данном вопросе именно М. Л. Лурье ближе к истине. Колядовщики, безусловно, связаны с культом предков, но, возможно, следует разделять колядование как сбор пищи, денег и других даров предкам с ритуальными бесчинствами ряженых. Вероятно, ряженые не во всех святочных обрядах изображали из себя почивших предков, а в каких-то случаях выступали и как нечистая сила или, точнее, некий славянский Трикстер. Моё предположение заключается в том, что колядовщики связаны с культом предков, а ряженые выступают в роли нечисти, как славянского Трикстера.
Наиболее полное определение этого термина приводит Д.А. Гаврилов в статье «Трикстер в период социо-культурных преобразований: Диоген, Уленшпигель, Насреддин»:
«На примере мифологических образов двух эддических богов были представлены следующие основные признаки архетипа Трикстер:
1. Трикстер появляется для нарушения сложившихся устоев и традиций, он привносит элемент хаоса в существующий порядок, способствует деидеализации, превращению мира идеального в реальный.
2. Трикстер – это неподконтрольная никому фундаментальная Сила, результат действия которой непредсказуем, даже для самого Трикстера. Трикстер – это провокатор и инициатор социо-культурного действия и изменения творения, которое выглядит как порча.
3. Трикстер традиционно выступает посредником между мирами и социальными группами, способствует обмену между ними культурными ценностями и переводу информации из области непознанного (Мир Иной, Навь) в область познаваемого (Белый Свет, Явь). Он делает неявное явным, вторгаясь в область неизведанного первым.
4. Трикстер – господин многих искусств, мастер на все руки, иногда спутник культурного героя или сам культурный герой, его проводник, или его тень, тот, кто проверяет претензии героя на Силу и Власть. Трикстер – добытчик знаний через нарушение социального или космогонического запрета, инициатор мифологического действия.
5. Трикстер аморален, с точки зрения существующей этической системы культурного героя. Он стоит на грани мира человеческого общества и первобытного мира Дикой Природы, поэтому с точки зрения социального человека смешон, нерассудителен или бессознателен. Обладает зачастую ярко выраженными чертами соблазнителя – гиперсексуала и обжоры. Склонен к перемене пола.
6. Трикстер – оборотень, перевёртыш, игрок, и для него не существует привычного понятия о жизни и смерти, потому что игра каждый раз может быть начата сначала и в любой момент прекращена. Трикстер не всегда выходит победителем из затеянной игры и может попасть впросак, оказаться жертвой собственной хитрости.
7. Трикстер выступает, как Старый Мудрец с одной стороны и как юнец – с другой, в зависимости от того, каков находящийся рядом с ним культурный герой, чьё чувство значимости Трикстер умаляет».54
Таким образом, ряженые выступают как культурный Трикстер, и эротический характер игрищ, которые они иногда устраивают, не носит мотива ритуального брака с предком, а служит цели возрастной инициации молодёжи, проверки её готовности к супружеской жизни. Именно такую основную цель имеет это ритуальное анти-поведение, которое проявлялось в словах и действиях ряженых и самих участников игрищ.
«В специальной литературе утвердилось мнение, согласно которому эротические обряды и фольклорные тексты являются принадлежностью сферы анти-поведения, магического, по сути, и связанного по происхождению с языческими представлениями о потустороннем мире.
Анти-поведение «соотносилось с календарным циклом и, соответственно, в определённые временные периоды (например, на Святки, на Масленицу, в купальские дни) признавалось уместным и даже оправданным (или практически неизбежным)».
По мнению Б. А. Успенского, эротика в этих народных обрядах коррелировала с иными формами анти-поведения, в частности, с ритуальным ряжением и глумлением над христианским культом».55
Срамные песни и частушки с нецензурной лексикой, которые исполнялись на Купалу, Коляду и на некоторых бытовых праздниках, например, на свадьбе, тоже имели ритуальный характер, смысл которого в раскрепощении молодёжи, снятии комплексов, привитых основной целомудренной культурой воспитания, ради того, чтобы проверить их зрелость и готовность к супружеской жизни, помочь в выборе пары и снять стресс, накопившийся в течение рабочих дней. Напомним, что молодёжь, участвующая в данных мероприятиях, была моложе 25 лет, часто и моложе 20 лет, поэтому нуждалась в такой инициации и проверке на сексуальную зрелость, а при вступлении в брак в таком юном возрасте жениху и невесте следовало пройти раскрепощение и настроиться на взрослую половую жизнь. Видимо, таким целям служили нецензурные частушки и песни, исполнявшиеся на свадьбах.
Даже Топорков Андрей Львович, этнограф, известный своей углубленностью в тему эротики и нецензурной лексики в русской народной культуре, отмечал, что ««срамные» или «охальные» песни исполнялись, как правило, только в рамках определённых календарных или семейных обрядов».56
У срамных (матерных) песен и частушек, употребляемых вне контекста обрядов, где они требуются, есть другое объяснение, и заключается оно в низком уровне образованности некоторой части крестьян.
«Бранятся крестьяне по большей части нецензурными словами и довольно часто. Некоторые из них так привыкли к этим выражениям, что не могут сказать пяти или шести слов без нецензурного слова. Некоторые из них довели эти выражения до виртуозности, про таких у нас говорят: «Вот так молодец, трёхэтажным-то ловко пустил»…
Конечно, не все крестьяне одержимы этим пороком, и в этом обращении их можно разделить на три группы: первая группа – самая многочисленная – это крестьяне, не получившие никакого образования, не умеющие читать, это любители нецензурной брани, и среди них находятся артисты этих выражений, они нисколько этого не стесняются и не стыдятся, особенно в пьяном состоянии, в котором они не знают меры этим выражениям. Вторая группа: это крестьяне, получившие образование, т. е. бывшие в училищах. Они реже первых прибегают к этим выражениям, стыдятся и стесняются женщин, считают неприличным. Часть из них совсем не употребляют».57
Помимо колядования и игрищ, на Святки были очень распространены различные виды гаданий.
Пожалуй, наиболее яркий пример гадания с эротическим элементом – это гадания в бане или овине.
«Гадание у бани. Нелепое, невежественное гадание было в старину в большом ходу; оно состояло в том, что, отворив немного дверь бани, девушки обнажали некоторые части, подходили к двери поочередно и говорили под прикрытием сумрака ночи довольно несвойственную для девушек, и тем более девственниц, фразу с предложением домовому прикоснуться рукой к обнажённой части тела. Если девушка чувствовала руку мохнатую – то предполагался богатый жених в этом году, а холодная голая рука – бедного, шершавая – характерного и пр.
Прочитав о таком безобразном гадании, можно и посмеяться; но, в сущности, можно задаться вопросом, кто был первым изобретателем такого гадания? Почему такие скабрезные обычаи живут и до сих пор на Руси? Неужели родители и родственники не прочь от позволения гадать таким образом своим родным дочкам, да притом у бань, которые всегда бывают на краю деревни, где-нибудь у реки, на краю жилья? Нельзя ли в этом гадании подозревать предлога к тайному разврату?»58
Чуть подробнее этот обряд описывает Д.К. Зеленин: «Севернорусские девушки отправляются в полночь в баню, завернув подол на голову, обнажают ягодицы, пятясь, входят в баню и приговаривает: «Мужик богатый, ударь по ж… рукой мохнатой!»
Если к телу прикоснётся волосатая рука, жених будет богатым, если безволосая и жёсткая, он будет бедным и лютым, если мягкая – у него будет мягкий характер. То же самое проделывают они и в риге. Выбежав из бани, севернорусские девушки голыми ложатся в снег, а назавтра разглядывают свой отпечаток: если на нём окажется след, девушка выйдет замуж». 59
В Вологодской губернии «во время Святок, особенно пред Новым годом, Крещеньем и Ивановым днем (7-го января), весьма распространён обычай гадать, что совершается также разнообразно…
В гаданиях даже доходят до нелепости. Так, идут девушки вечером целой гурьбой в холодную баню. Поодиночке, да ещё вечером ни за что не пойдут: баня, как и церковь, одно из самых страшных мест для суеверного народа. Придя в баню, каждая из них попеременно становится к банному окну заголённым задом, желая узнать, какой будет жених, богатый или бедный. Если покажется, что по голой коже банник погладил мохнатой или шерстинотой (шерстяной) рукой, то это значит, что жених будет богатый, если же, наоборот, банник проведёт по заднице голой рукой, то и жених будет голяк – бедный».60
И примерно так же происходит и гадание в овине: «не отказывает овинник в своей помощи (по части предсказания судьбы) и тем девицам, которые настолько смелы, что дерзают, мимо бань, ходить гадать к нему на гумно. Та, которой досталась очередь гадать первой, поднимает на голову платье (как и в банях) и становится задом к окну сушила:
– Овинник-родимчик, суждено, что ли, мне в нынешнем году замуж идти?
А гадают об этом всегда на Васильев вечер (в канун Нового года), в полночь между вторыми и третьими петухами (излюбленное время у овинника и самое удобное для заговоров).
Погладит овинник голой рукой – девушка будет жить замужем бедно, погладит мохнатой – богато жить. Иные в садило суют руку и делают подобные же выводы, смотря по тому, как её погладит. А если никто не тронет, – значит, в девках сидеть».61
Из данного описания гадания понятно, что мы имеем дело с одним и тем же обрядом, который практиковался в конце декабря во время Коляды или Нового года. И обряд был достаточно устойчивым. А это значит, что девушек реально кто-то трогал за ягодицы во время обряда. Понятно, что если бы девушек никто не трогал, то они довольно быстро потеряли к нему интерес: не велика радость ночью идти к овину или бане, там оголять зад и ждать, пока потрогает овинник или домовой мохнатой рукой. Без галлюциногенных веществ такое бы вряд ли с кем-то случилось. Из этого можно сделать вывод, что ночью девушек за ягодицы трогали парни, которые прятались в темноте бани и ждали там их прихода. Видимо, проводился этот обряд в определённое время. Вероятно, чаще всего на Васильев вечер в канун Нового года.
Моё предположение полностью подтверждает информация С.В. Максимова: «Наш корреспондент рассказывает об одном случае, когда гадальщица, которую схватил парень, спрятавшийся в овине, умерла от испуга».62
Причём этот случай как раз доказывает, что именно коитус был под запретом, но пробуждение женской сексуальности шло через подобные игры. Представим, как это проходило. Девушка шла ночью с подругами, подошла к пустой бане, оголила ягодицы и выставила в тёмное пустое помещение, а её ещё кто-то оттуда потрогал. Причём это делали совсем молодые девушки в 15-16 лет. Таким образом они получали неплохую порцию адреналина. А парням, видимо, много часов надо было там сидеть в темноте. Ночь они, видимо, знали, в которую девушки так гадают, но время же могло быть неточным. Но либидо творило чудеса стойкости, причём не ради самого секса-то, а просто потрогать. И это чудесным образом способствовало брачным союзам. А само гадание имело очень важную роль, так как в те времена практически не было разводов, и за кого девушка выходила замуж, с тем и оставалась на всю жизнь. Так что права на ошибку не было. А ритуальные оголения способствовали своевременному раскрытию сексуальности у девушек и правильному ее формированию у парней.
«Обнаженная натура широко использовалась во время русских святочных игр и развлечений. На посиделки приносили "покойника", который либо был совсем голый, либо прикрыт сетью, рваньём или полупрозрачным саваном, либо был без штанов, с расстегнутой ширинкой, прорехой на известном месте. Девушек насильно подтаскивали к такому покойнику, чтобы они увидели гениталии, заставляли их поцеловать его в морду или в другое место. Иногда сценка заканчивалась «оживлением» покойника, и он плясал голый и пачкал девиц сажей или мелом» (Морозов, Слепцова, 1996: 269).
«В театрализованных сценках «кузнецов» изображали мужики в чём мать родила, «печку» – голый мужик, вымазанный сажей, «рыбаки» представляли лов рыбы в одних панталонах, и т. д.» (Преображенский, 1995: 192-193). «Ряженые мужики и парни не только демонстрировали девушкам свой срам, но и вели себя агрессивно по отношению к ним: били или стегали их пониже спины, тискали, валяли по полу, а иногда даже поднимали за ноги и натирали им снегом между ногами» (Морозов, Слепцова, 1996: 287). Как отмечает М. Л. Лурье, «в общей атмосфере раскрепощённости, возбуждённости, веселья девушки должны были обязательно испытать неподдельные страх, стыд, отвращение и физическую боль» (Лурье, 1995:182).63
В деревне д. Молино Белоозёрского уезда Новгородской губернии (сейчас Белоозёрский район Вологодской области) игра в покойника описана несколько иначе:
«С 6 декабря начинают ходить «кудесами» (маскироваться. – Прим. корр.). Современная молодёжь не может объяснить, откуда явился обычай маскироваться. Самый процесс маскированья очень незатейлив: девицы переодеваются в костюмы молодцов, и обратно. Иногда делают «покойника». Один из парней нарядится покойником: в лапти, в белую рубашку, рожу вымажет мелом – ложится на скамейку. Остальные парни – «попами». Возьмут рогожи или половики и сделают себе подобие риз. Берут мнимые попы этого покойника и на скамейке несут в ту избу, где идёт беседа. Внесут в избу и ложат под образа, а сами начинают петь:
Дивное чудо:
В монастыре жить худо,
Игумны безумны,
Строители – грабители,
Архимандриты сердиты,
Послушники – косушники,
Монахи – долгие рубахи,
Скотницы – до картошки охотницы…
При этом одни из «попов» кадят рукомойником, где наложены вместо ладану табак или куделя, или же просто «калешки» (коневья говна. – Прим. корр.) и горячие уголья. Потом начинают «прикладываться». «Покойник» встаёт после этого и пляшет, или же его уносят».64 Уже, как видно, без явного эротического подтекста, но с сохранением функции культурного Трикстера.
В Мосальском уезде Калужской губернии отмечали, что «молодёжь в данной местности сближается на игрищах и увеселениях, в праздничные дни – на Пасху, на Троицын День, в Петровские заговены, в день Ивана Купалы, на Святках и Масленице, причём единственным средством парню и девушке понравиться друг другу есть со стороны первого настойчивые ухаживания, особое внимание, угощение сладостями и подарками (мелочные), а со стороны последней – внимание и ласковое обращение; суеверий в возможность приворожить, т.е. заставить себя полюбить, теперь уже не существует в данной местности (село Спас-Деменск)» .65
Кроме Купалы, Масленицы и Коляды были и другие праздники, когда практиковались обряды, способствующие сближению молодёжи.
«Особенно ярко отмечался девушками день Кузьмы и Демьяна (день памяти св. Космы и Дамиана; 1/14 ноября), называвшийся в деревнях «кузьминки», «кузьмушки», «Кузьма-Демьян». В жизнеописании Космы и Дамиана говорится, что они жили во II в. в Малой Азии, были врачами и лечили всех нуждающихся бесплатно, за что стали называться бессребрениками. Однако в русской деревне Кузьма и Демьян считались покровителями домашней птицы и брака – «кузнецами свадеб»». 66
«В известном смысле зависимой от календаря была и вся система предбрачных молодёжных отношений, регулируемая сезонными формами молодёжного досуга: посиделками в осенне-зимнее время (по окончании летне-осенних полевых работ – от Покрова, Воздвиженья, Кузьмы-Демьяна до Великого поста; с кульминацией на Святки) и «улицей», «хороводом», уличными гуляниями – в весенне-летнее (с Пасхи и до конца лета, включая или исключая самое время летней страды: с Петрова до Ильина дня). Особое место (у русских прежде всего, но не только у них) отводилось Масленице.
Вместе с тем достижение совершеннолетия и вообще вся добрачная жизнь молодёжи (совместное времяпрепровождение в ходе полевых работ, участие в общественных праздниках и увеселениях, специфические молодёжные формы досуга, многочисленные игры и хороводы, разыгрывающие ухаживания, сватовство, свадьбу) в основном происходили в рамках обособленных молодёжных коллективов («громад» и под.) и в этом смысле были автономны от календарной системы. Эти формы молодёжной жизни, которые современные исследователи называют «игрой» (или «игрой в свадьбу»), иначе говоря, вся добрачная жизнь молодёжи, занимали в традиционном сообществе огромное место. Будучи способом обучения детей и молодёжи межполовому общению, способом их социализации и существенной частью посвятительных церемоний, эти «игры» сопутствовали каждому человеку чуть не с самого его рождения и должны были завершиться (в случае успеха «обучения») свадьбой реальной».67
Эротический подтекст носят и другие игры молодёжи. «В ясные дни на сенокосе парни с девками устраивают всевозможные игры, причём парни не стесняются в своих приёмах и нередко, взявши девушку за ноги, становят её на голову, отчего тело обнажается до груди. Такая картина возбуждает только общий хохот среди всех присутствующих, даже стариков, при этом высказываются в неприличной форме вслух мнения о достоинствах той или другой девушки». 68
Помимо этого были распространены игры с поцелуями, к примеру ««к столбу ходить» – также игра, которая заключается в следующем: какому-нибудь молодцу приходит в голову поцеловать одну из девушек и поговорить с ней наедине; он идёт к столбу, подзывает к себе кого-нибудь из ближайших молодцев и говорит ему: «Пошли-ка вон ту, Анютку, к столбу на пару слов». Посланный молодец подходит к названной девушке и говорит ей: «Ступай к столбу на пару слов». Девушка спешит или нехотя идёт к столбу, разглядывая, какой молодец там стоит, и если он нравится ей, то весело подходит к нему, кланяется и спрашивает: «Зачем изволили звать?» или просто: «Зачем звал?» – «А вот поцалуешь, так скажу», – говорит молодец. Девушка целует его, молодец, не выпуская её из рук, перевертывается так, что девушка становится на его месте; молодец в свою очередь целует её, и если хочет, то шепчется с ней, а нет, так спрашивает: кого из молодцев послать к ней? Девушка или называет, или указывает, кого позвать, и молодец идёт за ним. Новый молодец подходит к девушке, поклонившись, целует, перевертывает её и становится на её место; тогда девушка, поцеловав его, отправляется за той девушкой, которую назвал играющий, и т. д.».69
В селе Край Белоозёрского уезда Новгородской губернии (сейчас Белоозёрский район Вологодской области) ««ходят совином»: парень выбирает себе девицу, берет её за руку и начинает водить вдоль избы взад и вперёд, а им в это время девицы поют короткую песню, но окончании которой парень с девицей три раза целуется в губы, сам садится на лавку. А девица выбирает себе молодца – [они] также прогуливаются, им поётся другая песня, целуются. 'Гак как приглашала парня девица, то она садится на прежнее место, а парень должен выбрать себе девицу. Эта игра продолжается до тех пор, пока не переходят попарно все или большинство. При игре можно заметить два явления. Первое: не все девицы соглашаются ходить совином. А второе: некоторых девиц во всю игру никто из парней не приглашает, и они чувствуют себя не совсем хорошо. Парни соблюдают вежливость: никто не откажется от приглашения девицы, хотя бы последняя ему и не нравилась.
Вторая игра «Соседями». Попарно рассаживаются по лавкам все молодцы и девицы. Одна из девиц берёт в руку палочку, подходит к первой паре, ударяет ею слегка по голове парня и спрашивает у него, люба ли соседка? Если парню девица нравится, то отвечает утвердительно и целует её три раза; если же не люба, то не целует её, а просит другую. Указанная им девица уходит от своего кавалера, садится к нему, а его прежняя соседка уходит к освободившемуся парню. Когда переберут всех парней, то начинают снова обход, но на этот раз спрашивают у девиц, люб ли сосед? Если девице парень любится, то она его целует, а если нет, то вызывает другого, и т. д. Те парочки, которые друг другу приятны, остаются без перемены, разве уж для приличия расстанутся между собой.
Аналогичен этой игре «вызов девицы или парня к столбу». Парень становится к косяку у дверей, к нему подходит девица и спрашивает тихо, кого ему нужно. Парень сказывает имя нужной девицы, желание его передается по назначению. Вызванная девица подходит к парню, и они троекратно целуются; парень уходит прочь, а девица остаётся у дверей. К ней подходит подруга и спрашивает, кого нужно. Та называет имя парня, к которому больше расположена. Последний вызывается и подходит к девице, и целует её. После этого девица уходит, а парень остаётся и вызывает другую. Так, пока не перебывают все или большинство».70
В селе Пажеревицы Псковской губернии «играют ещё в «соседи» так: каждый играющий садится к девушке если не на колени, то рядом, а одна пара подходит к каждым остальным и спрашивает: «Сосед, сосед, доволен ли ты своей соседкой?» Тот отвечает: «Я доволен, а спросите соседку!» Спрашивают и соседку, та тоже скажет, что довольна, тогда подошедшие и говорят: «Ну, так покажите же своё удовольствие!», те отвечают: «Мы не знаем как, покажите нам пример!»
Эти целуются, после чего целуются и те, которые сидят; после этого подходят к следующей паре и спрашивают то же самое, и если и эти довольны, то после показанного примера целуются, а то многие, для разнообразия игры говорят, что не довольны своим соседом или соседкой; тогда у недовольного спрашивают, кого он желает, он указывает, и тогда его уже соседка уходит к тому, чью вызвал первый.
Есть ещё игра, так называемая «в мост» и играется так: один выходит на средину избы и говорит: «Стою и мощу мост, мне нужен гвоздь, вот Машку» и та выходит, подаёт ему обе руки и становится против, и говорит тоже: «Стою мощу мост, мне нужен топор Ванька», выходит Ванька и становится с ней рядом, и вызывает себе кого хочет, когда все уже будут вызваны, то играющие подымают руки кверху, и пара за парой подходит под руки каждой пары и целуются, целуют также и тех, под чьи руки только что подошли. Все вышеописанные игры употребляются только на Рождестве, т. к. на эти праздники с чужих деревень ходит мало народу, и в избе сравнительно просторно.
Днём же, в зимние праздники, как, например, в Новый год, в Крещение, в последнее воскресенье масленой недели в Пажеревицах собирается масса катающихся. Приезжают за десятки вёрст, для того, чтобы покататься и щегольнуть своей лошадкой; катаются целый день, т. е. ездят взад и вперёд по селу, а у кого нет хорошей лошади, то приходят пешком посмотреть; девушки всегда в самых лучших своих одеждах, становятся в одну линию вдоль дороги; некоторым из них катающиеся предлагают проехать. Это делается только в тех случаях, когда парень, как у нас говорят «облюбил» девушку, т. к. в Новый год и в Крещение существует у нас с давнишних пор обычай выбирать невест, и вот молодёжь катается и смотрит на выстроившийся ряд девушек, как которая понравится, так той он и предлагает прокатиться, причём и знакомятся, т. е. спрашивает, как её зовут, с какой деревни и чья, а потом уже расспрашивает о семейном положении, сколько земли, сколько скота и т. п.». 71
«Насилия и унижения, которым подвергали девушек, были узаконены деревенским сообществом и, в конечном счёте, устраивали обе стороны, хотя современный исследователь воспринимает происходящее как дикие, жестокие действия, торжество физиологии и животного начала. Бесчинства и оргиастичность поведения были подчинены задачам посвятительного характера: девушек подвергали испытаниям, связанным с преодолением стыда; в такой эпатирующей форме их приобщали, по-видимому, к будущей сексуальной жизни». 72
Следует заметить, что не везде существовали игры и обряды для сближения молодых людей. К примеру, в Грязовецком уезде Вологодской губернии (Грязовецком районе Вологодской области) «во время специальных празднеств, игр, увеселений, преднаречённых для ознакомления и сближения молодых людей с девушками, никаких суеверий не практикуется».73 «То же самое отмечают в Тотемском уезде той же губернии (Тотемском районе Вологодской области): для сближения молодых людей с девушками никаких специальных игр, увеселений или празднеств не устраивается».74
Да и в целом, сближение могло происходить и без специальных игрищ и праздников. К примеру, «при косьбе, конечно, молодые люди находятся в таких костюмах и в таком виде, которым не может не залюбоваться самый строгий аскет или аскетка. Девушка, чтобы от работы очень не потеть, косит в одной рубашке почти с голыми грудями – лакомое блюдо для рук и глаз деревенских ребят, или в сарафане, подбираемом выше колен, чтобы не омочить от росы, всё это привлекает глаза парней. Во время «залоги» (отдыха) парни пользуются случаем для заигрывания с девками, шлёпая их по заднице и хватая за груди. Девка же, усталая от работы, не имеет, да отчасти и сама не желает обороняться от заигрываний и пойдёт дружба, кончающаяся со временем или браком, или развратом (свободной любовью)».75
А в селе Пирозеро Новгородской губернии (сейчас Ленинградской области) «свалить девушку на кровать, на лавку или на землю и тискать её сколько угодно – считается делом вполне приличным и служит одним из любимых способов ухаживания за девушками».76
Хочу обратить внимание, что такие вольные нравы были далеко не везде, например, в Санкт-Петербургской губернии (Ленинградской области) «оскорбить (поднять подол, схватить за грудь, выругать) какую бы то ни было девушку считается позором; хотя бы парень находился в связи с ней, ему не простят этого ни парни, ни девушки. Такого и на беседу не пустят, а в хмельной компании, того гляди, рёбра переломают. Родители, за очень редкими исключениями, на посещение беседы смотрят как на неизбежное зло. Матери стараются сблизиться с владельцем или владелицей избы, где происходит беседа, и узнать, как девушка ведёт себя, и кто особенно за ней ухаживает, чтобы вовремя принять необходимые меры».77
Так что практически во всех регионах России система игрищ на праздниках и беседках — это гораздо более утончённый формат сближения молодёжи, чем обычные примитивные приёмы заигрываний, употребляемые юными крестьянами. При этом система годовых игрищ на праздники — это не только возрастная инициация молодёжи, раскрытие сексуальности и приобщение к будущей семейной жизни, но и своеобразный спуск пара, некая языческая психологическая компенсация строгих моральных норм православия, так как «запрещая все мирские удовольствия, отрицая всякое свободное проявление чувства, проповедуя умерщвление плоти, восточный аскетизм с особенной силой вооружался против всего, что имело отношение к половой страсти. Человек, по его идеалу, может быть только в том случае вполне совершенным, если умертвит в себе половые инстинкты». 78
Нравы населения очень сильно зависели от региона, но, в целом, следует заметить, что свободное сексуальное общение молодёжи не допускалось даже во время наиболее разгульных праздников, где были возможны нарушения принятых норм поведения. В частности, в Калужской области: «среди местного населения редко встречается, чтобы девушка, заведомо потерявшая невинность, была кем-либо взята потом замуж.
Тех парней, которые под предлогом женитьбы, обольщали девушек и не сдерживали своего слова, народ осуждает, но не очень строго, считая виноватой и саму девушку. Никаких особых празднований, увеселений, игрищ, на которых бы открыто допускалось свободное половое общение, в данной местности не существует». 79
Беседки и вечерки
«Осенью и в первой половине зимы молодёжь собиралась на посиделках (посидках, беседах, вечеринах). Посиделки, как правило, начинались после уборки урожая. В одних областях – со дня Иоанна Богослова (26 сентября / 9 октября), в других – с Покрова (1/14 октября), со дня Козьмы и Демьяна
(1/14 ноября), с Введения (21 ноября / 4 декабря). Заканчивались посиделки к Святкам.
Посиделки устраивали обычно в каждой деревне. В больших деревнях их могло быть несколько: на каждом конце деревни проходила своя посиделка. Организаторами и хозяевами посиделок были девушки. Они снимали избу у одинокой женщины или по очереди приглашали к себе домой». 80
«Завершались посиделки к Рождеству. Последний вечер («последняя вечерина», «осталушка», «копыльный вечер», «целовник») осмыслялся как прощальный для молодёжной группы, сложившейся весной. После Святок она обычно распадалась, так как многие девушки и парни во время зимнего мясоеда могли вступить в брак и больше не появиться на посиделке. На последнем вечере девушки и парни устраивали совместное угощение. Девушки приносили пироги, булочки, шанежки, парни – чай, сахар, конфеты, пряники и другие лакомства. Хороводы, игры, пляски, песни продолжались до самого утра. Уходя с посиделки, девушки разбивали свои зеркальца или лампу в знак того, что посиделки закончились».81
«Вечерние собрания молодёжи в разных местах носят разные названия: вечерницы, вечереньки, посиделки, досветки, оденки, супрядки, улицы, беседки. Различие между вечерницами и улицами в Малороссии состоит в том, что первые бывают зимой в хате, вторые – летом на улице».82
«Беседа – это нечто вроде деревенского клуба: туда приходят сидеть не только девушки и женихи из своей и из других, соседних, деревень, но и подростки, и мужики, и бабы, которые приносят с собою даже и маленьких ребят, чтобы взглянуть, что делает и как веселится молодёжь. Каждой маменьке интересно посмотреть, как её сынок «ходит по полу» и часто ли её дочку ребята целуют по песням. В беседу ходят также и вдовы, – словом, вход туда никому не возбраняется, а в старинные годы крестьянские беседы посещались иногда и помещиками, что считалось за особую честь. Помещики иногда привозили в беседу вина и лакомств для девушек и молодиц, так что устраивалось настоящее веселье и гульбище. Теперь эти времена давно прошли: в беседе сидит только какая-нибудь местная торговка и дремлет над корзинкой с подсолнечными семечками и грошовыми конфетками».83
«Беседы, как в Чухломском, так и в Галичском у. (о других я не знаю) имеют огромное социальное значение: это своего рода брачные бюро, без помощи которых не устраивается ни один брак.
Летом вы можете сколько угодно достать девушек в работницы и вообще в услужение, зимой же, благодаря беседам с их развлечениями, вы не получите в услужение ни подростка, ни взрослой. Каждая из них, как бы бедна ни была, желает развлекаться с подругами или выискивать себе жениха
