Журнал «Парус» №67, 2018 г. бесплатное чтение
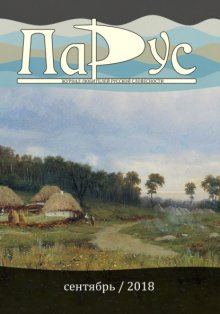
Цитата
Иван БУНИН
***
Ветер осенний в лесах подымается,
Шумно по чащам идёт,
Мёртвые листья срывает и весело
В бешеной пляске несёт.
Только замрёт, припадёт и послушает,
Снова взмахнёт, а за ним
Лес загудит, затрепещет – и сыплются
Листья дождём золотым.
Веет зимою, морозными вьюгами,
Тучи плывут в небесах…
Пусть же погибнет всё мёртвое, слабое
И возвратится во прах!
Зимние вьюги – предтечи весенние,
Зимние вьюги должны
Похоронить под снегами холодными
Мёртвых к приходу весны.
В тёмную осень земля укрывается
Жёлтой листвой, а под ней
Дремлет побегов и трав прозябание,
Сок животворных корней.
Жизнь зарождается в мраке таинственном.
Радость и гибель ея
Служат нетленному и неизменному —
Вечной красе Бытия!
1888-1895
Художественное слово: поэзия
Николай РОДИОНОВ. Ветру, солнцу и ливню
ИСКАЖЕНИЯ ВИДА
Почему-то вокруг вижу вовсе не то,
Что хотел бы и должен бы видеть,
Подгоняемый тщательно телекнутом
И не склонный при этом к обиде.
Торжествую, уставившись в телеэкран:
Жизнь в России кипит, жизнь прекрасна!
А вокруг, а во мне – на изъяне изъян,
Бледный вид мой бедой подпоясан.
Можно сколько угодно смотреть в небеса,
Наслаждаться божественной славой,
Но пока не почувствую всё это сам,
Буду слыть единицей отсталой.
Искажается мир в утомлённых глазах,
Мне действительность кажется мрачной
И сейчас, и при пристальном взгляде назад —
Всюду вижу не то, всё – иначе.
Наверху – праздник жизни, а возле меня
Вся насквозь пропылённая бедность.
Искажают наш мир и потоки вранья,
И широкая алчная бездна.
ПАМЯТЬ О РЫБАЛКЕ
Неужели когда-нибудь выйду из дома легко
И с улыбкой пройдусь по озёрному берегу так же,
Как ходил год назад в час, когда меня в детство влекло
Из обыденной жизни, тоски этой многоэтажной.
Берег озера, детство, сияние летнего дня.
Поплавок из обычной огромной бутылочной пробки,
И поэтому даже поклёвка почти не видна,
Но таскаю ершей и бросаю на дно старой лодки.
Съест Бобося – наш чёрный пушистый породистый кот,
Наигравшись с колючими прыткими злыми ершами.
Щуку трудно поймать на крючок, без блесны не берёт,
А к блесне нужен спиннинг. Мы проще задачку решали.
Мы с соседом на лодке с сачком и большой острогой
Заплывали в залив, там, среди островков камышовых,
Рыбу стуком пугали, она – носом в ил раз, другой,
Газ метался у лодки, а мы были к ловле готовы.
Каждый раз я, сачком глубоко зачерпнув этот газ,
Доставал из воды или окуня, или же щуку.
Сколько радости было в такие минуты у нас!
И спасибо соседу за лодку, сачок и науку.
Рыбный день обеспечен, уловом довольны вполне
Мама, брат и сестра, и, конечно, мурлыка Бобося.
А теперь вот больному из дома не выбраться мне.
Впрочем, что мне там делать, давно я рыбалку забросил.
***
Ефлатов позвонил.
Он предлагает книги:
Выбрасывает чья-то там вдова,
Как будто на её плечах висят вериги,
А книги муж буквально добывал.
Он был, сказали мне, начальником немалым,
Собранья сочинений собирал,
Которые потом в шкафу его дремали
И составляли зримый капитал.
И всякий, заходя в его апартаменты,
В то время, восклицая, утверждал:
Такого не встречал ещё ассортимента,
А главное – тут все тома вождя!
Ну разве понесёшь такое на помойку?!
Нетронутые корочки блестят,
Но если ей от них нет никакого толку,
Зачем же превращать квартиру в склад?
Вот если бы продать! Но кто их нынче купит?
Смартфоны и компьютеры у всех!
Надеется вдова: вокруг немало глупых,
Окончивших журфак или физтех.
ДЛЯ ЧЕГО ЭТО ВСЁ
Вечность мне не страшна, бесконечность меня не тревожит,
А тревожит наш мир, что всегда угрожает войной.
Для чего я живу, каждый день вылезая из кожи,
Для чего этот свет, звёзды эти горят надо мной?
Для чего это всё: дети, внуки, стихи и рассказы,
Если завтра война, если всё моментально сгорит?
Что сильнее? – соблазны иль всё ж человеческий разум?
Где же Бог и откуда Он смотрит? – снаружи или изнутри?
Наказанье моё это всё: и дела, и поступки,
Всё, что нынче имею, о чём размышляю всегда —
Сам в себе, и стихи, и рассказы, и дети, и внуки,
Потому что война от меня не оставит следа.
Потому что есть деньги и власть, неуёмная жажда
Всё присвоить себе, всех на свете себе подчинить,
Убирая строптивых, скупая повсюду продажных,
Надвигаясь на мир наподобие чёрной чумы.
Астероид летит – долететь до Земли не успеет,
И Земля долететь не успеет до Чёрной дыры —
Люди сами себя, этот мир уничтожат скорее
И не вспомнят, кто им и зачем этот мир подарил.
Хрупок мир, грозен мир, человеческий разум невнятен —
Невозможно понять, что нас ждёт впереди и зачем.
От всего мы зависим, не только от солнечных пятен
И безмозглых вождей, но и всех бытовых мелочей.
Утомителен мир, нам понять эту жизнь невозможно.
И поэтому с ней расставаться довольно легко
После долгих мытарств ради целей заведомо ложных,
На которые прошлое наше и нас, и детей обрекло.
НАДОЕЛО
Жить в духовном мире хорошо,
Если тело не терзают боли.
Я бы навсегда туда ушёл —
В мысленно-душевное раздолье.
Навсегда от боли в голове,
От несносной боли в пояснице,
Жил бы не внутри себя, а вне,
В тело не желая возвратиться.
Да и так уже я вне себя
Из-за тела дряхлого такого,
Я бы приравнял его к цепям,
Каторжным мучительным оковам.
Не пора ли сбросить их, отдать
Богу здесь измученную душу?
И забыть значенье горьких дат,
Неотступно вслед за мной идущих.
Надоело! Чувствую, устал
От всего, что раньше было мило.
Видимо, распятие Христа
И меня сегодня надломило.
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Появленье твоё, приближенье твоё – боль моя.
Пусть и сладкая, как говорят про неё, всё же боль.
Опускаю глаза, прячу взгляд, от тебя боль тая,
Оставаясь незримо для всех и тебя всё ж с тобой.
Ты прости эти чувства шальные мои, ты прости,
Что тайком от тебя постоянно мой преданный взгляд
За тобой, по тебе, потеряв осторожность и стыд,
Беспокойно скользит, разжигая во мне боль и глад.
Нет, не пошлый какой-то там глад – глад любви.
Той любви, о которой беспомощно только мечтал,
И которой меня облик ангельский твой отравил,
И которая в сердце впивается, будто металл.
Ты прости и не думай об этих стихах, обо мне.
Ну подумаешь, в сердце какая-то странная боль!
Ну подумаешь, с каждою встречей больней и больней!
Каждый так безответную чувствует в сердце любовь.
Может быть, может быть, спорить я не могу, не хочу.
Не до этого мне – ты навстречу и… мимо идёшь.
Сколько радости сразу во мне, сколько радужных чувств!
И не боль ощущаю сегодня, а мелкую дрожь.
Ах, какая ты стройная, плавная, чувственная.
В детстве-юности я вот такими богинь представлял.
Дрожь во мне – будто вместо апреля ворвался ноябрь
В окна библиотеки, в читальный мучительный зал.
***
Там, за сумраком звёзд,
На небесном краю
Новый отрок подрос,
Не привыкший к вранью.
Привыкать ни к чему
В свете звёздных лучей.
Можно всё зачеркнуть,
Ну а врать-то зачем?
Мы боимся всего,
Мы стесняемся всех.
Всё, что было со мной,
Говорят, тяжкий грех.
Говорю «говорят»
И о том говорю,
Что все звёзды сгорят
До единой к утру.
И сгорели они,
Как и мы, от стыда,
И пропали огни,
Что летели сюда.
И кто врать не привык,
Кто открыт нам и прост,
К нам, стыдливым, проник
И горит вместо звёзд.
И грешит от души,
И не прячется в тень.
А иначе, скажи,
Он зачем прилетел?
ЭТО ДОЛЯ МОЯ
Это доля моя – заточенье моё в поднебесье,
Где уже ни друзей, ни подруг, ни друзей, ни подруг больше нет.
Иногда прозвучит из далёкого прошлого песня,
Утомлённое сердце слегка всколыхнётся в ответ.
И опять тишина, и опять тусклый свет из окна – из-за тучи тяжёлой,
Как судьбина моя, и она тяжелей с каждым днём.
Ощущаю себя, как раздавленный шинами жёлудь —
Ни на что не пригодный, не смытый с дороги дождём.
Он когда-то в зелёной листве созревал, любовался
Окружающим миром, пусть даже не миром – мирком.
И под ветром качался хмельной и, кружась в ритме вальса,
Всё мечтал о любви, был с которой ещё незнаком.
Он мечтал быть свободным, стать деревом сильным и крепким,
Он мечтал… но понять, что же ждёт впереди, он не мог.
Рвался вдаль улететь, как тогда полагал он, из клетки,
Проводив солнце, снова с тоскою глядел на восток.
Дни по пальцам считал, но, как время прошло, не заметил,
Оторвался от ветки, упал на желанный асфальт…
И, раздавленный, в тусклом осеннем купается свете,
И его никому – желудей нынче много – не жаль.
***
Тёплых дней череда,
Солнце, ливни и грозы.
Ну а я – как чудак,
Как больной под наркозом.
Не стремлюсь этим всем
Пропитаться, как губка,
Прячусь в сумраке стен,
Зная, как это глупо.
Зная, что впереди
Ждут снега и морозы.
И по снегу – следы
Дробной азбукой Морзе.
Буду бредить опять
Провороненным летом.
Надо жить, а не спать,
Подниматься с рассветом!
И навстречу идти
Ветру, солнцу и ливню,
Быть с природой на «ты»,
Быть таким же наивным.
Верить в силу добра,
В силу правды Мазая,
В то, что с детства вобрал
В сердце, сказки читая.
Андрей ДМИТРИЕВ. По тропам приёмных отцов
***
Я маленький —
я не умею плавать,
читать, писать,
кататься на коньках
и на велосипеде,
компьютер для меня ещё загадка,
хотя надежды нет,
что лишь пока.
Я не умею
выбирать друзей,
летать подобно птицам,
верить людям,
так строить из песка,
чтоб на века,
иголку находить в стогу
без помощи магнита
и электронных чудо-агрегатов,
шить из крапивы
модные рубашки,
варить для ресторанов
суп из топора…
Я маленький —
мне не дано ещё
спасать миры
и строить бизнес-планы,
большую зашибать деньгу —
да и копейки не поднять ещё, пожалуй,
с тропинки пыльной,
не дано познать
судьбу вразрез,
стезю – в анфас и в профиль,
природу – даже незатейливых вещей,
как тёртую науку соответствий…
Я маленький —
и Гоголя шинель
так скроена по мне,
что сердцу тесно
и хочется стать серым воробьём
среди сплетений проводов
и чёрных веток.
Я не умею
быть на высоте —
смотреть оттуда правоверными очами,
в которых центр тяжести – прицел.
Я маленький —
я меньше муравья
на пальцах,
что срывают землянику
с зелёных стеблей.
Вырасту ль,
смогу ль
сравняться с кем-нибудь,
поднявшимся до роста
взирающего сверху человека?
Взросление души —
игра теней,
и в каждом случае —
попытка доказать
себе же самому,
что детство —
это робкий опыт
уже освоенного реализма,
но со двора зовут,
и снова ждёшь,
что на десерт получишь
дольку сказки…
***
Падали с неба
и падали в небо.
Ели землю в отсутствии хлеба.
Тянули зубами узлы своих грубых швов,
чтобы не разошлось
и не выдохлась жизнь,
а уж в руках озверевших – снова ножи.
Кровь поднимала знамёна,
пытаясь быть выше этого мора,
этого бесконечно ора,
этого чёрного коридора,
этого треснутого фарфора,
этого смертного приговора,
этого морока…
Наглотались огня —
пошло горлом,
но взнуздали коня
с диким норовом
в высоком бурьяне, над которым – вороны,
во все четыре клятые стороны —
так, что думалось, нет просвета
в месиве этом.
А всё ж – вверх ракета,
и на брюхе под проволокой
за шкирку волоком
самих же себя
за границу вечного сна
по острой кромке серпа.
Выдернули себя из лап —
хоть и был тот захват неслаб.
В тела ткань завернули нехитрый скарб —
и домой, а дома – вишнёвый сад
зацвёл, в это чудо стараясь поверить сам.
***
Все мы жили рядом с ней и не поняли,
что есть она тот самый праведник,
без которого, по пословице,
не стоит село. Ни город.
Ни вся земля наша…
Александр Солженицын
Матрёнин двор —
древесный ор.
Под обоями – мыши
серостью дышат
и обдают шуршащей волной
каждый дюйм между стеной
и слоем бумаги.
Фикусы, а не маки —
не те цветы, что цветут,
а те, что скрашивают уют.
Колченогая кошка —
будто хромое прошлое.
В сарае – коза,
а в уголке – образа…
Матрёнин двор
опоясывает забор.
Да позарится ль вор?
Пусты лари —
лишь моль там лови.
Прохудилась крыша —
теперь сквозь прорехи слышно,
как движется небо,
когда подгоняют требы
и порывистый ветер.
Небо стоном скрипучих петель
провожает калитка,
небрежно прикрытая.
Здесь – сама простота,
хоть и с ней не дожить до ста.
Надломлен хребет
от ноши да бед.
Натружены руки,
но не качать на них внуков.
Под подкладку пальто на похороны
зашит скопленный ворох.
А помрёт – так растащат по доскам
весь этот бабий остров,
и останутся только в выси морозной
дрожащие звёзды…
Поезд прошёл переезд —
перепутье оглохших мест.
Вот здесь бы поставить крест.
***
В колонном зале —
колонны с глазами,
а здесь – пыль да туман —
фантомы ума,
тени сердца.
Шкаф с треснувшей дверцей
поскрипывает о былом,
за дверцей – Брюсов и Блок
в растрёпанных переплётах,
сувениры из мест в трёх часах лёта,
фотокарточки бабушек-дедушек,
открытки, бережно
перетянутые тесьмой
и чьё-то на восемь страничек письмо…
В колонном зале —
колонны кожаных комиссаров,
а здесь – люпин да полынь —
сквозь которые летом плыть.
Видишь берег —
тут всем по вере.
Веришь в парус —
выйдешь на палубу,
веришь в космос —
откроешь далёкие звёзды,
веришь в любовь —
уткнёшься в окошко лбом,
почувствуешь холод стекла,
но за стеклом поймаешь: стрела
с ангельским оперением
пущена сквозь извечные тернии…
В колонном зале —
колонисты с остриженными волосами,
а здесь – птичка на ветке
поёт о том, что так редко
случается счастье,
а отстрел пернатых – напротив, часто.
Пройдёшься по тихому парку —
собака несёт хозяину палку,
чтобы снова метнуться за ней,
звоном сыплется смех детей
через сито кустов,
деревья, которым лет сто,
предстают великанами,
но им не выбраться из капкана
грешной земли,
влюблённые считают шаги до новой зимы,
разбившись на пары —
глядь, а ты уже вышел из парка…
Рычит грузовик,
ведь его визави —
светофор
зелёным басом буркнул «мотор!».
Двинулась автотрасса
из металла и лёгкой пластмассы
в сторону завтра,
которому тесно в пространствах колонного зала.
***
Станешь чернозёмом,
из которого лучи пшеницы
возвратятся к солнцу
сквозь бездонное небо,
или обычным суглинком
с робким светом осоки,
пробивающимся изнутри
тихого грунта…
А пока – камень среди камней
в погремушке города.
Потрясает ею малыш,
а выходит только невнятный шум,
но это так весело,
когда ты всего лишь бойкий шалун,
ничего не знающий о тонкостях мира
и не думающий взрослеть…
Все эти мысли —
ворохом по карманам.
Рук в них, увы, не согреть,
но мнишь будто что-то несёшь.
Станешь, не станешь —
тоже мне прятки
в дедушкином чулане…
Пробовать горлом воздух —
тот, что здесь и сейчас,
радоваться возможности
прикидывать расстояние
до конечной точки маршрута,
считая, мол, это дело на целую жизнь —
дескать, вот и билет на проезд…
Чернозём – распахан,
суглинок – разрыт,
город – разбужен.
Здравствуй, малыш —
в эту игру
можно было б играть вечно,
если б не тонкости мира…
***
М.б., ты и рисуешь что-то серьёзное, но не сейчас, увы.
Решётка и за нею – львы.
Алексей Парщиков
Железо —
крест-накрест – железо.
Детский взор боится порезов,
но за прутьями резво
рвёт ткани хищник —
с виду нездешний, лишний
в фауне местной неброской,
а всё ж – кошка.
Мышцы и сухожилия…
Без экзотики жили мы,
серые робы шили,
но взглянули бы шире —
увидели, как жертвенная антилопа
пересекает прыжком Европу,
находит резонным
пыль поднять в какой-нибудь Аризоне,
исчезает в сплетениях Азии
и в африканском многообразии
форм и цветов —
по тропам приёмных отцов.
Это пища ума и сердца
завела однажды в Освенцим,
но и колымским лагерным заусенцам
не притупиться в данной сентенции…
Кузьмич —
сторож зверинца,
как разбуженный сыч —
сторожевая птица —
чернеет в крике «угу-угу»,
и папироска, переваливаясь через губу,
догорает – словно фитиль,
но и без бомбы всё это пора в утиль —
если б не дивные звери в углу…
Решётка,
за нею – львы.
Мы верим потусторонним шорохам,
смотрим на солнце сквозь льды,
и, выхватив главное – свет —
говорим о какой-то любви,
чей нервный когтистый след
тянется уйму лет —
настоянный на крови…
***
Здравствуй, мама!
Жизнь – как телеграмма:
зпт, зпт, тчк.
Посмотришь в окно с утречка —
хрустит бумага в пальцах жухлых,
тянутся чёрные строки, но – ух как! —
хочется между строк
прочесть и иной итог —
увидеть обычное чудо —
не то, что в треугольнике прячут Бермуды,
не то, что срежиссировал фокусник,
и даже не ворованный воздух,
втянутый бронхами особого свойства,
а просто —
блистательный мир,
где среди всех его язв и дыр
есть вечно открытая дверца
для живущего нараспашку сердца…
Здравствуй, мама!
Сколько ни мыла ты раму —
льнут к ней пыль да зола,
и разводы на стёклах, знать,
останутся признаком несовершенства.
Впрочем, солнце по кругу шествует —
работает механизм —
несмотря на лязг, а порою на визг —
даёт нам силы свои центробежные.
Солнце – хлеб, испекли – не режьте его,
при этом не обнеся никого
за общим столом и молоко
подливая в белые кружки.
Вроде теплей. Помню: вчера была стужа —
сегодня вон как
буйна листва, и пичуга щебечет звонко…
Здравствуй, мама!
Да, я всегда был упрямым —
у меня и волос такой —
не пригладишь рукой…
Но повод упрямства – любовь,
любовь к тому, что до треска лбов
старается стать осмысленным,
любовь к цветению против шерсти – с риском
осыпаться в пух и прах,
любовь к пространствам, в которых – ах! —
можно кануть и выплыть
зеркальным карпом, а это уже есть выбор.
Любовь, любовь, любовь…
Мама, хочется обратиться вновь —
услышать твой голос,
почувствовать крови зов,
пока это счастье не раскололось,
переместившись в сон…
***
Добывать бы молибден,
молить бы весь день
и ночь на плите
бетонной – не под оливой, а где
шуршит полиэтилен
и явственна полутень,
мол, не быть бы беде.
Может, долетали б молитвы те —
да только мало детей
от чувственных матерей
в подкожной глухой темноте…
Размалывать бы зерно
в муку – хоть и долог зевок
пекаря, в узелок
завязавшего подспудное зло,
а добро обменявшего на серебро.
Везти бы в город через село,
пусть по-прежнему ставит бес на «зеро»,
вращая спущенное колесо —
но к осени по нам же звенел колосок.
Считать бы птиц,
сбиваясь на тысяче без таблиц
и калькулятора, что быстр
в товарно-денежной публицистике,
впрочем – смысл
учёта такого рода – не только лист
с арифметикой, но и мыслительный твист,
подхваченный из-за кулис.
Считаешь птиц —
измеряешь ими объёмы призм…
Гнуть бы гвозди,
гнуть линию жизни, хватая воздух
ртом, виноградные гроздья
обкрадывавший так просто —
как целуют украдкой – в момент оскароносной
картины, гладя девичьи волосы
на заднем ряду и косо
смотря на соседей, что будто бы птицы просо
клюют попкорн, пока на экране – звёзды…
Идти бы во ржи,
дивясь, что следы свежи,
угадав себя, словно шифр,
по агентурным сведениям, оставаясь большим,
а по памяти детства – маленьким, но живым.
Александр ДИВЕЕВ. Звёздные колокольчики
ЗВЕЗДА АНТАРЕС
Когда, случалось, тело и душа
По жизни неприкаянно скитались —
Из бездны тишины, чуть-чуть дрожа,
Смотрела на меня звезда Антарес.
И ощущалось с юных лет душой,
Звезды холодным светом опалённой,
Что я рождён под странною звездой
Далёкого созвездья Скорпиона.
Давно покинул звёздный я порог…
Случалось, шёл по жизни, спотыкаясь.
А было – брёл и вовсе без дорог,
Любя-страдая, ненавидя-каясь!
Не упрекну Антарес никогда.
И, глядя ввысь, шепчу я в час бессонный:
«Благодарю, заветная звезда,
За доброту и нрав твой непреклонный».
Когда в последний раз я упаду,
Уставясь в синий купол небосклона,
В моих глазах увидите звезду
Далёкого созвездья Скорпиона.
И, разрезая темь и синеву,
На блеск светил сапфировых не зарясь,
Я в мареве межзвёздном уплыву
К звезде с прекрасным именем Антарес…
НА РОДИНЕ
Туманы белы над тихой Русью.
Где жизнь кипела, там – захолустье.
Без песен поле, печален аист.
Избушек боле, чем их хозяев.
И, отовсюду прошит ветрами,
Грустит над прудом мой домик мамин.
Никем не встречен – все на погосте.
А я, сердечный, опять к ним в гости.
И не «палёной» в стакан налью я —
Брал по талонам, сберёг родную.
И пью за маму, за друга Женьку
И жизни драму – за деревеньку.
И – «…хали-гали…», «лечу к голубке» —
То ль к дому Вали, а может, Любки?
Поэт, заблудший в прогорклой жизни,
Иль лет минувших усталый призрак?
А кто-то рядом с косой знакомой.
«Эй! Как тебя там? Меня б до дому…»
СТАРЫЙ ДОМ
Всё тебе непривычно кругом.
Осмотрись. Улыбнись. Не спеши.
Ты вошла осторожно в мой дом,
Старый дом одинокой души.
Ставни окон, как веки, открой.
Здесь не смерть – летаргический сон.
Здесь давно не живёт домовой,
Как и я – всё скитается он.
Серых дум облака разгони.
Ты поплачешь потом, а пока
Паутину повсюду смахни
Бедным веником из полынка.
Окна тёплой водою умой.
Приберись. Отдохни. И, как знать,
Может быть, не случайно в трюмо
Голубую увидишь тетрадь.
И на росной забытой заре,
После светлых бессонных часов,
Как в Дивеевском монастыре,
Окунись в мой источник стихов.
Ранним утром, халатик надев,
Ты сойди потихоньку с крыльца
И послушай щемящий напев,
Развесёлого раньше, скворца.
Этой грустью прошита вся Русь.
Не пугай ты его, не тревожь, —
Я сюда никогда не вернусь,
Да и ты – погостишь и уйдёшь…
ЗВЁЗДНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ
Если думы и грусть снова бренный покой мой нарушат,
Стану слушать в ночи, позабыв про усталость и сон,
Как в небесной тиши колокольчики звёздные – души —
Разливают окрест свой хрустальный таинственный звон.
Он струится с небес, звон нисходит от звёзд синеоких.
А его волшебства… ну, не много ли мне одному?!
И в колени свои я в раздумьях уткнусь, одинокий:
«Что случилось со мной? Почему ж я один? Почему?»
А в ответ огоньки тихо гаснут в полночных окошках
И сизифова грусть снова мается с камнем в груди…
Неужель заросли муравой к Вечной Жизни дорожки,
Поезд жизни земной всё стоит на запасном пути?
Я невольно очнусь. Тишина – как на старом погосте.
Вот и время пришло закрывать Храм в предутренний час…
Может быть, звон пришёл к нам в печали из Вечности в гости,
А возможно, звонят колокольчики просто по нас.
Станут звёзды вокруг потихонечку блёкнуть и падать.
Колокольчиков звон… Он Божественной лире сродни…
Переполнит к утру души звёздные светлая радость:
Как же! – вспомнили их, если в окнах проснулись огни…
ТРЕВОЖИТСЯ СЕРДЦЕ
Я блуждаю в тоске, как в лесу,
Ни тропинок не видно, ни неба.
Держат ветви, как зонтик, листву…
Я в дремучем таком ещё не был.
И тревожится сердце слегка:
Вдруг в лесу набреду на избушку,
На крыльцо выйдет дочь лесника,
Да проводит меня до опушки.
И забуду тебя я…
ЗВЁЗДНЫЙ БУКЕТ
Это имя добром поминал я всегда
В день веселья и в грустный свой час…
Нашей встречи с тобой полыхнула звезда, —
Вот и вспомнил, Радетель, о нас!
В тихий вечер у звёзд голубых на виду
Растревожат покой соловьи…
Я тебе подарил бы, как прежде, звезду,
Только звёзды теперь не мои.
И с тобою такой я почти не знаком.
Вновь взволнуешь? Наверно, уж нет.
А ромашки тебе я нарвал с полынком —
Это, видно, мой звёздный букет.
Он к твоей прикасается робко груди,
Как и я прижимался не раз.
Не грусти: будем вместе на Вечном Пути,
Только Жизнь эта станет без нас.
Скоро снова зажжётся разлуки заря —
Растворяются звёзды, как дым.
И, за позднюю встречу друг друга коря,
«Слава Богу!» – Ему говорим.
В тихий вечер у звёзд голубых на виду
Растревожат покой соловьи…
Я тебе подарил бы, как прежде, звезду,
Только звёзды теперь не мои.
ХРУСТАЛЬНЫЙ АВГУСТ
Не ругай меня, что снова я пою о звёздах синих, —
Без меня им, может, грустно в бесконечных небесах.
Время катится беспечно, но зачем-то я и ныне
Имена их повторяю наяву и в лучших снах:
«Вега, жёлтая Капелла, белый Сириус, Антарес,
Как рябина – Бетельгейзе и Полярная звезда…»
За плечами годы шепчут: «Отлюбилось, отмечталось…»
Звёзды ясные мигают: «Утечёт всё, как вода…»
Ты прости меня, что реже о тебе я вспоминаю —
Прежних чувств не растревожат ни жалейка, ни свирель…
А вокруг хрустальный август, и, в безмолвии сгорая,
Рыжей осени в угоду льётся звёздная капель.
Если чёрной лунной ночью затрепещется сердечко,
Сон увидишь ты прекрасный – не смотри его, проснись,
Выйди из дому тихонько, прислонись к берёзе-свечке
И на звёзды голубые, улыбнувшись, помолись.
В срок печальный кану в вечность, в бренной жизни намытарясь,
Веря в то, что надо мною будут ластиться всегда
Вега, жёлтая Капелла, белый Сириус, Антарес,
Как рябина – Бетельгейзе и Полярная звезда…
ХРАМ ОСЕНИ
В светлый Храм – таинственную Осень —
Я вхожу в берёзовом бреду.
Падают, качаясь, листья оземь,
В изумленье я по ним иду.
На щеках дождинки или слёзы,
И душа смятением полна.
Робко обнажаются берёзы,
Оглушает сердце тишина.
Золотятся солнышком немножко
Призрачного Храма купола…
Как нежна берёзка у окошка!
На погосте – как она светла!
Дальних голосов беспечный лепет,
Паутинок в просини полёт.
Бугорок с берёзкой, словно лебедь,
В вечность синеокую плывёт…
Художественное слово: проза
Тамара ПИРОГОВА. Сорок тыщ
Рассказ
Лежать стало неудобно. Она с трудом вытянула ногу, здоровой рукой ухватилась за другую, высохшую и неподвижную, перевалилась на спину. Вздохнула раз, другой, чувствуя, как расправляются легкие.
Снова замерла. И мысли опять запрыгали – надоевшие, тоскливые, неугомонные, всё одни и те же.
Ох, смертушка моя, где ж ты ходишь?.. И откуда свалилось на меня это лихо, болесть распостылая? Ничего-то раньше не боялась я, никаких болячек не бывало. Других баб завидки брали – вон какая проворная да веселая. Сглазили, видать. А Витюшка тычет: это за грехи тебя так, за грехи. Ну, грешна… да все ведь под Богом ходим… Вроде дверь хлопнула? Обед, видать, уже. Насилу дождешься, пока накормят. Шаги-то тяжелые – видать, Витюшка. Все ж таки не бросает матку, прибегает. Так-то бы снохе надо приходить, да с работы ей далеко. Сын – он и есть сын. Ох, завалялась я, свету на посмешище. А есть, однако, аппетит-то. Словно год не ела – и куда всё проваливается? Вон, идет…
Ну, мамашка, давай будем обедать. Любишь щи-то? Знаю, любишь. Голову держи повыше. Повыше, говорю. Никак не подвинуться? А что ж ты массаж-то не делаешь? Ленишься? У нас, понимаешь, нянек нет. Мамка, да у тебя простынь-то… Ну, ладно, ладно. Ты приподнимайся давай. Выше, выше! Чистую? Ну, погоди, я же на обеде, ты ешь давай. Ложку-то бери, бери. Что, вкусно? Да, вот что, мамаша. Помнишь, мы с тобой про деньги говорили? Про твои, про твои. Всё ты помнишь, не притворяйся! Цельную неделю уже долблю. Так ты надумала аль нет? Ну, смотри, смотри. Помрешь вот завтра… Да ты живи, живи, бог с тобой!.. Помрешь вот завтра – а тебя и похоронить как следует не на что. Не имеем сбережений-то! А вот переведешь эти свои несчастные сорок тыщ на меня – и похороним в лучшем духе. Всю родню соберем, пусть поминают. Расходов-то больше, чем на свадьбу. Да ты не думай, тыщи три я брательнику отстегну. Или даже пять. А что, пять тыщ – деньги по нынешним временам. Хоронить-то – не ему, а мне, как ни крути. Да он и не сообразит, как и что, а уж я спроворю. Наелась? Сырник вот еще бери, чай пей. Но ты, мама, решайся! Завтра же вызову нотариуса – и всех дел-то. Во! Кто у тебя самый умный-то всегда был? Проныра-шныра, так и звала в детстве. Но ты, мамаша, смотри все-таки. Я знаю, ты Мишке хочешь всё отдать. А он, уж это к ворожее не ходи, пропьет всё! Что, сама не знаешь? Знаешь ты всё. В общем, смотри. Я нотариуса с утра приведу, как хошь. Ну, побежал я. Ничего больше не надо тебе? Ладно, простыню потом. Побежал я, до скорого!
Побежал… Как они на деньги-то зарятся, Господи… А велики ли деньги? По рублику копила всю жись. Вот, хоронить-то торопятся, а мне не умирается никак. Кто ж знал, что так всё повернется. Конечно, тяжело им за неходячей убирать. Но что ему похороны-то эти дались, вот пристал. Не иначе, дачу достраивать хочет, вот денежки и нужны. Проныра-шныра… Нет, не переведу на него сберкнижку! Уж лучше Мишуне всё завещаю, Михаилу моему Константинычу. Ему нужней, он алименты платит, а там, глядишь, и жениться соберется. Да, так и сделаю. И попрошу Мишуню, пусть к себе меня возьмет. Он маткой не побрезгает, возьмет. Еды хватит. И много ли мне, старухе, надо? Глядишь, и пить станет меньше, настропалю его. Песни петь вместе станем. Ох, голосина-то у него! С детства такой. Как затянем вместе: «Малиновки заслышав голосок, припомню я забытые свиданья…» Одна радость осталась – песен попеть. А где тут попоёшь? То Сережка уроки учит, то голова у снохи болит. А Витюшке ежли что не по нраву, так и выговаривать начнет. Вот и лежи молчком, как труп какой…
Всё лежи да лежи…Ой, да времени-то скоко уже? Светло еще совсем. Поспала я, видно. То ли приснилось, то ли придумалось… плясала, словно бы… Помоложе-то была, уж как плясала, загляденье. На свадьбе на чьей-нибудь, или родня просто соберется… Как встанешь, да как пойдешь по кругу! А в девках-то, бывало, еще в деревне – как пойду в кадрили али в вальсе – все парни-то так и замрут. Коса была длинная у меня, черная. И глаза черные. У девок ревность пойдет, а мне что? Мне до себя. Был один парень, Ваня Гвоздев… Чу, опять дверь хлопнула… идет ктой-то…
Мишанька! Милой ты мой, как чуяла я! А попал-то как? Ключ у тебя свой, вон что… Да всё ничего, чисто, сыто. Вот токо скушно мне, душа не угомонится никак, так и тянет ее… Хоть бы смерть пришла за мной, да всё никак не идет. Мишаня! К себе меня не возьмешь? Ты ведь самый мой дорогой сынок, в меня ты весь, вон глаза-ти черные сверкают. Мишаня, я песен перед смертью попеть хочу! Вот с тобой и попою. Возьми меня, за ради Христа! И деньги все тебе отдам!..
Мама, что ж ты раньше молчала, уж давно бы тебя забрал. У меня вольготно – хоть пой, хоть пляши. Выпьем по стопарику – на душе станет легче легкого, куда и все проблемы подеваются. Да не пьяный я, мама, не пьяный. Ну, пропустил стопарик, есть маленько. Ведь всё думается, как ты тут да что. Витюху-то я знаю – ему как чего не понравится, так он и драться лезет. Сколько раз я от него по морде получал! Сама знаешь, злобился он на меня всегда, с самого детства. А давай, мама, я тебя прямо сегодня и увезу к себе? Вот и ладно. Ну, договорились, значит! Побегу тогда домой, прибраться надо. А для тебя такси закажу. Ну, побежал…
Слава те, Господи, вот всё и решилося. И что ж это у меня сегодня Ванька-то Гвоздев из головы не идет? Так и стоит в глазах. Жениться ведь хотел на мне. И парень видный. Токо вот как сведала, что у него робеночек на стороне, так сразу – никаких разговоров. От ворот поворот. Вот те и Ванька Гвоздев… А Костя – другой совсем был, сурьезной. Костя-Константин, любовь моя горькая, любовь на всю жись. Охо-хо… как оно всё получается в жисти – вроде просто, а выходит непросто. Рассказать кому, дак целый роман выдет. Уехала в город, пошла на завод, на квартере жила. Ох, с непривычки тяжко было. Да что я была – деревня! А тут Костя-Константин, в этом же доме… Как с работы приду, ни на шаг от меня! Ну, и завертелося. А потом война нас развела, да. Было дело…
Ой, тяжко мне, тяжко…Смертушка моя, где ж ты ходишь?.. Никак меня Господь не прибирает к себе. Видать, не время, не срок. На всё его воля, а не наша. Вот и в войну так случилося. Костя без вести пропал, я в вакуации. И привязался ко мне этот Колька… гляди-ко, вспомнила его опять! Ой, лучше бы и не вспоминать… Было дело, уступила. Жила трудно, есть было нечего, ну – уступила. Да какое уступила – замуж вышла, сына ему родила…
Ох, чего-то в груди опять хлюпает… придет ли сегодня Мишаня-то за мной? Нет, греха на душу не возьму – Колька меня не обижал, ласковый был. Жили и жили. Но как написали мне, что Костю из плена выпустили – так душа-то к нему и рванулась! Хошь ты меня тут режь на куски – не могла ничего с собой сделать. Бери, говорю, с сыном, жить без тебя не могу, снился ты мне каждую ноченьку! Простил, принял, сына на ноги ставили вместе. А с Колькой после того какая-то болесть приключилась, да вскоре и помер. Вот судьба-то… А ныне Витюшка меня всё батькой и попрекает! А любовь – грех разве? Да грех, видать, коли от мужа живого ушла… ладно, посплю еще… Что ты будешь делать, опять дверь хлопает!.. кому бы? Ой, опять Витюшка…
Ну, мамка, решил я все-таки наше дело поскорей спроворить. Нотариус прямо сейчас придет. Завтра некогда мне, а сегодня уж больно всем удобно. Да и чего тянуть-то? Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Сама ведь так меня учила, помнишь? С работы я отпросился, сходил в нотариальную контору, всё узнал, что и как. С минуты на минуту придет нотариус! Ты ведь поняла всё? Надо только сказать «согласна» и подпись поставить. Нет другого выхода. Мама, договорились? Я ведь тебя не обижаю, сама видишь. Коляску тебе закажу, будешь кататься по всей квартире, телевизор смотреть, а хочешь, так в окно себе смотри. Давай-ка я простыню-то тебе поменяю…ой, да вот и звонок! Это нотариус! Смотри, мама, без лишних разговоров!..
Ну, и чего ты теперь ревешь-то, а? Чего ревешь-то? Опозорила ведь меня. Как есть опозорила. Чего ты в рассуждения-то пустилась? Какое нотариусу дело до твоих бредней? Он ведь за тобой не убирает, нотариус-то! Ему подпись надо, а не болтовню твою слушать! О какой ты даче молола? Да хоть бы и дача – тебе-то ведь все равно ничего уж не надо! А мне вот надо! Хоронить тебя надо – чтобы перед твоими старухами не опозориться. Все ведь приползут, потом разговоров не оберёшься, если что не так.
Да ты не голоси, не голоси! Как это из тебя вылезло-то: «сын обокрал»? Вот всю жизнь ты на мне зло срывала – что от нелюбимого я родился и что похож на него. Да всё я знал, всё!.. И вот, как видишь, держу тебя у себя дома, честь по чести. Хожу за тобой!..
Хорошо, нотариус – умный человек, набрался терпения, выслушал твои бредни. Да и ты всё ж таки сообразила под конец, что к чему, поставила свою закорючку. Что, о деньгах своих ревешь? Лучше бы об отце моем плакала! Глядишь, и полегчало бы…
Мишка, ты чего заявился в кои веки? Забрать мамашу к себе хочешь? Во дает! Ты это серьезно? Да бери, бери ты ее, а то теперь нытья не оберешься. Что, и такси уже у подъезда? Во дает брательник! Да езжайте, скатертью дорога! Я ее сам до машины донесу!..
Судовой журнал «Паруса»
Николай СМИРНОВ. Судовой журнал «Паруса». Запись вторая. «Ах, как страшно!»
Предисловие Ирины Калус
Приветствуем Вас, дорогой читатель!
Вот и настала пора раскрыть кое-какие секреты, касающиеся появления нашего судового журнала. Первая публикация вышла в прошлом номере «Паруса» после того, как в трюме мы нашли фрагмент пожелтевшей тетради с записью, сделанной странными чернилами неизвестного состава. Несмотря на свой возраст, текст сохранился очень хорошо, и мы легко смогли его разобрать, а также – установить имя автора.
Теперь, когда найдена вся тетрадь, с уверенностью сообщаем: записи из судового журнала будут регулярно появляться на наших страницах, чтобы каждый мог познакомиться с тем чудесным миром, который открывается при чтении рукописи. Это поистине волшебная находка!
Мириады брызг всеохватного искрящегося мира, солнечные блики на зеленовато-синих волнах смысла, сотканных из праматерии представления о себе, линия горизонта, уходящая в художественную бесконечность слияния моря и неба, тяжёлая темнота проглядывающей сквозь седую волну чарующей глубины и пронзающие её нити света – вот что обнаружили мы в этих бортовых записях!
И теперь уже вместе с Вами, дорогой читатель, мы продолжаем листать найденный журнал – пожелтевшие листы с ровными строчками открывают нам повествования о были и небыли, размытый ветрами памяти опыт прошлого, остановившиеся мгновения-слепки минувших и грядущих событий, изящные траектории полёта мысли – да много ещё чудесного таят в себе летописи кораблей…
Но потом обнаружилось и то, чего мы не заметили сразу. Тетрадь оказалась абсолютно живой – как будто едва уловимо дышала, овевая лицо нездешними потоками эфира. А записи в ней продолжали пополняться. Неужели автор здесь, с нами на корабле? Неужели, крепко сжав в руке остро отточенное гусиное перо, он ходит где-то среди нас, время от времени посылая проницательный взгляд не то на наши лица, не то в синюю морскую даль? Тончайшие извивы текучей души – как рисунок на воде, продолжающий своё бестелесное существование во времени – до сей поры не останавливают сердечной пульсации, проступающей сквозь переплетения чернильных знаков. И мы поняли, что тетрадь эта – не простая и хранятся в ней не просто записи из минувших времён, а и – мосты в нашу жизнь, захватывающие её до самого края и причудливо заплетающие разные времена и события, голоса и отголоски, начинающие аукаться, как только откроешь кожаную обложку. Как мы не нашли её раньше? И чей это силуэт на корме?
А может быть, судовой журнал и его автор сами нашли нас и теперь, наряду с рукописным текстом, чередой зашифрованных длинных и коротких сигналов передают именно Вам, читатель, ещё никому не известное послание?
Итак, начнём движение к разгадке?
Ирина КАЛУС
Учась в Литинституте, я редко ходил в кино – не до того было, хоть и Москва. А «Вия» все же решил посмотреть… «Не ходи, – сказала мне Нина, вологодская девушка с простодушными синими глазами. – Не дадут посмотреть! Как только ведьма встаёт из гроба – подростки в зале начинают хулиганить: кричат, смеются»…
Так оно и вышло: невидимые в темноте ребята в первых рядах нарочито громко хахалились: «Ах! Ой, как страшно!»
А зачем? – выйдя, удрученно досадовал я на светлой улице. Если так наивна и забавна ведьма-панночка, чего и кричать, да и смотреть – не по одному разу?..
Призрачные, сказочные декорации – степи лазурная дымка, козаки-ряженые… Как хорошо бы было в тишине посмотреть – после общежитской комнаты! Во время экзаменов я почти не выходил из неё, так впрягался в книжное чтение. Только в гастроном – хлеба да триста граммов колбасы купить, пачку чаю да пачку «Примы»…
Гастроном – через улицу от общежития. Продавщица мясного отдела, явно презирающая мои бедные покупки – с заячьим белесым личиком – и заячьей же губой. Некрасивая, поэтому злая. Порой и пожалеешь её про себя… Я уже, купив колбасы, был у выхода – как вдруг двери отпахнулись навстречу… И в них… Ах! Сердце во мне замерло по-настоящему, дыхание остановилось. Крик судорожный едва не вырвался:
– Ведьма!..
Она, злобно блеснув на меня стеклянно острым взглядом, прошла мимо. Она была точно такая же, что в хлеву, протянув руки, ловя, шла на Хому Брута. Та, что после крика петухов хлопнулась в гроб – с мертвецким, широким, плоским лицом старуха, и с ожившими, точно из глубины ледяной смерти, глазами. Я и теперь не могу понять, откуда такое сходство страшное? И она – учуяла мой не вырвавшийся крик, мой ужас. Это еще в миг страха почувствовал я… Поэтому и отвернулась злобно, и прошла мимо, широкая, горбатая…
Одно дело хахалиться над киношной ведьмой, другое – встретить живьем её в московском гастрономе… И сердце чуть не остановилось, замерло – впервые понял я убойный смысл этого книжного, притершегося вроде слова… Приземистая, с квадратным, тяжелым лицом, и одета так же: на голове какая-то повязка. Она, та самая, из «Вия», моего любимого сочинения Николая Васильевича Гоголя…
Потом, как пришел уже в комнату и одумался, по новой страшно за себя стало. Ведь мог бы и приступ случиться…
Я рассказал об этой встрече Нине. Она поудивлялась, поулыбалась… А темно-синие подснежники вологодских глаз – не изменились: оставались со своим светом, говорящим о чем-то таком, что далеко-далеко отсюда… Но уточнила, что эту ведьму в «Вие» играет мужчина, старик… Да какое это имеет значение? – подумалось мне.
Я и сейчас вижу под низкой повязкой её щучьи глаза и щеки в крупных, к ушам, злых морщинах, и всю её выступку, как она выявилась горбато из распахнутых дверей. И как недобро пометила меня взглядом, догадываясь о моём смятении, о том, что я понял, кто она. (Ну, раз понял – посмотри, посмотри… студент!) Ведь говорила же Нина: не смотри!..
Уже много лет спустя в черновиках «Вия» нашел я описание видения философа Хомы Брута. Гоголь его в окончательном варианте сократил, подравнял, чтобы чересчур не выпирало:
…«Выше всех возвышалось странное существо в виде правильной пирамиды, покрытое слизью. В месте ног у него были внизу с одной стороны половина челюсти, с другой другая… На противоположном крылосе уселось белое, широкое, с какими-то отвисшими до полу белыми мешками вместо ног; вместо рук, ушей, глаз висели такие же белые мешки. Немного далее возвышалось какое-то черное, все покрытое чешуею, со множеством тонких рук, сложенных на груди, и вместо головы на верху у него была синяя человеческая рука. Огромный, величиной почти со слона таракан остановился у дверей и просунул свои усы. С вершины самого купола со стуком грянулось на середину церкви какое-то черное, все состоявшее из одних ног. Эти ноги бились по полу и выгибались, как будто чудовище желало подняться»…
И душа и тело рассыпалось на самостоятельно живущие куски… Может, и явление в гастрономе – какая-то черновая часть моей души, урвавшаяся от корня?..
Когда я рассказываю об этом кому-нибудь – улыбаются, как Нина. Да и я сам теперь улыбаюсь над ведьмой из гастронома. Как те ребята изрядного возраста, что смеялись и кричали понарошку в темном зале: «Ах, как нам страшно!..»
Литературный процесс
Евгений ЧЕКАНОВ. Горящий хворост (фрагменты)
***
Я засну в своем любимом кресле
И увижу сон про самых близких.
Я пойму, что все они воскресли –
От высоких и до самых низких.
Я всмотрюсь в изломы русских судеб,
В темный бред исчезнувших фамилий, –
И судить не буду. Бог рассудит
Всех, кого века не рассудили.
Сколько лет я копался в своей родословной, сколько имен, ситуаций, легенд хранится в моем домашнем архиве, чего только я не знаю о своих ближайших предках, о родовых ветвях! Неужели всё это канет в Лету?
Детям моим, так уж вышло, всё это не очень интересно; все мои ветки – для них просто сухой хворост. Я не в обиде: дай Бог им справиться со своим жребием, сплести из зеленых лозин свои собственные судьбы… что им до темного бреда жизни далеких пращуров! Рассказать о нашей фамильной истории могу только я, ее знаток и хранитель.
Но готов ли я рассказывать?
До сего времени Господь не попускал. Сколько раз я подступался к этой теме, и каждый раз бывал отброшен – то времени у меня не оказывалось, то сил. На самом-то деле, конечно, не было на это Божьего попущения. Только в недавние годы забрезжил в душе слабый огонек надежды: напишу, расскажу, воскрешу…
МАМА
Темноту моего бытия
Луч пронзает упрямо.
Это светит улыбка твоя,
Моя бедная мама.
Это свет твоей тихой любви,
Свет добра и печали.
Что-то шепчут мне губы твои
Из немыслимой дали.
Что-то хочет увидеть твой взгляд
За последним порогом…
Не прощай меня, я виноват
Пред тобой и пред Богом.
Сам себя я за это кляну
В темноте безутешной.
Я достоин за эту вину
Тьмы последней, кромешной.
Но горит у судьбы на краю
Взгляд любви и привета.
И пронзает пещеру мою
Луч прощального света.
Узники платоновской пещеры сидят к свету спиной и обречены видеть только тени на стене своей темницы. Мы, дети православной цивилизации, находимся в лучшем положении: наши лица обращены прямо к свету добра и любви, нужно лишь открыть глаза, чтобы увидеть его.
Я ищу этот свет в своей родословной – и без труда нахожу: большинство моих пращуров по материнской линии были монастырскими крестьянами. Они рубили свои избы близ моложского Афанасьевского монастыря, лежащего ныне на дне рукотворного Рыбинского моря, и с рождения до кончины жили в подмонастырской слободе, под сенью древней православной обители, вдыхая благодатный окрестный воздух, омывая душу чистым звоном храмовых колоколов.
Я вытаскиваю на свет из темных пластов времени виртуальную цепь своих предков и всматриваюсь в те звенья, которые могу увидеть:
– Нина Александровна, урожденная Ковалькова, моя мама (1931–2003);
– Александр Иванович Ковальков, мой дед по материнской линии (1891–1984);
– Иван Павлович Ковальков, мой прадед (приблизительно 1853–1916);
– Павел Аникич Ковальков, прапрадед (первая половина XIX века);
– Аника Аникич Аникин, прапрапрадед (рубеж XVIII–XIX веков);
– Аника, легендарный предок, самое дальнее из видимых мною звеньев в цепи, середина XVIII века.
Все – крестьяне, коренные русские люди. Трудолюбивые, богобоязненные, с детства впитывавшие православные начала и передававшие их своим детям, – не путем наставлений, а ежедневным своим поведением, подлинно христианским отношением к жизни. И совсем они не «разоряли дом, дрались, вешались», как орал в ХХ веке на всю Россию один бард с еврейской кровью, – а трудились, строили избы, рожали детей, воспитывали и учили их, читали книги, пели печальные и веселые русские песни, писали стихи… А когда нужно было, шли на войну, защищали Отечество.
Вот где берет начало этот свет, вот откуда бьет этот луч любви и привета. Это свет русского православного бытия!
ПОРТРЕТ ОТЦА
Зарос щетиною колючей,
По дому бродит, туча тучей,
И власти густо материт.
Да что там власти! Все неправы,
Поскольку старые суставы
Опять грызет полиартрит.
Дитя войны, дитя разрухи,
Дитя российской голодухи,
Он все-таки остался цел.
Поколесив по белу свету,
Купил под старость избу эту –
И вместе с нею заскрипел.
Встает – и вместо физзарядки
Клянет негодные порядки
И сельскую тупую знать.
Кряхтит, что если б был он молод…
А я ему: «Поедем в город!
Там легче думать и дышать!»
Молчит, мрачнеет почему-то,
Щетину трет – и рубит круто:
«Я с вашим городом знаком –
Там люди в кучах! За оградой!
Не дышат утренней прохладой!» –
И грозно машет кулаком.
Такой вот, несколько иронический портрет моего отца нарисовал я в самом конце 80-х годов прошлого века, за несколько лет до кончины Феликса Михайловича. Таким и был в свои шестьдесят лет мой папа – ворчун, ругатель, мечтатель, большой любитель Пушкина, сам пописывавший стихи. Именно так он и разговаривал в быту, постоянно вставляя в свою речь раскавыченные цитаты из произведений любимого поэта.
Эта наклонность возникла не на пустом месте: по линии отца многие в моем роду любили художественную литературу. Постоянно читал книги дед Михаил Андреевич, дружил с печатным словом прапрадед Яков Андреевич, выписывавший на дом журнал «Нива» и даже бывший одно время волостным писарем. А на эту должность брали тогда, в первой половине XIX века, далеко не каждого даже из владевших грамотой – ведь писаря практически вершили все дела в волостном правлении. Значит, прапрадед выделялся на общем фоне.
С незапамятных времен мои предки по отцовской линии жили в большой деревне Верхнее Березово, что стояла в нижнем течении Шексны, в 90 верстах от впадения ее в Волгу. Принадлежали они к разряду казенных крестьян, а по жизни были искусными плотниками и столярами, любившими в свободное время бродить по лесу с ружьишком и удить на реке рыбу. Без «Шохны-кормилицы» эти люди не представляли своего житья-бытья, знали ее, как свои пять пальцев. Прадед мой, Андрей Яковлевич, летом даже подрабатывал речным лоцманом, водил пароходы из Рыбинска в Белозерск и обратно.
Фамилия Чеканов (с ударением на «о») появилась в этом старинном крестьянском роду внезапно, по неясной причине, – а искони представители нашего рода носили фамилию Комлевы. Эта фамилия прослеживается по ревизским сказкам с 1850 года. Предположительно, моим прапрапрадедом по отцовской линии был крестьянин Андрей Иванович Комлев, родившийся около 1828 года. Семейная легенда гласит, что во время одной из переписей населения двое сыновей Андрея Ивановича, Яков и Василий, решили взять себе новые фамилии. Василий велел писарю записать его не Комлевым, а Пугачовым.
– А меня пиши – Чокановым! – добавил Яков.
Так вот и завелась в Верхнем Березове фамилия Чекановых. Но вправду ли это было именно так, мне еще предстоит раскопать в архивах…
***
В семьдесят первом году,
в полдень, в июле,
в знойном полубреду,
в шмелином гуле
лежал я, спиной к земле,
думал о счастье…
Вверху, в голубом тепле,
плыл ястреб.
Облако передо мной
перемещалось,
сзади плотик земной
плыл, качаясь.
Ветер ласковый дул,
помню,
в семьдесят первом году,
в июльский полдень…
Так порой выпадал я в юные годы из своего биографического времени, становясь единым целым с моей планетой, летящей в эти самые мгновения в черных космических глубинах. Земля мчалась, прижимая меня к себе, и ее время на мгновения становилось моим.
Но я был очень молод. И в этом своем раннем стихотворении увидел только то, что отражалось тогда в моих зрачках: голубое небо, белое облако, штрих парящего ястреба… Для того, чтобы установить на своих человеческих часах время Земли, нужно было повзрослеть.
Наверное, моя планета просто оберегала меня в ту пору от своего печального знания о мире. Ведь мать никогда не показывает ребенку ничего страшного, не рассказывает ему о своих бедах и тревогах. Потому-то, прижимаясь к ней, безмятежное дитя и грезит о счастье…
ОЧАРОВАННЫЙ
Шли бревна по реке… И сквозь туман
Бежал по ним кудрявый мальчуган.
Он резво прыгал со ствола на ствол –
И зыбкий след за ним по бревнам шел.
Далекий берег цвел и щебетал,
И мальчик очарованный бежал,
Не ведая ни страха, ни печали –
Его манили солнечные дали,
Зубчатый лес, зеленые кусты,
Просторный луг и пестрые цветы.
О, торопись!.. Не то заплачет мать.
Здесь главное – бежать, бежать, бежать,
Не задержаться на одном бревне…
Остановись – и канешь в глубине!
Одна из опасных забав моего детства – бег по шатким бревнам молевого лесосплава, крутящимся под ногой и уходящим в воду даже под невеликой тяжестью мальчишеского тела. Сегодня, когда я смотрю из полувековой дали на себя самого, бегущего по реке, даже сердце сжимается: ведь стоило бы мне тогда поскользнуться, и…
Но Господь милостив. Может быть, и сам этот опасный опыт был послан в мою биографию лишь для того, чтобы я однажды, в конце 70-х годов, написал стихотворение о вечном человеческом стремлении к чему-то чудесному и манящему, об извечном нашем движителе – очаровании…
Очарование, сколько раз в течение жизни я испытывал твою власть!.. особенно меня влекли к себе женщины. Я очаровывался взглядом женщины, лицом женщины, фигурой женщины… однажды даже был очарован умом и образованностью женщины. И лишь прожив десяток лет под одной крышей с доктором наук, понял простую истину, которую знает любой пастух в русской деревне: женщина – это только женщина, всего лишь женщина…
Были (и есть) и другие очарования в моей жизни. Я до сих пор способен очаровываться красотой природы, тайнами космоса, волшебством поэтического слова. Похоже на то, что мальчик, стремительно бегущий по опасным бревнам моего детства, никогда не умрет во мне, а будет вечно бежать к цветущему берегу своих фантазий.
***
Ночь. Река в золотых столбах.
Стынет город.
Шелестят стихи на моих губах.
Я так молод.
Я так молод. А вы – нежны
И печальны.
Только льдинки в глазах видны
Не случайно.
Не случайно. Иль вы в душе
Впрямь жестоки,
Иль вам кто-то читал уже
Эти строки…
Большой город, учеба в вузе, новые знакомства, влюбленности, свидания, ночные прогулки по набережной Волги, новые удачи и новые фиаско, побеги со скучных лекций, студенческие пирушки, разговоры обо всём на свете… Я ринулся во всё это с неистовым пылом юности, веря каждому новому человеку и каждому сказанному им слову. О, как больно саднили мои разочарования!
Довольно скоро я вбил себе в голову (во многом под влиянием идей Василия Шукшина, посмертная слава которого гремела тогда на всю страну), что в моих житейских неудачах виноват не кто иной, как сам город – город как духовный феномен, скрывающий за своими блистающими огнями лишь ложь, вражду и пошлость. Логика мысли вела к решению оставить Ярославль после окончания вуза, уехать в деревню, работать учителем истории, сеять разумное, доброе, вечное…
Но в жизни вышло иначе.
ШЕПОТ
Куда-то делся прежний пыл…
Но больше память виновата –
Я даже имя позабыл,
Которое шептал когда-то.
И помню только шум лесной
И шепот, иль подобье вздоха:
«Хороший мой, случайный мой,
Найди мне мужа… Мне так плохо…»
Незримый вихрь ее унес
Туда, где всех нас Бог рассудит.
С тех пор я видел много слез
И рваных, одиноких судеб.
Да и свою протер до дыр.
Живу без цели, без расчета,
Но пристально смотрю на мир,
Как будто бы ищу кого-то.
Не удается отыскать!
Цела причина беспокойства:
На всех, на всем лежит печать
Печали, боли, неустройства.
И до краев душа полна
Такою горькой мыслью тайной,
Как будто шепчет вся страна:
«Найди мне мужа, мой случайный…»
Женщина нуждается в муже, как страна нуждается в лидере, – и никто не разубедит меня в обратном. Промискуитет доступен лишь богатым «синглам», а их никогда нигде не бывает много. Поэтому государство держится на плечах семей.
Но как же трудно женщине найти мужчину, способного стать главой семейства! Особенно той женщине, что выросла в доме, где не было рядом надежного отцовского плеча, ежедневного примера взаимной уступчивости и согласия. Ни в школе, ни в вузе у нас не учат потенциальную жену и мать главному в ее жизни – витью гнезда, и порой такая женщина обречена всю жизнь искать тот недостижимый идеал мужчины, который сформировали в ее душе болтовня подруг, романтическое чтиво и голубой экран. Она ищет, но не находит, живет без мужа, у нее нет детей, – а значит, государство лишается еще одной из своих маленьких опор.
Впервые я задумался об этой проблеме в конце 80-х годов, когда сочинял «Шепот». Глубинная связь шаткости семьи с неустойчивостью державы была мне ясна, но выхода из этой ситуации я тогда не видел.
Лишь после того, как советский строй рухнул, и в столбе пыли и обломков обнажились вековечные устои нашего отечественного социума, я подумал, что эта проблема как-то ведь решалась нашими предками до Октябрьского переворота. При всех издержках – решалась, и в русских семьях было много детей. На чем же держалась тогдашняя многодетная (а значит, и счастливая) семья?
Ответ у меня один: женщина искала тогда в мужчине не внешнюю красоту и «крутость», а способность (и желание, конечно) кормить и защищать свое семейство. Если в мужчине это было, она закрывала глаза на многое – на физическую ущербность жениха, на его непростой характер, на большую разницу в возрасте…
Написав эти слова, я вдруг вспомнил, какие чувства всегда пробуждала во мне картина Василия Пукирева «Неравный брак» – знаменитое жанровое полотно середины XIX века, изображающее венчание юной девушки с пожилым мужчиной. И при жизни автора картины, и в мои времена публичные оценки этого сюжета, кажется, единодушны: ах, какой это ужас – подобные браки! Сетевые моралисты и доселе льют слезы над судьбами «погибшей во цвете лет» невесты и влюбленного в нее юноши (альтер эго самого художника), выступающего на венчании в роли шафера невесты и явно ненавидящего удачливого жениха.
Я же, вглядываясь в мрачный облик «несчастного», всегда думал: ах ты, собака собачинская!.. Тебе ненавистен этот немолодой человек с наградами, полученными за безупречную службу родине? Ты считаешь, что эта юная самочка должна принадлежать не ему, а непременно тебе? А почему? Потому, что ты обладаешь смазливой мордашкой, пока еще лишенной морщин, и кое-каким художническим талантишком? Предположим, она достанется тебе, но на какие шиши ты будешь содержать семью? Не запьешь ли ты горькую через год, когда твои картинки перестанут покупать? И не начнешь ли ты в пьяном угаре поколачивать вот эту юную красавицу? Ведь начнешь!.. Так что ж ты сейчас прожигаешь укоризненным взором эту пару, которая вскоре нарожает детей, будущих защитников Отечества? Почему ты в глубине души своей хочешь лишить жениха, вполне достойного человека, возможности порадоваться жизни? Господь Бог ты, что ли, чтобы отказывать ему в счастье?..
То же самое я сказал бы и многочисленным юным «претендентам на руку и сердце» моей страны. Ведь достойный муж нужен России точно так же, как и семье.
Родина моя, конечно, по женской своей сути, порой уступает случайным греховодникам. Но вслушайтесь в то, что она «шепчет» – и вы поймете, о чем она грезит…
***
Что тебе мой возраст, мой звонкий дар,
Что молитвы, мечты, дела!
Ты пройдешь по мне, как лесной пожар,
Выжигая судьбу дотла.
По макушкам – и понизу!.. Ничего
Не спасти между двух стихий.
Он гудит и беснуется – и его
Не удержат мои стихи.
Как беспечно рванется из чащи он,
Близким волосы опаля!..
Ведь твоя стихия – летящий огнь,
А моя стихия – земля.
После пожара остается пепелище. И ты бродишь по черной земле, вдыхая зловонный запах гари и удивляясь сам себе – как ты выжил в этом огне? как сумел уцелеть?
Видимо, зачем-то ты еще нужен здесь, если Господь сохранил тебя.
Но как ты смог запылать – ты, в котором минувшие пожары выжгли, кажется, всё, что доступно огню? Что в тебе могло гореть?
Не торопись с выводами. Посмотри в небо – там давно собираются тучи. И вот уже первые капли благодатного дождя бегут по твоему лицу, вешний ливень наотмашь хлещет по дымной лощине, а черная земля вновь простодушно и беззащитно выбрасывает навстречу небесам то, чем она вечно будет чревата, – зеленые побеги надежды и веры. Не торопись, останься тут еще на миг – и нежный, клейкий, ласковый лепет обовьет твое существо с ног до головы, превращая тебя в ствол и крону, в ветви и листья…
Вот ты и снова часть леса. Шуми, шелести, клонись, отбрасывай тень, роняй наземь сухой хворост пережитого. Тянись к небу… пока летящий огнь вновь не заденет тебя своим гудящим крылом.
***
Не век же искать потаенную суть,
в слепящих мечтах пребывать, –
пора непокорную шею согнуть,
свое пораженье признать,
признать, что не гений
и что не пророк,
что от совершенства далек,
что жил, как умел,
что иначе не мог…
Но кто-то кричит в тебе:
– Мог!..
Ну, кто, кто в тебе вечно кричит это супротивное «Мог!», наперекор твоему же собственному ясному знанию, – знанию о том, что ты реально не мог, не обладал необходимыми ресурсами, умениями, навыками, личностными качествами? Чей это голос?
Это кричит мечтатель-фантазер, начитавшийся в детстве книг о великих людях и с той поры ставящий перед собой заведомо невыполнимые задачи?
Или это убеждение твоего внутреннего философа-педагога, считающего, что человек как раз и обязан ставить перед собой именно такие вот недостижимые цели – дабы добиться в жизни хоть чего-то?
А может быть, это суровое мнение твоего потаенного критика, обладающего полным знанием о тебе, – о каждом случае, когда ты поленился, забыл, струсил, пустил дело на самотек?
Такие вопросы задавал я себе в середине 80-х годов прошлого века, когда рождались эти строки.
Сегодня я, улыбаясь, говорю себе тогдашнему: а вдруг это кричит тот, кто верит в тебя несмотря ни на что, – верит до сих пор? Представь на минуту, что это так, что именно этот глубинный человек продолжает жить в тебе – и даже возлагает на тебя немалые надежды.
Представил? Тогда, может быть, ты отважишься попробовать еще раз? Теперь уже – зная и умея, обладая и не боясь…
***
Проходят день за днем – и светлый город,
Недавно полный зелени и солнца,
Желтеет, жухнет, вянет и тускнеет…
Сечет бульвары дождь – и только люди
Становятся как будто веселей:
В своих пальто, плащах и прочных куртках
Они бегут сквозь дождь навстречу смерти
И говорят о ней, как о зиме.
Быть может, там, – за гранью перехода, –
И вправду ждут нас лыжи и салазки,
Игра в снежки и сказки старой бабки?
Быть может, смерть не так уж и страшна?
Не знаю, я не верю оптимистам.
Мне чудится угрюмый, лютый холод
И в ужасе застывшие деревья,
И улицы, закованные в лед.
Нет, я не верю в жизнь за гранью смерти!
Всё, что умрет – уже не возродится.
Когда весной сквозь мглу пробьется солнце,
Растает снег, зазеленеют ветки, –
Я не поверю им. Я точно знаю,
Что это будут новые деревья
И новый свет, и новая земля.
«А может быть, смерть – это просто другой город, и мы, переехав туда, прекрасно обустроимся?»
Такую запись сделал я однажды в своем дневнике. Мне было 45 лет. Но это было лишь одно из моих предположений относительно конца нашего земного существования.
Стихотворение, написанное в те же годы, иллюстрирует мои сомнения. А также мои сомнения относительно моих сомнений…
Виктор ЛИХОНОСОВ. «Литература стала моей судьбой и спасением…»
Приветственное слово участникам I Международной научно-практической конференции «Творчество В.И. Лихоносова и актуальные проблемы развития языка, литературы,
журналистики, истории», Краснодар, 16–17 сентября 2017 г.
Чем старше становишься, тем сильнее возникает жажда чтения. Хочется больше читать, повторять чтение любимых книг… Целые полки стоят – думаешь: всего начитался! Но нет. Чтобы вновь насладиться великой русской литературой, мне надо прожить еще лет 40!
Спасибо, Михаил Борисович, за напоминание о том, что я учился в Краснодарском пединституте. Если бы преподаватели, у которых я учился, слышали все это и видели, они бы крайне удивились, что этот студент – молодой, веселый, кучерявый, который не подавал никаких надежд, в литературных кружках не состоял, со спортфаковцами акробатикой занимался: прыгал на затоне, крутил рондат фляк сальто – стал писателем. Хотя еще при их жизни, в 1963 году, появился в «Новом мире» у Твардовского мой первый рассказ, и они тоже были просто поражены. Причем я, видимо, был настолько веселым парнем, что они удивились, что получился настолько грустный, лиричный рассказ.
Конечно, пединститут – это удивительное место. Знаете, это не ваш сегодняшний университет, который достиг таких высот, в том числе материальных. Кажется, что вы более оснащены образовательно, у вас в преподавателях яркие звезды: возьмите хотя бы Павлова, который знает всю литературу и который так хорошо критически пишет о ней. Он переворачивает столько книг, что я удивляюсь: когда же он отдыхает и успевает работать на факультете? Но все это другое, не так, как у нас было.
Краснодарский пединститут дал очень много писателей, причем каких!
Юрий Кузнецов – выдающийся русский поэт! В Институте мировой литературы имени Горького каждый год идет международная конференция в его честь: туда такие светила съезжаются и говорят о его творчестве! Представляете, какой поэт?! Юрий Селезнев… Какой серьезный, мощный был человек! Как он рос! Как он любил литературу! Как боролся за ее чистоту, за нравственность, за традиции! И как рано умер… Виталий Бакалдин, Вадим Неподоба – замечательные кубанские поэты – тоже выпускники нашего вуза. Почему именно этот институт выпустил столько писателей? Хотя Кубань не славилась литературой никогда. И по сей день литературный процесс здесь очень вялый, скромный. Откуда такие люди? Может быть, это почва, природа, ласковый юг, казачья история? Не знаю. Но дай Бог, чтобы в вашем вузе, Михаил Борисович, родились такие же талантливые, необходимые сегодняшнему миру, правдивые писатели и журналисты.
Для меня литературная жизнь стала неожиданной. Я приехал из Сибири – по климатическому несчастью, врачи отправили – и вот, живу здесь уже 60 лет. Приехал в Краснодар поступать в институт с одним чемоданом – глуховатый, скромный, одинокий. И мог не поступить! Двадцать пять баллов проходных было, а я набрал двадцать три. Причем по сочинению получил не «пять», а «четыре».
Я тогда очень любил Шолохова. И решил: если меня в институт не возьмут, я поеду в Вешенскую к Шолохову, попрошусь к нему, спрошу: «Что мне делать? Я хотел быть артистом – не стал, в институт не поступил. Устройте меня в какой-нибудь колхоз, что ли…» Я хотел жить на Дону из-за того, что очень любил «Тихий Дон» и «Поднятую целину». Шолохов для меня был всем.
Но я поступил. Я учился и читал. Любил читать Паустовского, Андрея Платонова, Хемингуэя. Потом Есенина. «К Есенину» поехал на втором курсе – заработал в пионерском лагере деньги, не поехал к матери в Новосибирск, а отправился в Константиново. Есенина тогда почти не печатали. Сначала «Правда» о нем заговорила, затем в «Литературной газете» появилась публикация – это был последний удар по мне.
Константиново тогда было совершенно патриархальной, колхозной деревней. Тихо, никаких туристов. Один только дом его стоял – вроде музей, вроде не музей; закрыт. Я написал об этой поездке дважды, и сейчас хочу. В «Одиноких вечерах в Пересыпи» собираюсь написать главу еще раз о том же, потому что не передал, быть может, самого главного – одинокой тоски и любви – и к Руси великой, и к поэзии Есенина.
Я совершенно не думал быть писателем. Поехал работать учителем под Варениковскую, затем под Анапу. И там я встретил народ. Народ дает нам все, учтите, дети! Народ, человек, его жизнь, в которые вы должны быть влюблены, – без любви нельзя ничего писать. Даже когда вы будете критические вещи создавать, вами будет двигать любовь к жизни, исходить вы будете из того, что жизнь надо защитить и облагородить, удержать что-то в ней.
Когда я встретил брянских стариков, они меня так очаровали, что я написал первый рассказ «Брянские». Я ничего не писал в жизни до этого! И сам Твардовский сказал мне тогда: «Какой хороший рассказ ты написал!» Но это не я написал. Это они, брянские, своей рукой, душой, и Господь Бог мною водил.
Если бы Казаков меня не подхватил в «Новый мир» – я был настолько робкий – я бы, наверное, не продолжил литературный путь. Но как-то все случилось удачно. Если в одном месте отказывали – брали в другом. «Новый мир» не взял «Люблю тебя светло» – взял Викулов в «Наш современник». «Молодая гвардия» по некоторым соображениям не взяла «Чалдонок» – напечатала «Литературная Россия».
Все, что случилось со мной, думаю, связано с тем, что я очень любил литературу русскую. Писатели любимые (Шолохов, например) становились для меня спутниками жизни. Благодаря им я был предан правде и очень любил народную толщу, существо жизни народной. С этого началось мое творчество. Если бы я этого не исповедовал, я бы ничего не написал. Вообще я бы без литературы не существовал. Литература стала моей судьбой и спасением. Так и для вас что-то – журналистика, может быть, – должно стать спасением, если вы будете добросовестно и с любовью, прежде всего к письменности, которой сейчас учитесь, служить этому. Карьера, деньги, успех – все это временное. Затем падение будет неизбежное. А вот эта любовь ваша определит все. Сейчас, когда так тяжело нашему Отечеству, особенно важны в самой атмосфере нашего общества любовь, сочувствие, сострадание, милосердие, и ваше перо должно все это писать.
Я считаю, что получил то, что имею, за то, что старательный сердцем был. Я писал так, как никто, наверное, – не было такого, чтоб с утра, по девять часов. Все как-то получалось вспышками. Но я любил и люблю то, что делаю.
Я хочу это и вам внушить. Когда сидишь и вдруг из Парижа получаешь письмо от Бориса Константиновича Зайцева, друга Бунина, – это как манна небесная! За что дается? За любовь и преданность литературе. Конечно, мама с папой от природы что-то дают. Но при этом обязательно надо любить читать книги. Без книги – просто не жить. И надо читать бумажную, а не электронную. Обязательно надо читать, любить тексты, красоту слова – тургеневского, бунинского, пушкинского, лермонтовского. Там столько изящества в словах, в сочетаниях! Там столько души! Вот если это чувствовать не будете – никогда писать хорошо не будете.
Сейчас я пишу «Одинокие вечера в Пересыпи» – воспоминания. Частично напечатал написанное в «Родной Кубани». Но мне многое надо закончить. Затем я хочу написать о том, как мы были студентами. Даже название придумал – «Рондат фляк сальто». Но посмотрим, как сложится моя жизнь…
На этом я, пожалуй, закончу. Спасибо, что вы пришли!
Записала И.О. Басова
Литературоведение
Валерий СУЗИ. О
русском барокко Державина:
эпоха – личность – стиль
…В поэзии Державина явились впервые яркие вспышки истинной поэзии, местами даже проблески художественности, какая-то одному ему свойственная оригинальность во взгляде на предметы и в манере выражаться, черты народности, столь невиданные и тем более поразительные в то время, – и вместе с тем поэзия Державина удержала дидактический и риторический характер в своей общности, который был сообщен ей поэзиею Ломоносова. В этом виден естественный исторический ход…
Белинский В. Г. Сочиенния Державина. 1843
Несомненно, уже позитивист Белинский заметил яркую оригинальность личности и поэтики Державина. Но по присущему нам представлению об историзме как детерминированной последовательности поставил их в линейную перспективу преемства, тогда как она имеет еще и иконически обратную и диалогически возвратную проекции1.
Своеобразие большого художника определяется той ролью, которую он играет в культуре, тем местом, которое им занято. Поэт постоянно находится в диалоге с миром и собой, как сейсмограф, реагирует на требования времени, отвечая запросам, созвучным своей личности. И трудно сказать, что в триаде творчество–личность–история предстает доминирующим; в культуре и социуме равно проступают неповторимо-личностное и безлично-эпохальное начала. Своеобразие поэта задано тем вызовом, что призвание ему предъявляет.
Уникальность Державина задана целью, как он ее понимал, будучи державником, – усвоение русской культурой традиций европейского гуманизма и наследия Ренессанса.
Отсюда и ведущая его роль в наполнении прежних форм новым смыслом, присущим культуре при длительном переходе, в данном случае – от Аристотелево-Аквинатовой схоластики к гностико-романтической парадигме.
Потому и оценки принадлежности Державина какому-либо направлению серьезно расходятся, что заметно на протяжении всего XX века и до сих пор.
На это в свое время указывал И. Серман2. Так и попал поэт в зазор между классицизмом и романтикой; из ветхого вырос, сентиментализму остался чужд, не став ни просветителем, ни… предромантиком.
Ситуация курьезная как симптом методологической нашей слабости; и длится вот уже два века! Причина, думаю, в оглядке на западные стандарты жестко поступательной хронологизации, в усвоении чуждых нам интенций.
Запад мыслит дедуктивно, оперирует абстракциями, идет от общего – к части, сакрализуя частное, анализ, распад; мы – индуктивно, отталкиваясь от конкретики, освящая целое, связь. Условность умозрений очевидна в обоих случаях, но важен вектор динамики.
Похоже, ренессансная парадигма дедукции (от Единого) и антропоцентрии (гуманизм) завязана на античную риторику, дидактику и рацио. Отсюда проистекают западная аналитика, индивидуализм и восточная синкрезия, соборность, синтез.
Очевидно, что вносить в них национальную специфику в качестве коррелята оказывается не вполне достаточно. Необходима более радикальная смена системы терминов и категорий, шкалы базовых ценностей.
Риторика и ригоризм осевого времени (термин Ясперса; в данном случае – Средние века) – продукт освоения европейскими варварами христианских смыслов в античных формах. Русскую же культуру XVIII века характеризуют:
1. Интенсивное усвоение опыта европейской культуры.
2. Общий с Европой переход от риторического, готового слова (термин А.В. Михайлова) – к слову диалогическому, оговорочному (М.М. Бахтин).
Масштаб личности поэта-государственника отразил своеобразие бурной эпохи становления нации и Империи, сконцентрировал в себе, сосредоточил специфику связи русской и европейской культур. Изучение наследия Державина требует восстановления всего многообразия контекстуальных и метатекстуальных отношений, динамики времени.
1. Чтобы вполне оценить роль и место Державина, специфику его поэтики, его необходимо изучать в сопряжении с целым рядом крупнейших русских авторов XIX–XX вв. А в мировой поэзии – с Данте и Горацием, в сопоставлении с гимнической (одической и псалм-одической) традицией, с последним поэтом Средневековья – Франсуа Вийоном.
Своеобразие Державина можно адекватно понять лишь через отталкивание от всех предшествующих веков и отношения с последующей культурой, которую он во многом угадал и предопределил.
Державин объединяет в себе опыт европейской культуры – от античности до классицизма. При этом его фигура одиноко высится на изломе XVIII в. – рядом с ним нет ему равных: Ломоносов уже ушел, Карамзин еще не явился.
Не равнять же его с квази-классицистами Сумароковым, Хемницером, Капнистом или с просветителями масоном Радищевым и консерватором Фонвизиным. Они принадлежат своим десятилетиям, от силы двум-трем.
Державин задал основную тематику русской литературы XIX века и опосредованно, через нее оказал влияние на Новейшее время. И неправомерно рассматривать его лишь в проекции архаики, как это было задано Ю. Тыняновым3 [4]; он столь же человек традиции (классики), как и новации (модерна). Трудность заключается в уловлении динамического равновесия этих полярных начал.
С подачи Тынянова о Державине сложилось представление как о поэте, сводимом исключительно к преемственности, традиции. Это не совсем верный подход к истории.
В любой ситуации можно видеть доминирование некой тенденции, и то формулировать ее чрезвычайно осторожно; в данном случае лучше говорить о балансе противоборствующих начал, чтобы не нарушить реальное соотношение сил.
С не меньшим основанием акцент можно перенести на противоположную тенденцию, усугубив новаторскую доминанту. Результат определяется мировоззренческим подходом, установкой, приемом, восприятием интерпретатора.
Возникает впечатление, что Тынянов видел процесс лишь в проекции «архаика-новация», естественно, отдавая предпочтение последней. Очевидно, на него оказала влияние не только революционная эпоха, но и слова Пушкина: «Старик Державин нас заметил, и в гроб сходя, благословил». Формалисту поэт видится едва ли не гробовых дел мастером. Он стал восприниматься в заданной парадигме так, будто родился стариком, и лишь для того, чтобы «в гроб сходя, благословить» новый век и восходящее «солнце русской поэзии».
Для Пушкинской эпохи такая аберрация восприятия приемлема, но для двадцатого века выглядит субъективной, крайне сомнительной. Дело не в Тынянове и формалистах-экспериментаторах; их понять можно, пафос новаций определялся эпохой. Печально иное: близорукий энтузиазм юных вошел в моду, обрел статус нормы. Жажда новаций и скорой смены кумиров (в чем они-то не повинны), короткое дыхание и короткая память стали доминирующей интенцией.
Конечно, как считают англичане: кто в молодости не радикал – у того нет сердца, кто в старости не консерватор – у того нет ума. Похоже, поколения вечных бунтарей сменяются иной формацией; дегенерация эпох очевидна. Трудно винить прежних в понимании истории в сугубо линейной, а не объемной конструкции.
Людей революционной эпохи оправдывает и то, что многие до зрелости и не дожили. Но нам элементарно архаичное, детское видение не к лицу; оно страдает псевдо-историзмом. Дело не в них, а в нас: они уже в истории, что нам, похоже, не очень грозит. У юности один изъян: она скоро проходит; и всякая новация быстро устаревает, архаизируется.
Эпоха должна иметь свои лицо и имя. Державин, конечно же, олицетворяет не классицизм (явление у нас довольно чахлое, малопродуктивное) и не Просвещение (оно тоже вполне нам чуждо); и не пред-романтизм (уже именование знаменует слабость методологии).
Так кто ж он? Далеко искать не будем, достаточно лишь оглядеться и осмыслить; необходим перенос внимания с классицизма и романтики как точек отсчета – на третью доминанту историко-культурного процесса – барокко.
Ведь безлико мерная последовательность западной культуры (ренессанс – барокко – классицизм – романтика) нами нарушена, смазана: и доминантами станут романтика и барокко как явления переходно-динамичные, полнее отвечающие нашей специфике, кризисно становящейся природе лица и эпохи.
Если определяющим для Запада является отношение к классицизму, то у нас таким критерием предстает отношение к барокко, внешне противоречивому, но внутренне более цельному, естественному, чем условный классицизм.
У нас барокко и классицизм возникли не последовательно, а почти вместе, и развились параллельно как выражения мирских и религиозных интуиций.
Если на Западе барокко, во многом, отразило идеологию папской реставрации ментальности Средних веков, а классицизм – идею светского абсолютизма; то у нас барокко имело, скорее, реформационный характер, в силу отсутствия собственно контр-реформации (таковой, условно типологической параллелью, можно считать раскол, имевший протестно-народный, низовой исток, в отличие от контр-реформации римской курии).
Одни и те же явления культуры у нас и на Западе имеют близкие начала, но разные функции. При этом стоит помнить, что при заимствовании форм извне происходит их перелицовка: материя та же, а выглядит иначе. Или: смотрится не хуже, а в основе – имитация, иной субстрат. Оригинальным легко быть, но трудно стать; это дар, а не заслуга.
Поэт-державник отразил волевой импульс в становлении Империи, выразив специфику европейской культуры. Потому изучение его требует восстановления многообразия контекстуально-метатекстуальных связей эпохи.
Вопрос, конечно, не во вкусовых или социально-исторических предпочтениях, а в ином способе восприятия. Нашей культуре 2-й пол. XVIII века, наряду с освоением опыта Запада, присущ общий с ним переход от монологизма готового (А. Михайлов), нормативного, риторического слова – к диалогизму слова повествовательного, оговорочного (М. Бахтин). Из смены содержательно-жанровой парадигмы и стоит исходить.
В Державине наметилась смена ораторской декламации – опытом личностного самовыражения (вклад сентиментализма и романтики). А потому за ответом о специфике обратимся к жанровой форме, памяти жанра, устойчивой категории, хранящей связь времен.
Державин в поэзии дал импульс мысли, близкой Баратынскому и Тютчеву, открытой им в одическо-псалмодической традиции. Конечно, ода соединила в себе противоположно-родственный опыт Средиземноморья – ветхозаветную и эллинскую традиции. Русская ода – антична по истоку, псалмодична по смыслу. Поэт наполнил ее скорбью о скоротечности жизни, ее тщете, и о потенции обретения бессмертия в творчестве (гностика).
Далее отметим его роль в пробуждении религиозной мысли секулярного XVIII века.
Поэт воскресил духовную память нашей культуры. Жуковский и Пушкин нашли религиозному чувству нужные формы. Гоголь и Лермонтов угадали надвигающийся кризис, названный позднее духовным «возрождением» и «серебряным веком». По сути, расцвет культурного и национально-государственного сознания приходится на 2-ю пол. XIX в., на славянофилов и почвенников, Достоевского и Тютчева, духовно ориентированных авторов.
Лишь первой волной эмиграции и немногими художниками в России был отчасти выправлен ущерб, что нанесли культуре народники и «реалисты», «символисты» и неуемные их наследники.
Державин, наряду с вечной классикой, стал живым образцом духовной реабилитации культуры. Эволюцию Державина следует рассматривать в динамике от антропоцентрии через ветхий теоцентризм к христоцентрии; а в области формы – в обновлении и передаче нам великой культуры барокко, внутренне близкой апокалиптике русской мысли. По сути, это уход от безликих дедукции и рацио (типы мировосприятия, формирующие деизм) к личностно-евангельскому, индуктивному мышлению, полифонии, диалогу.
Заметим, в оде, как в иконе, ярко проступает проблема канона, ритуала и творческой, духовной свободы. В эллинстве это многообразие единства предстает как проявление форм эйдосов; в христианстве осмыслено как многоименность Бога, изумление перед Его безначальным могуществом.
Способ передачи в обоих случаях один – риторика. И если в ораторстве интенция направлена на безличные исток и предмет, то в пророчестве обращена от лица к лицу, предполагает тонус диалога, где прежний прием приходит в диссонанс с новым объектом, требуя своего пересмотра. Ярче всего это проступает в столкновении жанра и образа; новой интонации нужен новый тип образа, выражения. Предметная типизация сменяется личностной символизацией, голос Рока – хором трагедии, а в христианстве – хором ангельских ликов, ликованием Пасхи. Именно и только в Лике Христа смысл и ценность абсолютно тождественны как цель, образ и способ Теофании, залог теозиса и спасения.
Так дорефлексивный (до Сократа) и рефлексивный традиционализм (от античной классики до XVIII вв.; по С. Аверинцеву), психологизм (30-е гг. XIX в.) образуют разные типы мышления. Рефлексия охватывает эллинский и христианский этапы риторики и личностную, романтико-психологическую рефлексию (анти-традиционализм). Рефлексивный традиционализм связан лишь с риторикой, соединяя ораторство с профетизмом, пифизм с рационализмом, дедукцией и дидактикой.
Державин пребывает на стыке риторики и психологии, определяющей новую поэтику; в нем рефлексия личностно усилена, сменяя классицизм – сентиментализмом. А начало личностной рефлексии, релятивности XIX в. – это завершение дидактики, дедукции, риторизма. Восприятие риторики рефлексией выражено отзывом черта Ивана Карамазова о вечности: «скучища пренеприличнейшая!». Для риторики же экзистенциальная рефлексия – невроз, тоска смертная. И один другого стоит.
Державин и Пушкин сущностно разделены лишь десятью годами: учитель в 1814 г. пишет дидактическую оду «Христос»; ученик, 12 лет спустя, своего «Пророка». «Бог» Державина и «Пророк» Пушкина – межевые знаки поэзии; зеркально-симметричная параллель им – «Памятник» одного и «Памятник» другого. Они знаменовали завершение допушкинской и начало современной русской литературы. Происходит смена форм творческой рефлексии – объекта и приема, образа и метода.
Риторическая интонация, жанр, исчерпав себя, требуют иных форм, образов. Моно-типизация, рефлексия форм сменяется рефлексией души, диалогизацией личностных ценностей-смыслов (опущу описание типов образа).
2. Теперь отметим принцип, тип строения образа. Риторический пафос Державина, восходящий к гражданскому ораторству и богодухновенному профетизму, соединяет дорефлексивный и рефлексивный способы мировосприятия.
Материализованность, вещность придает достоверность его космически грандиозным образам, достигающим убедительности евангельских учительно-притчевых логий.
Единством противоположностей, детской непосредственностью и зрелой мудростью характеризуется изначальность и свершенность этапов (поздние античность и средневековье) и определенного типа мироощущения, его кризисная исходность, периферийность и центричность его местоположения в процессе, его универсальная значимость и индивидуальная скоротечность. Проблемностью обычно отмечена любая одаренность.
Но качеством вневременности (несвоевременности – то ли запоздалой, то ли преждевременной), глубиной противоречий характеризуются исходная и переходная эпохи.
Программными предстают оды «На смерть кн. Мещерского» (1779), «Властителям и судиям» (1780), «Бог» (1784), «Памятник» Горация (1795), «Христос» (1814), «На тленность» («Река времен…», 1816).
Экспрессивная изобразительность характеризует способ построения образов, тип которых отражает способ и характер отношения автора к миру, природе, себе, Богу, смерти, вечности, творчеству. Нагнетение, перечисление, всеохватность призваны выразить качественные состояния через соотнесение количественных параметров.
Поэт нагромождает предельно грандиозные образы и тут же контрастно дает их предельно малые противоположности:
Как капля, в море опущенна,
Вся твердь перед Тобой сия.
Но что мной зримая вселенна?
И что перед Тобою я?
В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров, – и то,
Когда дерзну сравнить с Тобою,
Лишь будет точкою одною…
Каждая строфа – логическая конструкция, силлогизм, доказательство «от обратного», через преодоление логических противоречий, противостояний, через противоборство антиномичных позиций: «А я перед Тобой – ничто»:
Тебя душа моя быть чает,
Вникает, мыслит, рассуждает;
Я есть – конечно, есть и Ты!
Ты есть! – природа чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет,
Ты есть – и я уж не ничто!
Поэт воспринимает мир в антиномиях, в статичном противоречии (разрешимом в Боге), в ситуации перманентного кризиса (суда). Его мировосприятие контрастно окрашено в тона ветхозаветной эсхатологии и апокалиптики, совмещает в себе универсально-космическое, вселенское бытие и интимно-личное, приватное существование, быт.
3. Определение христоподобной, богочеловеческой природы личности дано Державиным через ее проявления – любовь и творчество – в условиях свободы отношений человека с его Творцом. Природа личности декларируется в умозаключении:
Твое созданье я, Создатель!
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ Податель,
Душа души моей и царь!
…Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей ты телесных,
Где зачал ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.
…Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб – я червь – я бог!
Полюса теоцентрии и антропоцентрии разрешены в христоцентрии (ода «Христос», 1814). А здесь формула восходит к рудиментарному в Ветхом Завете видению падшего мира в дуально-антиномичных категориях. В образе дано становление двуединой природы человека от сотворения («Я царь» над миром; «я раб» пред Творцом как следствие греха) через падение («я червь») до обожения («я бог!»). Двуединство выражено парными оппозициями; процессуальность – соединительно-разделительными тире, усугублением, перевертыванием по оси симметрии позиционных противоречий: царь-раб – червь-бог. Кстати, ода активно не нравилась святителю Игнатию Брянчанинову, и по-своему он был прав, что вполне объяснимо структурой образа, всей образной системой.
4. Показательно, что риторически инвентаризационный подход выражает восприятие нами мира. Такому видению присущи многоименность, многоглаголание.
Поэт через него осваивает мир и отгораживается от ужаса небытия, от быстротечности жизни. Ему присущ восторг многообразием жизни, бесконечностью проявлений Бога.
«Это рубрикация – коренная рационалистическая установка на исчерпание предмета через вычленение и систематизацию его логических аспектов», – замечает Аверинцев4.
Катализатором операции предстает синкрисис. Так из хаоса через различение возникает космос; в мир дисбаланса вносится начало организации, личностного ряда, лада.
Число выступает инструментом, выражением процесса, упорядочивающим началом. Это даже не «рождение в красоте», а возврат в мир смысла-лада. В этом плане показательны переложения поэтом псалмов («Радость о правосудии» – «Хвала всевышнему владыке!..»; «Праведный Судия» («Псалом 100. «Милость и суд воспою тебе, Господи…»)).
Вопрос скрыт лишь – в критериях, акцентах, нюансах, доминантах.
Хронотоп Державина связует библейскую процессуальность, хроносность и античную дуалистическую пространственность как отправную точку движения. Полюса преодолеваются в едином хронотопе. Топосность («здесь») через субстанциональность возвышается до беспредельности; усугубленная хроносность («сейчас») перерастает в «вечность» как остановленное мгновение. Поэт, оказавшись в точке критического состояния, скрещения полярных начал, через усугубление полюсов выразил универсумное качество жизни, ее кризисное становление как ситуацию перманентно переломную.
В Державине проявилось дуалистически-неразрешенное, средневеково-ренессансное, аристотелианское заострение парадоксалистского противостояния в себе и в мире («я червь – я бог»; ср.: Фр. Вийон – «От жажды умираю над ручьем…») – «Я царь – я раб» (ср. с юным Тютчевым – «Властитель я и вместе раб»).
Выход за собственную данность («червь» мнит, ощущает себя «богом»; бытовая деталь стремится стать универсумным символом) – универсальное качество и знак живого, дарованная Творцом способность, возможность бытия-творчества, бытия в любви, в Боге. Фиксированность процесса в остановленном мгновении (посюсторонней «вечности»), со-стоянии как единственном, универсумно-уникальном кадре.
С Вийоном и Средними веками его роднит не только аристотелевско-аквинатова дуальная диалектика и схоластика, но и народное жизнелюбие, чувство трагичности и полноты бытия. Вийон и Державин очень «телесны» и лиричны в своем драматическом чувстве жизни. Они исторически активны и духовно созерцательны одновременно при редкой прагматичности и трезвости мировосприятия. Они принадлежат одному большому стилю эпохи перехода, растянувшейся на пол-тысячелетия, с XIV по XVIII век.
Это стиль затянувшейся более чем на пять веков осени средневековья. Мы, ее поздний плод, все еще странным образом связаны родовой пуповиной с плодоносящим чревом. С каждым днем связь эта ослабевает; и чем далее, тем быстрей, катастрофичней!
5. Вопрос в критериях осмысления терминов и распространения их во времени. Вопрос в нюансах, в культурно-исторической специфике и национальных смещениях. Учтем, что связь содержания и формы не безлична; это эросно-личностные отношения, подобно брачно-семейным, ценностным.
Выходит, всякое пред– и пост– – от скудости, от нужды и привычки хронометрировать, хронологизировать всё и вся. Характерно, там, где живут вечностью и мигом, где порядок зыбок, доминирует хронология как метод мозгового штурма, насилия. Это вроде компенсации при нежелании организовать, преобразить себя внутренне.
Если вдуматься, романтизм по времени господства занимает меньший промежуток, чем иные направления и методы (те же классицизм или реализм). По представительности и масштабу дарований он тоже не сильно выделяется среди них. Другое дело, по их яркой экспрессивности, по потенциалу и накалу личности!
Здесь-то и скрыт смысл. Но личностность еще не критерий, критерий размытый. Чтобы она стала подлинно критерием, ее надо определить, придать характер универсума.
Это не западное католическое барокко, пришедшееся на XVII–XVIII вв. (в протестантизме оно менее выразительно), а русское, даже православное.
Главное заключено в том, как понимать барокко, что при его разноречивости в нем педалировать? Как его видеть: позитивистски, конкретно-исторически, хроноцентристски или расширительно, мировоззренчески?
Мыслить пора не квазиисторическими, хронологическими, даже не культурно-историческими периодами, не направлениями и методами (эти категории размыты, ибо их критерии изменчивы, и разнобой здесь неизбежен), а типами мировосприятия, что привязаны к направлениям, методам и периодам условно и зависят от специфики национально-исторического развития, своеобразия культуры и личности автора.
Чем же тип восприятия отличен от направления? Он скрыт в глубине личностного сознания, в толще, почве подсознания, лежит в основе метода и направления, социально оформленных способов реализации типа восприятия. Как фундаментальная, базовая реалия он более содержателен, чем форма, прием, рационально оформленный способ реализации.
Барокко имело кризисный характер, связав этой чертой ренессанс с романтикой поверх классицизма. Барокко, явление перелома, границы, родилось из кризиса ренессанса и предварило романтизм как явление переходное по своей природе, придавшее творческий импульс надлому Ренессанса. А слому присущи дуальность, дисгармония, диссонанс, протеизм, текучая аморфность, эклектика, синкрезия, неоформленность.
Нестабильности чужда классическая ясность, при бурной тяге к ней, жажде ее.
Барокко обозначило кризис Ренессанса («Буря» Шекспира) и Реформации, стало контр-реформацией (отсюда его расцвет в католицизме и абсолютизме; культурно-светской формой их торжества, омертвения, формализации чувства античности стала интуиция псевдо-классическая). Порядок способен поддерживать живое, но не рождать.
Поэтому в барокко сходятся черты противоположного ему классицизма (вторичен до болезненности) и близко-родственных ему ренессанса и романтизма (на разных их этапах и в национальных формах). Нам близко широкое толкование термина в многообразных культурно-исторических национальных его модификациях.
Если в Европе классицизм есть искаженный отблеск античности, то в России, не знавшей античности, эта жажда трансформировалась в барокко; оно есть наша античность и средневековье вместе, античность – после средневековья, эллинизированное средневековье.
Барокко заимствовано Симеоном Полоцким и Сильвестром Медведевым, Карионом Истоминым, ими осуществлена прививка; а пышный цвет оно дало в поэзии Державина. На переломный характер эпохи Державина указывал еще Д.С. Лихачев5.
У нас барокко как заимствование, привнесение формируется и протекает иначе, имеет иной характер функционирования, играет иную роль, имеет иные цели и задачи.
Потому барокко у нас проявляется в иных формах, в иные сроки, чем в Европе. Потому у нас и романтизм иной, чем на Западе: там – это продолжение интуиций и кризиса Ренессанса, у нас – продолжение и изживание Средних веков.
У нас романтизм пришел на смену барокко не через классицизм (как на Западе), а прямо и впитал его в себя (в силу неразвитости классицизма).
Затяжное средневековье перешло у нас в барокко и в романтизм помимо классицизма, через фильтры Просвещения и сентиментализма, иррационально ослабленные, имевшие национальный колорит. Медведев и Полоцкий – наше заемное барокко, Державин – свое родное, зрелое, модифицированное; романтизм и модерн – его трансформации.
И не стоит барокко сводить к риторической эпохе. К русскому барокко причастны Тютчев, Гоголь, Лермонтов, Достоевский; а в XX веке – столь полярные фигуры, как Маяковский и Мандельштам, Высоцкий, Башлачев. Барокко, явившись в эпоху рефлексивного традиционализма (с Платона до начала XIX в.), проникает и в рефлексивный персонализм, т.е. в модерн и пост-модерн, связь с которыми неочевидна в нем, но явственна.
Стиль барокко у нас шире, чем направление и метод, это мировосприятие, состояние души. Наша литература, исполняя завет Пушкина, пошла не его, а своим путем. При всей универсальности он нам стал бы скоро тесен. Гоголь, Тютчев, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Чехов и Бунин – наш барочный путь к модерну и дням нынешним.
А в истоке – голиаф Державин. Мы чтим стихи Пушкина, как иудеи – псалмы Давида. Пушкин дал нам готовые формы; а мы мучаемся родовыми муками слова, проклятыми вопросами, чуждыми эллину. Наш мир – это мир диссонанса, напряжения, а не мгновенной исключительности равновесия и меры. Здесь нет Нуса; а есть забота и наитие, жизнь на глазок. У них – гордый взор иноплеменный, у нас – горячка и иномирный надрыв, когда ум с сердцем не в ладу, осанна через горнило сомнений.
Мы все поем протяжно и уныло, изливая душу в том стоне, что у нас песней зовется. Так живем под знаком беды, суда, искушения, вины и искупления, в уповании чина… и порки, от кнута до пряника, между натяжением и ослаблением вожжей. Это стало нашим житийным жанром и русско-барочным стилем жительствования.
Империя даровала дворянские вольности, освободив от государева тягла единственное сословие, что творило нашу культуру, подточив нашу историю.
Симфония Империи и нации, синергия властей, народа и общества, личности и среды, образа и быта обернулась диссонансом. А так сладко грезилось, даже будто и маячило в синей дали! И неизменно таяло миражом.
Славянофилы с их широкими бородами и псевдо-русскими мурмолками на этом фоне выглядят филистерами. Потому в Маяковском и Венечке Ерофееве, в Башлачеве и Высоцком обнаруживаем незабвенные черты бунтарей-выжиг, умножающих творческий капитал на своей и общей беде и боли (таково их право, дарованное Творцом). Кто б еще, подобно семинаристу-цинику Ракитину и вечно пьяному капитану Лебядкину, сумел в стишки так ловко гражданскую скорбь всучить?
Но это уже иная тема – тайной свободы и ответственности, гения и святого, гения и злодейства, оправдания поэзии. Она в «Грифельной оде» Державина и Мандельштама, «Невыразимом» Жуковского, Silentium,е Тютчева и Мандельштама.
Их барокко – скифство, евразийство, бунт, связавшие в один узел поэзию и судьбу, архаику и модерн.
Пересечение двух ракурсов видения жизни – поэтической и гражданской тем, творческого хронотопа – придало неповторимый колорит нашей истории и культуре.
Использованная литература:
1. Аверинцев С.С. Риторика как подход к обобщению действительности // Его. Риторика и истоки европейской литературной традиции. М., 1996.
2. Аверинцев С.С. Аналитическая психология Юнга, закономерности творческой фантазии // О соврем. буржуазной эстетике. М., 1972.
3. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М.-Л., 1958.
4. Лихачев Д.С. Литература барокко и Симеон Полоцкий // ИВЛ: в 8 тт. М., т. 4, 1987.
5. Серман И.З. Литературная позиция Державина // Его. Державин. Л., 1967.
6. Тынянов Ю.Н. Архаисты и новаторы. Л., 1929.
Иван ЕСАУЛОВ. «Записки охотника» и многообразие русского мира
В восстановленном девятом томе раннесоветской «Литературной энциклопедии» конца 20-х – начала 30-х гг. (уничтоженного в СССР, но изданного в Мюнхене в 1991 г.), своего рода памятнике первоначального большевизма, выделяется «реформистский фланг беллетристов “натуральной школы”» (Тургенев, Григорович и Гончаров). Они «отражали уже в своей ранней деятельности интересы тех групп дворянства, которые понимали неизбежность капитализации страны, которые приспосабливали эту капитализацию к интересам помещичьего землевладения» [7: 239].
Согласно этим, незамутненным еще в своей чистоте классовым установкам, Тургенев принадлежит к тем писателям, которых «характеризовала либерально-дворянская трактовка действительности: они недоброжелательно относились к крепостному праву, они симпатизировали угнетенному помещичьим произволом мужику, но и то и другое протекало у них в границах дворянской идеологии, крепостное право отрицалось во имя более “гуманной” системы отношений («гуманную» авторы энциклопедии ставят в кавычки. – И.Е.), которая была бы в то же время и более выгодной для помещичьего класса. Эти писатели хорошо понимали, какими последствиями грозит дворянству дальнейшее существование крепостнической системы, и хотели предотвратить народную революции спуском на тормозах к поместно-капиталистическому режиму» [7: 239–240]. Тургенев (как и Григорович) «всячески стремились уничтожить пропасть между барином и мужиком, наделяя первого чертами “гуманности” (в кавычках. – И.Е.), а второго – поэтической и чуткой к красоте душой (образы Касьяна и Калиныча в “Записках охотника”). Тогда как писатели «революционного фланга натуральной школы» (имеются в виду Салтыков-Щедрин, Герцен, Некрасов), «наоборот, подчеркивают пропасть, разделяющую бар и крестьян» [7: 241–242].
Как известно, приблизительно первые пятнадцать советских лет русская литература и русская история вообще были исключены из преподавания в качестве систематических курсов. Затем же русское литературное богатство уже не отторгалось, а было присвоено, но крайне своеобразно, редуцируя собственные смыслы русской классики и навязывая этой классике истолкование, далекое от ведущих категорий русского мира и русской культуры.
Возьмем, например, 1953 г., сталинская эпоха, как будто бы, если верить перестроечным публицистам, господствует «великодержавность», как будто бы мы наблюдаем возвращение к ценностям русской цивилизации. Однако открываем Собрание сочинений Тургенева – доминирует та же самая революционно-демократическая мифология, революционно-демократическая аксиология, что и в 20–30-е годы. То же противопоставление «прогрессизма» и «реакционности», те же «две культуры», согласно В.И. Ленину, отрицающему единство русской культуры. И то же самое обличение проклятой, так называемой «царской» России, то есть обличение России как таковой.
Читаем вступительную статью к этому Собранию тургеневских сочинений: «Основной идеей “Записок охотника” был протест против крепостного права <…> Н.Л. Бродский правильно замечает, что в образах крепостных, обратившихся с жалобой к помещику на притеснения бурмистра (“Бурмистр”), порубщика, доведенного до крайней степени бедности (“Бирюк”), в образах религиозно настроенного протестанта Касьяна с Красивой Мечи, ходатая за обиженных – разночинца Мити (“Однодворец Овсяников”) отразился протест народа против крепостного гнета» [6: 12–15]. Тут же речь идет о том, что «Тургенев показывает черты пассивности и патриархальности в крестьянстве <…> Темнота и забитость – черты, присущие многим крепостным…» [6: 15] и так далее.
Наконец, в последней за советскую эпоху многотомной «Истории русской литературы», изданной Пушкинским домом, тургеневская глава написана Л.М. Лотман. Это уже не двадцатые, не пятидесятые, это уже восьмидесятые годы (1982 г.). Однако в своих аксиологических основах видим, в сущности, тот же самый подход. Даже ссылки на Н.Л. Бродского – как и в издании 1953 г. Те же Белинский, Добролюбов, Ленин, что и ранее, та же революционно-демократическая мифология. Тот же инструментарий, тот же социологизм, то же отношение к реалиям исторической России. Это уже не столько совершенно определенное идеологическое отношение, это отношение более глубокое – аксиологическое. И эта аксиология – негативна, а в виде иллюстраций используется как Тургенев, так и русская классическая литература в целом. «Нигде, – с точки зрения Лотман, – герои его рассказов (из “Записок охотника” – И.Е.) не выходят за узкую сферу личного бытия, ни одна из их огромных творческих потенций не находит себе подлинного выражения» [5: 127].
Как выразительно сформулировал в 1995 г. В.Е. Хализев, «…миф о русской действительности как средоточии косности, невежества, рабской покорности фатально и неотвратимо соприкасался с программой тотального разрушения отечественного бытия» [10: 20]. Однако, к сожалению, вряд ли можно утверждать, что за последние четверть века произошло сколько-нибудь радикальное изменение аксиологического отношения как к истории русской литературы, так и к исторической России – так, чтобы оно отразилось в практике вузовского и школьного преподавания [Cм.: 3].
Русская классика продолжает чаще всего рассматриваться в «малом времени» газетно-журнальных споров XIX в. («Арзамас» против «Беседы любителей русского слова», Тургенев против Достоевского – и так далее), отечественная литература продолжает рассматриваться сквозь призму внешних для национальной культуры квазиуниверсалистских социологических категорий (можно даже говорить о ренессансе нового социологизма). И исключительно редки попытки понять русскую классику исходя из ценностей большого времени русской культуры как таковой, сквозь призму не навязанной ей внешней и искусственной для нее терминологии, а сквозь призму таких категорий, которые укореняют творчество русских писателей в просторах незавершимого «большого времени». Когда выявляется тот общий знаменатель русской культуры, который не разделяет, а соединяет творчество Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского в единстве национальной культуры, в том единстве, которое, вопреки марксистским утопиям Ленина, реально существует.
Отдельные исключения (если говорить о «Записках охотника», то можно указать на недавно опубликованную коллективную монографию, подготовленную исследовательским коллективом Орловского университета [Cм: 8]) только лишь подтверждают общее правило: русская классика все еще находится словно бы под конвоем тех, чья аксиология радикально отличается от аксиологии собственного предмета изучения.
«Записки охотника», если мы попытаемся их понять в системе ценностей самой русской культуры, это не «протест» против крепостничества, не «изображение» в ряде очерков действительности середины XIX века (хотя то и другое не могло, разумеется, не «отразиться» в тургеневских текстах), а поэтический образ России как таковой, выходящий далеко за пределы так называемой «натуральной школы». Тургенев показывает богатый, сложный, многоразличный и, главное, живой, развивающийся русский мир: с его христианскими ориентирами, смирением, грехами, буйством, своеволием и поэзией.
Это поэтический образ русского мира. Единого, но многоцветного. А вовсе не галерея «крепостных» глазами барина с ружьем.
Начинается этот прозаический цикл, как известно, с констатации различия «породы людей» орловской губернии и «калужской» породы. Не заметно, если не поддаваться гипнозу социологического прочтения, что именно «крепостное право» породило это различие. Ничего подобного. Просто Жиздринский уезд такой, а Болховский – этакий. Вот и всё. Не смогли социология, марксизм и ленинское литературоведение объяснить – почему именно «орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, смотрит исподлобья» [прим. 1], а калужский, напротив того, «глядит смело и весело», к разнице между барщиной и оброком это никак не свести.
Хорь, как мы все помним, уйдя – доброй волей, а не по принуждению – жить на болото, отдельно от всех прочих мужиков, «разбогател». Но не хочет «откупаться». Уверяя, что, мол, нет денег. Деньги есть. Но не хочет. Л.М. Лотман предлагает нам несколько комическое объяснение: мол, «откупиться на волю Хорь не желает, понимая, что при крепостнических порядках, откупившись, он остается бесправным» [5: 128]. Такого рода социологическое «объяснение» низводит человека до частной иллюстрации социологических «закономерностей». Впрочем, иные историки и в поступках средневековых христиан склонны видеть непременное воздействие их экономической заинтересованности, как-то забывая при этом, что главное (во всяком случае, для христианина) – это не «повышение производительности труда», а спасение его собственной души. Как известно, в исторической России некоторые крестьяне были богаче своих помещиков, однако им было просто удобнее числиться «крепостными», вопреки позднейшей мифологии.
Если мы проанализируем разговор Полутыкина и Хоря, то там нет ровно никакой крестьянской приниженности, это разговор равных собеседников, из которых именно крестьянин ставит барину условия, а тот их принимает: «только вы, батюшка Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете». Не случайно, «склад лица его» напоминал рассказчику «Сократа». При этом сам орловский мужик – Сократ – «чувствовал свое достоинство… изредка посмеивался из-под длинных своих усов». Выходит, что тургеневский рассказчик вполне понимает субъектность (а не объектность) своего героя – и любуется им, а вот советская исследовательница в этой субъектности русскому мужику отказывает.
Чем в первом же рассказе предмет изображения отличается от «натуральной школы»? Именно тем, что хотя и начинает Тургенев свое повествование как будто с этнографического различия «пород людей», будто бы перед нами какая-то дарвинская классификация видов, затем становится ясно – это не объекты описания, а вполне равноправные рассказчику субъекты. При этом почти в каждом рассказе цикла мы – как читатели – сталкиваемся с «обманутым ожиданием». Например: «я с изумлением поглядел на Калиныча (который утром принес своему другу Хорю пучок полевой земляники – И.Е.): признаюсь, я не ожидал таких нежностей от мужика».
Особо обращает на себя внимание, что Калиныч должен вообще-то являться живым укором для всяких социологически ориентированных гуманитариев, сводящих дело к «материальному объяснению». Он «ходил в лаптях и перебивался кое-как» не потому, что тяжко жить в проклятой «царской» России, угнетающей русский народ, а попросту потому, что «принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных». Иными словами, как Хорь доброй волей живет на отшибе и не желает выкупаться, Калиныч доброй волей ведет именно такой образ жизни, он не объясним никакими «социальными условиями», он такой, какой он есть. Калиныч обладает редкими способностями – «заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая», однако он не стремится капитализировать свои навыки и умения, обратить их в капитал. Тогда как Хорь обращает: «обустроился, накопил деньжонку». Значит, в русском мире бывает так, а бывает и этак. И зависит то и это не от «социальных условий», а от собственных наклонностей, от характера русского человека. И нужно также признать, что совершенно не видно, из заглавного рассказа цикла, что «крепостное право» сколько-нибудь влияет на этот деятельный в одном случае и поэтический – в другом – характер. Например, «особенной чистоты» Хорь не придерживается – своей волей, а «на мои замечания» отвечал однажды, что «надо-де избе жильем пахнуть».
В недавней статье «Необъяснимое и таинственное в “Записках охотника” И.С. Тургенева» М.В. Антонова на материале двух рассказов цикла совершенно справедливо обосновывает «основное положение» своей работы: «…Тургенев <…> выступает не только (а может быть, и не столько) как бытописатель, исследователь социально-нравственных сторон русского национального характера, но и (возможно, главным образом) как человек, сам переживший “мистический опыт” <…> или человек, соприкоснувшийся с людьми, испытывавшими необъяснимые с точки зрения рассудка духовные переживания…» [8: 42]. Хотелось бы только подчеркнуть, что в иных случаях этот «опыт» отражает как христианское «культурное бессознательное» самого Ивана Сергеевича (несмотря на его «западничество» и неприятие славянофильства), так и православную культуру русского народа.
Например, в рассказе «Касьян с Красивой мечи», где центральный персонаж подается как «чудной человек: как есть юродивец», как справедливо указывается в работе Антоновой, герой «вполне вписывается в культурную парадигму русского юродства» [8: 49]. Однако же сама духовная традиция русского юродства, имеет куда более глубокую перспективу, чем это представляется порой современным исследователям, декларирующим сомнительные установки для его понимания («внерелигиозный подход к религиозному явлению» [4: 20]), она незаместимая часть русской православной культуры как таковой. В конечном же счете, юродство вовсе не воюет с недостатками этого мира: само состояние здешнего падшего мира юродивые не склонны считать «нормальным». В русской православной традиции главным ориентиром является не «норма», определяемая Законом, а святость, соприродная Благодати, которой и наследует юродство. В таком случае юродство является не столько эксцентрическим отклонением от нормы, сколько ее восстановлением [Cм.: 2: 385–408]. Поэтому русский мир, изображаемый в «Записках охотника», без юродивой его ипостаси был бы обедненным и явно неполным. Присутствует в «Записках охотника» и семантически противоположный юродству полюс смехового мира: безблагодатное, глумливое шутовство: великан-«шутник» (одновременно и душегуб), изображаемый в рассказе «Стучит», определяется Филофеем именно как «шут этакой», «шут парень», а рассказчик пытается определить речевую характерность обращения «шутника-великана» как «насмешка» и «глумление».
Рассказ «Живые мощи», который также анализируется в работе М.В. Антоновой [Cм.: 8: 50–57], имеет тютчевский эпиграф: «Край родной долготерпенья – // Край ты русского народа!». Опять-таки «долготерпенье» имеет не социальный (тем более, не социально-обличительный) смысл, а христианский, православный. Лукерья, которая «хороводы водила» и была «запевалой», «первая красавица», по которой «тайно вздыхал» когда-то рассказчик, «шестнадцатилетний мальчик», спустя семь лет превратилась в «живые мощи». Кто в этом виноват? Никто. «Виновата» земная несовершенная жизнь: то, что произошло с Лукерьей, могло произойти с кем угодно и может произойти с кем угодно и где угодно. Более того, Тургенев показывает мистическую необъяснимость, неразъясненную тайну – «соловей в саду», «зовёт меня кто-то Васиным голосом – Луша!» (На другом материале подобные «странности» рассматривает В.Н. Топоров [Cм.: 9]. Рассказчика изумляет, что Лукерья «рассказ свой вела почти весело, без охов и вздохов, нисколько не жалуясь и не напрашиваясь на участие», хотя ей «всё хуже и хуже», а ее возлюбленный Василий – после того, как «потужил, потужил», женился на другой, «и детки у них есть».
Без актуализации при литературоведческом анализе категории смирения, именно христианского смирения, присущего русскому православному миру, адекватно понять смысл рассказа невозможно. Героиня вспоминает священника, отца Алексея, который приходит ее исповедовать и причащать, говорит: «от меня грех отошёл». Свое горе она принимает в соответствие с православной традицией – «послал Он – Бог – мне крест – значит Он любит». Читает молитвы – «Отче наш, Богородицу, акафист всем скорбящим», принимает дар жизни, каким он ей дан – «Нет, что Бога гневить – многим хуже моего бывает». Сопричастна Лукерья мирам иным, к ней в снах приходят покойные отец и мать, кланяются – за то, что она «не одну свою душеньку облегчила, но и с нас большую тягу сняла. И нам на том свете стало много способнее».
Видит Лукерья и Царство Небесное, среди «васильков, таких крупных», самого Христа – тем самым зловещий зов, с которого началось ее горе – «Луша», переводится в совершенно другое – благодатное небесное измерение: «Луша! Луша!» <…> Глядь – по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько – только не Вася, а сам Христос. <…> “Не бойся, говорит, невеста Моя разубранная, ступай за Мною, ты у Меня в царстве небесном хороводы водить будешь и песни играть райские”. И я к Его ручке как прильну!».
Умирает Лукерья под колокольный звон, точно предсказав рассказчику время своей смерти, согласно православному календарю, – «после петровок». Чрезвычайно показательно, как передает это автор: «Рассказывают, что в самый день кончины она все слышала колокольный звон, хотя от Алексеевки до церкви считывают пять верст с лишком и день был будничный. Впрочем, Лукерья говорила, что звон шел не от церкви, а “сверху”. Вероятно, она не посмела сказать: с неба». Словами рассказчика – «с неба», которые «не посмела» произнести Лукерья, – заканчивается этот текст. Обратим внимание, что рассказчик не только выступает в роли своего рода «переводчика», но и актуализирует иной – небесный – ориентир, который и является финальным завершением как образа Лукерьи, так и художественного целого.
Так какое значение имеет для понимания смысла этого рассказа обличение «крепостного права»? Признаемся: никакого. Конечно, можно – при большом желании – увидеть даже и в этом мистическом тексте, также передающим, разумеется, многообразие и сложность русского мира, – «социальность»: «А вот вам бы, барин, матушку Вашу уговорить – крестьяне здешние бедные, хоть бы малость оброку с них сбавила! <…> Они бы за вас Богу помолились. А мне ничего не надо, всем довольна». Но и в этом случае социальный фон – «оброк» – имеет абсолютно вспомогательную роль фона – заботы умирающей о других людях.
Напомню и то, что рассказчик, да и другие жалеющие Лукерью люди, вызываются – и даже пытаются – ее вылечить. Но от помощи рассказчика она – доброй волей – отказывается, как и Хорь от выкупа. А другие «лекаря», занятые телом, а не душой, только измучили ее всю: «И ни один лекарь даже сказать не мог, что за болезнь у меня за такая. Чего они со мной только не делали: железом раскаленным спину жгли, в колотый лед сажали – и все ничего. Совсем я окостенела под конец…». Тогда как даруемое в вещем сне героине Царство Небесное это телесное окостенение преображает в пасхальное завершение земной жизни: «ты у меня в Царстве Небесном хороводы водить будешь и песни играть райские».
Таким образом, в «малом времени» XIX в. Тургенев может занимать совершенно определенную идеологическую позицию, может ожесточенно полемизировать со славянофилами, но в большом времени русской культуры мы вправе прочесть и рассказ «Живые мощи», с его эпиграфом из Тютчева, и в целом «Записки охотника» таким образом, что здесь – в «культурном бессознательном» автора – актуализируются те же ценности, что и у Тютчева, которые объединяют, а не разделяют русских писателей, потому что они выходят за пределы «малого времени» их современности и показывают нам «нашу Россию – нашу русскую Россию» [1: 214], как выразился по другому случаю Н.В. Гоголь.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 15-04-00212.
Примечания
Примечание 1. Тургеневские тексты цитируются в статье по изданию: Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. Т. 1. М., 1953.
Литература
1. Гоголь Н.В. Духовная проза. М., 2001.
2. Есаулов И.А. Русская классика: новое понимание. СПб., 2017.
3. Золотухина О. Изучение русской литературы в постсоветской школе [Электронный ресурс:] URL: http://russian-literature.com/sites/default/files/pdf/izuchenie-russkoj-literatury-v-postsovetskoj-shkole.pdf (Дата посещения: 30.10.2017).
4. Иванов С.А. Блаженные похабы. Культурная история юродства. М., 2005.
5. Лотман Л.М. И.С. Тургенев // История русской литературы. В 4 т. Т. 3. Л., 1982.
6. Петров С.М. И.С. Тургенев: Критико-биографический очерк // Тургенев И.С. Собр. соч.: В 12 т. Т. 1. М., 1953.
7. Русская литература // Литературная энциклопедия. Том 10. Романов – Современник. Мюнхен: Otto Sagner Verlag, 1991.
8. Текст: грани и границы «Записок охотника» И.С. Тургенева. Орел, 2017.
9. Топоров В.Н. Странный Тургенев (Четыре главы). М., 1998.
10. Хализев В.Е. Спор о русской классике в начале ХХ века // Русская словесность. 1995. № 2.
Доклад, прочитанный на пленарном заседании Международной научной конференции «Его Величество Язык Ее Величества России» к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева, Орловский университет, 26-28 октября 2017 г.
Людмила ДЕМИНА. «Русская душа» в публицистике Ивана Шмелева
В 20-е гг. ХХ в. философская мысль в эмиграции, которую представляли выдающиеся деятели русской культуры и литературы, развивалась в русле полемики и критики. Споры вызывали вопросы духовного развития общества, религиозного содержания, борьбы с большевиками и т.д. Позиции ученых и писателей часто были диаметрально противоположны, сближало их в этих спорах одно – судьба России.
Н.А. Бердяев выражал надежду на медленный путь религиозного покаяния русского народа. П.Б. Струве считал основным источником бед, поразивших общество, воспитание интеллигенции, консерватизм и неразумность власти. И.А. Ильин задачу эмиграции видел в воспитании масс в национальном духе и не исключал эволюционного пути России. И.С. Шмелев, участвующий в этой дискуссии, разделял взгляды И.А. Ильина и П.Б. Струве и совершенно был непримирим с позицией Н.А. Бердяева.
И.С. Шмелева и И.А Ильина сближала позиция отстаивания сильной государственности. В 1924 г. в статье «Русское дело» И.С. Шмелев определил суть эмигрантского существования и цель общих усилий: «Россия будет строиться и собираться. Великой стране долго оставаться втуне невозможно: обвалом лежит она на большой дороге – и мешает, и всем нужна; и еще больше нужна – себе» [9]. Писатель выражал надежду на возрождение, «к этому надо готовиться, верою в это – жить», но достичь его можно только огромными усилиями: пока есть время, пересмотреть все планы в организации государственной, хозяйственной деятельности, привлечь специалистов – «государственников, хозяйственников, военных, педагогов, философов, ученых», восстанавливать культуру, ведь она полностью разрушена. «Русское поле придется долго чистить и прибирать», перепахивать и засевать, чтобы взращивать и развивать общество.
И.А. Ильин видел суть национального сознания в духовности и православии, полагая, что именно они должны составить основу воспитания нового поколения русских. В 1925 г. он издал книгу «О сопротивлении злу силою», которая вызвала в русском зарубежье большую дискуссию; в ней принял участие и И.С. Шмелев.
Исследователь Н.М. Солнцева пишет: «В книге “О сопротивлении злу силою” Ильин заявил о философской слепоте Толстого и тем эпатировал интеллектуальную элиту эмиграции. Он считал, что суть учения Толстого сводится не к философии, а к морали, что моралью же подменен религиозный опыт. Мораль судит всякое религиозное содержание и подавляет эстетику; так, в “Воскресении” художественная образность уступила место нравоучительному резонерству».
Ильин выступил и против расширительного толкования толстовского учения, тем самым, по сути, указав современным мыслителям на их ошибку: Толстой не призывал к полному несопротивлению злу, его идея состоит в том, «что борьба со злом необходима, но что ее целиком следует перенести во внутренний мир человека…» [6].
После выхода книги И.А. Ильина в развернувшейся полемике И.С. Шмелев не просто поддержал философа, а, по сути, занял его позицию, о чем свидетельствуют статьи писателя, опубликованные в периодических изданиях русского зарубежья того времени. В них в качестве ключевых можно выделить две идеи, формирующие концептуальную направленность публицистических работ И.С. Шмелева, – духовное возрождение народа и веру в Бога. На наш взгляд, кроме прочего, именно эти позиции стали основными для творческого диалога «двух Иванов», который отражен в опубликованной переписке с 1927 по 1950 г. Ивана Шмелева и Ивана Ильина.
Исследователь Н. Кокухин по случаю выхода трехтомника написал в своей статье: «Переписка двух изгнанников – больше, чем переписка, больше, чем общение двух близких по духу людей. Их письма – это плот, который держит их на плаву; мост, который их соединяет; резервуар с кислородом, который помогает им не задохнуться на чужбине» [4].
И далее находим подтверждение сказанного уже в самих письмах: «Сколько видел я от Вас радостного, ласкового, чудесного! Единственный свет мне в Европе: родной свет. Если бы не дружба Ваша – я был бы несчастней, о, куда же несчастней! – без просвета» (И.С. Шмелев – И.А. Ильину. 20.02.1935); «Меня поражает, что мы с Вами в одни и те же годы, но в разлуке и долгой разлуке шли по тем же самым путям поющего сердца» (И.А. Ильин – И.С. Шмелеву. 15.03.1946).
В книге «О тьме и просветлении» И.А. Ильин отмечал самые важные и главные качества Шмелева-человека и Шмелева-писателя, считая его поистине русским, с русской душой и сознанием. Творчество И.С. Шмелева он оценивал как «событие в движении национального самосознания» народа [3, с. 130]. В трагическую пору его истории писатель сказал великую правду о России, показал ее лик, ее живую субстанцию – простого русского человека, преодолевающего страдания и бытовую пошлость своим слезным покаянием, жаждой праведности и религиозным созерцанием. В «Лете Господнем», в «Богомолье», утверждает критик, воссоздана православная Русь со всеми «уголками» ее духовной и бытовой жизни. Эпос Шмелева, пропитанный «слезами умиленной памяти», вселяет «уверенность в несгибаемости православного Китежа».
Символическим названием «Богомолье» обозначена идея исторического пути России. Ильин утверждает, что, подобно Достоевскому, Шмелев ставит философскую проблему смысла жизни, исполненной муки и просветляющего страдания, борьбы в человеке первобытной темноты и наивной духовности [3, с. 130]. Далее И.А. Ильин подчеркивает: «Шмелев есть прежде всего – русский поэт, по строению своего художественного акта, своего созерцания, своего творчества. В то же время он – певец России, изобразитель русского, исторически сложившегося душевного и духовного уклада; и то, что он живописует, есть русский человек и русский народ – в его подъеме и его падении, в его силе и его слабости, в его умилении и в его окаянстве. Это русский художник пишет о русском естестве. Это национальное трактование национального. И уже там, дальше, глубже, в этих узренных национальных образах раскрывается та художественно-предметная глубина, которая открыла Шмелеву доступ почти во все национальные литературы…» [3, с. 160].
Публицистика И.С. Шмелева пронизана глубокими размышлениями о «русскости», о национальном возрождении России. Необходимо отметить, что его мысли часто носили тревожно обоснованный характер, поскольку нередко он видел некую «безответственность», «политическую наивность одаренных, образованных людей» в эмигрантских кругах, которые должны были «постигать родину», «чуять и выражать ее».
В статье «Душа Родины» (Русская газета, 1924, № 3) писатель прямо и откровенно говорит: «Я не собираюсь учить любви к Родине… Я хочу выбить из души искры, острей ощутить утраченное, без чего жить нельзя…» И далее сам же риторически отвечает: «Что это значит – найти Родину? Прежде всего: душу ее почувствовать. Иначе – и в ней самой не найти ее. Надо ее познать, живую! Не землю только, не символ, не флаг, не строй. Чуют ее пророки – ее поэты; по ней томятся, за нее отдают себя. Отдают себя за ее Лик, за душу; ими вяжет она с собою. Люблю, а за что – не знаю, не определить словом. Тайна – влекущая за собою душа Родины: живое, вечное, – и ее только. Поэты называют ее Женой, Невестой; народ – матерью, и все – Родиной» [8].
В очерке К.Д. Бальмонта «Белый сон», опубликованном в 1921 г. в газете «Воля России», воспоминания о России, любовь к ней являются подтверждением слов И.С. Шмелева о чувствах людей, оказавшихся в эмиграции. «Вот уже несколько дней с парижским небом случилось необыкновенное, – пишет К. Бальмонт. – Я любуюсь и смотрю на снежные белые крыши, прохожу по хрустящему снегу, ломаю тонкие льдинки. И нежно-молочная гладь говорит о силе снега, о внутреннем колдовании зимы… Моя мысль уходит далеко. Туда, в белую Москву и подмосковные места, где много было трудно, как никогда, но где душа моя пела…» [1].
Далее в очерке автор поэтически взволнованно воссоздает все, что «было трудно», но «душа пела»: «Тринадцать месяцев назад, лютый зимний холод, подмосковное местечко Н., занесенное снегом. И березы, и дубы, и липы, и ели в белой бахроме… Дома холодно. И как ни морозно на дворе, надеваешь рваную шубу и идешь греться среди снежных пространств, усыпанных алмазами, покрытых осыпью хризолитов, на которые смотришь. И вот цветной сон – и голубой, и алый, и белый завладевает через глаза сердцем, и душа уходит в мир, где ни холода, ни тепла, а лишь цветистые видения и текущая сила воспоминаний и надежд» [1].
Очерки К. Бальмонта типологически близки в идейном плане заметкам И.С. Шмелева «Сидя на берегу», опубликованным в этот же период в газете «Возрождение». Как и у К. Бальмонта, ностальгией пронизаны воспоминания И.С. Шмелева о России, в них перемежается картинная красочность с божественной возвышенностью образа родины. «В лесной тишине, куда приходишь в положенные сроки, думаю я о прошлом. Закрою глаза – и вижу: сталкиваясь, цепляясь, позванивая мягко, плывут и блещут тяжелые хоругви, святые знамена церкви. Золото, серебро литое, темный, как вишня, бархат грузным шитьем окованы. Идет не идет – зыбится океан народа. Под золотыми крестами святого леса церковных знамен – грозды цветов осенних: георгины, пионы, астры, – заботливо собраны росистым утром девичьими руками московки светлоглазой. “Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный!” Святое идет в цветах. Святое в Песне» [7].
Образ далекой России становится близким и дорогим и в очерках К.Д. Бальмонта, и в заметках И.С. Шмелева, и в обзорах литературы, представленных на страницах периодических изданий того времени.
В рецензии на книгу И.С. Шмелева «Неупиваемая чаша» (Париж, 1921), напечатанной на страницах газеты «Воля России», внимание автора сфокусировано на художественных средствах, с помощью которых писателем воссоздается ностальгический образ России, пронизанный грустью невозвратности, ненавистью потрясших страну перемен и любовью, которая, как «чарующий призрак», пронизывает все повествование. «В новой книге Шмелева поражает чудесный слог, проникнутый до мельчайших подробностей духом ХVIII столетия, всеми его милыми вычурами, простодушными сентиментальностями и мистическими отступлениями… Несмотря на отдаленность эпохи, такими близкими и понятными встают перед нами чувства молодого парня Ильи, почуявшего в себе искру Божью, и его стремление посвятить всю жизнь родному народу» [5].
Можно сказать, что, несмотря на достаточно широкий круг обсуждаемых вопросов и непрекращающиеся дискуссии, на страницах периодических изданий русского зарубежья 20-х гг. прошлого века по поводу исторических перемен, публицистика Ивана Шмелева переводила все словесные баталии в русло духовного общения, необходимого для сохранения «русской души».
По мысли И.С. Шмелева, русская душа необыкновенна по своей сути, она страстная и одновременно созерцательная. Это душа художника и певца, музыканта и лицедея, юродивого и кликуши, богатыря и дерзателя. Она много вкусила и пережила, и переживет еще. Истинным носителем русской души и Бога является народ, время которого непременно наступит. В эмиграции интеллигенция «растеряла» русскую душу, и И.С. Шмелев не упрекает ее в этом, а прямо ставит в вину ей многое из того, что случилось.
Однако, считает он, есть категория людей «в сердце с Россией»: «Они Бога в душе несут, душу России хранят в себе. Они за нее боролись безотчетно, отдавали себя в порыве. Они Правду России чают. Из них первые – горячая молодежь наша. Из них первые – истинные сыны народа, не от сословий и не от классов, а от целой, живой России. И вольные сыны степи и рек вольных, буйная кровь России, с Тихого Дона и Кубани, – казачья сила, покорная лишь своей воле да России. И от трудовой земли – крестьяне, от Креста-Христа принявшие крестное свое имя. И – ото всех русских состояний и сословий, молодые. Они, лучшие, принимали и смерть, и муки. Они на своих знаменах унесли незапятнанное, полное тайны имя – Россия. Они не сдались. Они вернут России ее Имя-Душу! Они связаны с нею кровавой пуповиной!» [8]
Писатель убежден в том, что время возрождения России наступит только через возвращение к вере, православию. А.А. Безруков в своей монографической работе исследует феномен возвращения к православности в русской классике и дает научное определение: «Православность есть форма христианского на основе веры и догматов православной церкви – мировосприятия и жизнеустремления, отвечающая запросам и особенностям национального бытия, адекватно отражающая и выражающая сущностные начала русской духовности, потребности ее утверждения и развития» [2]. Исследователь убедительно и последовательно формулирует теоретические концепты, практически доказывающие духовную составляющую в русской классике, обогащенную страданием и верой.
На наш взгляд, исследование А.А. Безрукова напрямую связано и с идеями И.С. Шмелева о возвращении веры и духовности, которая поможет возрождению души России. Поистине молитвенно звучат слова писателя: «Время идет, придет. Россия будет! Мы ее будем делать! Братски, во славу Христову делать! По деревням и городам, по всей земле русской пронесем мы Слово творящее, понесем в рубищах, понесем в огне веры, – и выбьем искры, и раздуется святое пламя!.. Опаляющим огнем веры зажжем душу свою и народа душу, – и отвалим от гроба камень, дадим волю живым ключам. Как загорится тогда Россия, Живого Бога познавшая!» [8]
Как отмечают исследователи творчества И.С. Шмелева, в эмиграции писатель проникся глубокой верой, пришел к утешению и успокоению через православие. В вышеупомянутой статье «Душа Родины» исключительно важными являются его рассуждения о вере и церкви как некоем духовном стрежне, позволяющем держаться в самое безнадежное время: «В великом сонме Святых России, кого своими назвал народ, вы признаете его дух и плоть: Сергия Радонежского, Тихона Задонского, Нила Сорского, Митрофания Воронежского, Серафима Саровского… Они, Святые, открывают тайник народного Идеала, русского Идеала, народной Правды… “По-Божьи” – заветное слово русского народа. Вот с этим-то – “по-Божьи” – творчество наше так и войдет – и уже входит! – в сокровищницу мира, и этой печати Божьей не отнять от нас, не сорвать, как бы кто ни дерзал на это! Вот что такое – Светлая сторона души России!» [8]
Публицистика И.С. Шмелева – это проникновенные размышления о насущном, о вечном, это часть миросознания художника, это и есть «душа писателя» – «душа России», сокровенные идеи, коими для него в 20-е гг. прошлого столетия стали судьба поколения, оказавшегося на чужбине, судьба России, неразделимая и проникновенная любовь к ней, надежда на духовное возрождение нового поколения через православие и веру.
Библиографический список:
1. Бальмонт К. Белый сон // Воля России. – 1921. – 23 января (№ 110). – С. 3.
2. Безруков А.А. Возвращение к православности и категория страдания в русской классике ХIХ века. – М., 2005.
3. Ильин И.А. О тьме и просветлении. Книга художественной критики. Собр. соч.: в 10 т. – М., 1993. – Т. 6.
4. Кокухин Н. «Как же я томлюсь по России» / «Переписка двух Иванов» (Ивана Шмелева и Ивана Ильина) [Электронный ресурс]. – http://subscribe.ru/group/ eruditsiya-i-tvorchestvo/11455176/.
5. Рецензия на книгу И. Шмелева «Неупиваемая чаша» // Воля России. – 1921. – 17 февраля. – С. 5.
6. Солнцева Н.М. Иван Шмелев. Жизнеописание. – М., 2007 [Электронный ресурс] // Портал «Слово». – http://www.portal-slovo.ru/ philology/39745.php.
7. Шмелев И. Сидя на берегу // Возрождение. – 1925. – № 28 (30 июня). – С. 3.
8. Шмелев И.С. Душа Родины [Электронный ресурс]. – http://smalt.karelia.ru/~ filolog/shmelev/texts/publ/publ.htm.
9. Шмелев И.С. Русское дело [Электронный ресурс]. – http://ruslit.traumlib-rary.net/book/shmelev-ss05-02/shmelev-ss05-02.html#work005003.
София культуры
Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ. Введение в философию Православия
(очерки о Любви, Любви к Свободе и Истине)
Продолжение
Воля к жизни
Ошибка некоторых мыслителей, пытающихся выяснить роль воли в жизни, заключается в том, что верное представление о ней, как о творческой силе, соединялось с мнением, что это объективная, независимая и неразумная сила. Но волю, лежащую в основании сил сотворения мира, нельзя отделять от воли его Создателя. Вспомните, сказано: «В начале было Слово…».
Воля, действующая в творении, есть только отражение, эманация Божьей воли. Она есть слияние действий великого множества служебных сил, обеспечивающих созидание и удержание кирпичиков бытия, которые, вступая во взаимодействие между собой, создают всё более разнообразные и всё более сложные системы. Волю, действующую в элементах первых царств бытия, например в минералах, в атомах, нельзя назвать неразумной и не чувствующей. Просто здесь на первый план выступает активность, а чувствительность и разумность остаются ещё не проявленными. Хотя уже на уровне элементарных частиц начинают действовать силы притяжения и отталкивания. Частицы чувствуют подобных себе, потому и притягиваются друг к другу, создавая системы. Они, в свою очередь, взаимодействуя друг с другом, создают из систем первого уровня системы второго, затем третьего, четвёртого – и высших порядков.
Это только кажется, что воля – слепая сила. Нет, она не только волит, но и чувствует, и разумеет. Слепой воля становится тогда, когда человеческий дух утрачивает связь с духом Божьим. А вне мира, сотворённого по произволу тёмного духа, и в творении, и в душах святых подвижников воля продолжает вполне разумно чувствовать то, что ей необходимо делать для исполнения и на земле, как на Небе, воли Творца.
Мощь человеческого духа настолько велика, что возможности всех иных служебных духов не в состоянии ему противостоять. Ситуация так обстоит потому, что в отличие от всех иных сил, действующих в творении, только человек был создан по образу и подобию Создателя, только он был наделён творческой, а не служебной активностью. Человек выше любого ангела, но лишь когда его воля является выражением воли Божьей.
Ошибка нашего восприятия заключается в том, что возможность действовать произвольно нами расценивается как признак свободы. Но в действительности человек, являясь носителем Божьего образа, может действовать себе во благо, только исполняя волю Создателя. По большому счёту, мы проявляем свою волю лишь тогда, когда она совпадает с волей Божьей. В противном случае наша воля к жизни обращается в волю к смерти. И все действия, не соответствующие заповедям, наносят часто невосполнимый ущерб нашей же жизни.
Как получилось, что человек, наделённый властью Царя творения, которому он должен был обеспечить устремление к вершинам бытия, вдруг, по наущению змия, захотел стать, «как бог». Что его прельстило? Может быть, его подогревало и поторапливало желание немедленного результата, то есть вместо длительного пути восхождения к Творцу – уподобиться Ему мгновенно.
