Собственный Его Императорского Величества Конвой. История частей непосредственной охраны российских государей от основания при Александре I до расформирования после отречения Николая II. 1811— 1917 бесплатное чтение
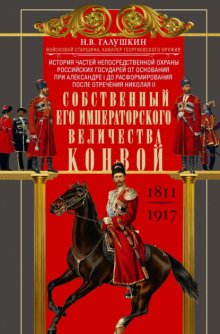
На линии фронта. Правда о войне
© Художественное оформление, ЗАО «Центрполиграф», 2025
Глава 1
Черноморцы (1811–1861)
По Высочайшему повелению днем старшинства всего Императорского Конвоя считается дата основания Гвардейской Черноморской казачьей сотни 18 мая 1811 года.
Но уже в 1775 году в истории Русской Армии упоминается о Конвое Императрицы Екатерины Великой.
В 1774 году, по предложению князя Потемкина-Таврического, были сформированы из казаков знатнейших фамилий две команды – Донская и Чугуевская, каждая численностью 65 человек.
Команды эти в 1775 году были командированы в Москву на торжество празднования мира при Кучук-Кайнарджи. По прибытии в Москву казачьи команды, с выбранным из гусарских полков Лейб-эскадроном, составили Собственный Ее Величества Конвой.
По окончании московских торжеств Конвой Императрицы не был расформирован, а переведен на постоянное картирование в Санкт-Петербург. В 1776 году утверждены штаты этих команд «для конвоирования Императрицы Екатерины II, во время проездов Ее из Санкт-Петербурга в Царское Село, а во время нахождения Ее Величества в Царском Селе для содержания караулов и разъездов».
В ноябре 1796 года, по вступлении на Престол Государя Императора Павла I, Донская и Чугуевская «Придворные команды», а также Гатчинские эскадроны, из так называемого «Гатчинского гарнизона», вошли в состав вновь учрежденного Лейб-Гусарского Казачьего полка, который Высочайше поведено «считать на том же основании, как Конная Гвардия».
В Высочайшем приказе от 25 января 1797 года, по случаю предстоящей Коронации Императора Павла I, сказано: «Завтрашнего числа, в десятом часу, быть готовому артиллерийскому батальону и выступить в Москву. Послезавтра Лейб-Гусарскому и Лейб-Казачьему полкам, в том же часу, оставляя из Лейб-Гусарского полка число, нужное для Конвоя Его Величества».
Приказ этот говорит о раздвоении Лейб-Гусарского Казачьего полка на Лейб-Гусарский и Лейб-Казачий, которые хотя и продолжали нести службу Высочайшей охраны, но уже не составляли Собственного Императорского Конвоя. По штату 1798 года Л.-Гв. Казачий полк состоял из двух эскадронов. В следующем году Высочайше поведено иметь три эскадрона. В 1811 году – четыре эскадрона, для чего была сформирована Гвардейская Черноморская казачья сотня.
По поводу сформирования Гвардейской Черноморской казачьей сотни Военный Министр сообщил 18 мая 1811 года херсонскому военному губернатору следующее Высочайшее повеление:
«Его Императорское Величество, в изъявление Монаршего Своего благоволения к Войску Черноморскому, за отличные подвиги их против врагов Отечества нашего, во многих случаях оказанные, желает иметь при себе, в числе Гвардии своей, конных сотню казаков от Войска Черноморского из лучших людей, под командою из их же войска одного штаб-офицера и потребного числа офицеров из отличнейших людей; команда сия будет здесь пользоваться всеми теми правами и преимуществами, какими пользуется и вся прочая Гвардия.
Во исполнение сего Монаршего соизволения покорнейше прошу Ваше Сиятельство объявить Войску таковую к нему Монаршую милость, уведомить, что командовать тою сотней назначен уже находящийся ныне здесь (то есть в Санкт-Петербурге) войсковой полковник Бурсак 2-й, коего с сим же к Вашему Сиятельству препровождаю. Покорнейше прошу отправить его в войско для выбора лучших людей с исправною сбруею и с ним же послать одного казака в образцовой обмундировке, предписать атаману того войска, чтобы выбор сей сотни казаков и офицеров сделан был возможнее поспешней».
Черноморское Казачье Войско в то время, когда ему было оказано Высочайшее благоволение «за отличные его подвиги», находилось на Кубани. В 1787 году из бывшего Запорожского Казачьего Войска было сформировано «Войско Верных Казаков». За отличие в войну с Турцией в 1787–1791 годах, особенно на Черном море, Войско получило наименование Черноморского. 30 июня 1792 года Черноморскому Войску Императрицей Екатериной Великой была пожалована на «вечное владение» земля на Кубани, куда Черноморцы, во главе со своим Кошевым Атаманом Захаром Чепегой, были переселены.
Высочайшая грамота, пожалованная Черноморцам, гласит:
«Верного Нашего Войска Черноморского Кошевому Атаману, Старшинам и всему Войску Нашего Императорского Величества милостивое слово.
Усердная и ревностная Войска Черноморского Нам служба, доказанная в течение благополучно оконченной с Портою оттоманскою войны, храбрыми и мужественными на суше и водах подвигами, ненарушимая верность, строгое повиновение начальству и похвальное поведение от самого того времени, как сие Войско, по воле Нашей, покойным генерал-фельдмаршалом князем Григорием Александровичем Потемкиным-Таврическим учреждено, приобрели особливое Наше внимание и милость. Мы потому, желая воздать заслугам Войска Черноморского утверждением всегдашнего его благосостояния и доставлением способов к благополучному пребыванию, всемилостивейше пожаловали оному в вечное владение состоящий в области Таврической остров Фанагорию со всей землей, лежащей на правой стороне реки Кубани, от устья ее к Усть-Аабинскому редуту, так чтобы с одной стороны река Кубань, с другой же Азовское море до Ейского городка служили границею Войсковой земли. С прочих же сторон разграничение указали Мы делать генерал-губернатору Кавказскому и губернаторам Екатеринославскому и Таврическому через землемеров, с депутатами от Войска Донского и Черноморского.
Все стоящие на упомянутой Нами пожалованной земле всякого рода угодья, на водах же рыбные ловли остаются в точном и полном владении и распоряжении Войска Черноморского, исключая только места для крепости на острове Фанагории и для другой, при реке Кубани, с подлежащим для каждой выгоном, которые для вящей Войску и особливо на случай военной безопасности сооружены быть имеют. Войску Черноморскому принадлежит бдение и стража пограничная от набегов народов закубанских.
На производство жалованья Кошевому Атаману и Войсковым Старшинам по приложенной росписи, на употребляемые к содержанию стражи отряды и прочие по Войску нужные расходы повелели Мы отпускать из казны Нашей по 20 000 рублей в год.
Желаем Мы, чтоб земское управление сего Войска, для лучшего порядка и благоустройства, соображаемо было с изданными от Нас учреждениями о управлении губерний.
Мы предоставляем Правительству Войсковому расправу и наказание впадающих в погрешности в Войске, но важных преступников повелеваем, для осуждения по законам, отсылать к губернатору Таврическому. Мы всемилостивейше позволяем Войску Черноморскому пользоваться свободною внутреннею торговлею и вольною продажею вина на Войсковых землях.
Всемилостивейше жалуем Войску Черноморскому знамя Войсковое и литавры, подтверждая также употребление и тех знамен, булавы, перначей и Войсковой печати, которые оному от покойного генерал-фельдмаршала князя Григория Александровича Потемкина-Таврического по воле Нашей доставлены.
Мы надеемся, что Войско Черноморское, соответствуя Монаршему Нашему о нем попечению, потщится не только бдительным охранением границ соблюсти имя храбрых воинов, но и всемерно употребить старание заслужить звание добрых и полезных граждан внутренним благоустройством и распространением семейственного жития.
Подлинный документ подписан собственною рукою Государыни Императрицы: ЕКАТЕРИНА II».
Согласно Высочайшему повелению Государя Императора Александра I, из этих Черноморцев сформированная Гвардейская сотня, под командой войскового полковника Бурсака 2-го, в составе: штаб-офицер 1, обер-офицеров 3, урядников 14, казаков 100, лошадей строевых 118, столько же «подъемных», 27 февраля 1812 года прибыла в Санкт-Петербург и была зачислена Л.-Гв. в Казачий полк 4-м эскадроном.
Через 18 дней после своего прибытия в Санкт-Петербург Черноморцы вновь выступили в поход.
Наполеон со своими полчищами двинулся на Русскую землю, и Россия вступила в Великую Отечественную войну.
16 марта 1812 года Император Александр I произвел смотр всем полкам Гвардии, после чего Л.-Гв. Казачий полк, в составе трех эскадронов Донцов и одного Черноморского, выступил на Вильно, получив назначение быть в авангарде 3-го корпуса генерала Тучкова, находившегося у города Троки.
Из авангарда полк был выдвинут к реке Неман, где вступил в бой с войсками маршала Даву.
14 июня эскадроны полка атаковали французских гусар. Взятые казаками в плен семь неприятельских гусар были первыми французскими пленными в Отечественной войне.
16 июня, при переправе через реку Вилию, несколько французских конноегерских эскадронов отрезали находившуюся сзади всех Черноморскую сотню и хотели ее окружить, но стремительной атакой эскадрона Лейб-Казаков и полуэскадрона Лейб-Улан Черноморцы были выручены и в свою очередь атаковали егерей. Все шесть эскадронов французской конницы были разбиты, и более ста неприятельских кавалеристов взято в плен.
В последующих боях Черноморские казаки особенно отличились у деревни Деюны, сдержав натиск неприятельской кавалерии, и деревни Свече, отбросив авангард французов. Прикрывая отступление нашей 1-й армии, они принимали участие в боях у Витебска. В этих боях были ранены сотник Мазуренко и вахмистр Завадовский.
За мужество и храбрость, проявленную в арьергардных боях при отходе Русской Армии к Смоленску, командир Гвардейской Черноморской сотни полковник Бурсак 2-й был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени и удостоен Высочайшего благоволения. Хорунжий Матешевский получил орден Св. Анны 3-й степени. Вахмистры: Николай Завадовский – первый офицерский чин, Степан Белый – «Знак отличия Военного Ордена».
С первых же дней Отечественной войны, в ежедневных боях, Лейб-Казаки и Черноморцы проявили бесчисленное множество подвигов, но их атака 7 августа, совместно с Мариупольскими гусарами при защите Смоленска, когда были уничтожены два французских пехотных полка у Валупиной горы, и беззаветная храбрость, оказанная 26 августа, в знаменитом Бородинском сражении, занесены на почетные страницы Русской военной истории.
В самый критический момент Бородинской битвы 1-й Кавалерийский корпус Уварова нанес сильный удар французам на их левый фланг и тыл. Первая атака, остановившая зарвавшегося противника, выпала на долю полков Л.-Гв. Гусарского и Л.-Гв. Казачьего, причем два взвода Черноморцев, под командой сотника Безкровного, врубились во французскую батарею и, захватив два орудия, взяли в плен одного кавалерийского полковника, одного офицера и девять солдат артиллеристов. В этой атаке под сотником Безкровным был убит картечью конь, а сам он контужен в левую ногу.
После Бородинского сражения Черноморцы с исключительной выдержкой и стойкостью сдерживали натиск врага, когда 28 августа была выслана в цепь вся Гвардейская Черноморская сотня.
В период временного пребывания в Москве Наполеона Черноморцы имели особую задачу, находясь в партизанском отряде. 6 октября, при Тарутине, Черноморцы атаковали части корпуса Мюрата, взяв действующую французскую батарею. За бой у Тарутина полковник Бурсак был награжден орденом Св. Анны 2-й степени, а раненный в руку сотник Завадовский орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. 28 октября Лейб-Казаки и Черноморцы приняли участие в разгроме корпуса вице-короля на реке Вопи и в преследовании неприятеля из пределов России. В половине ноября состоялась злополучная для армии Наполеона переправа через Березину.
Находясь постоянно в авангарде нашей армии, Черноморцы подошли к городу Юрбургу. Город был занят сильным отрядом противника. Полковник Бурсак, не ожидая подхода главных сил нашего авангарда, немедленно атаковал французов и занял город.
В декабре Черноморцы, открыв движение корпуса маршала Макдональда, разбили его передовой отряд, захватив с собой корпусный магазин с провиантом, причем особенно отличился своей доблестью сотник Безкровный.
Прибывший в Вильно Император Александр I отдал приказ Главнокомандующему Русской Армией вступить в пределы Пруссии. 1 января 1813 года, после торжественного молебна, Русская Армия двинулась через Неман на город Плоцк.
Предстоящая в 1813 году кампания для Л.-Гв. Казачьего полка совершилась при обстоятельствах, нисколько не похожих на те условия, при которых полк воевал в минувшем 1812 году. Полк получил лестное назначение состоять в Конвое Его Величества. Эту почетную службу Донцы и Черноморцы несли с честью в 1813 и 1814 годах, следуя всюду за Государем.
12 апреля 1813 года Император Александр I торжественно вступил в город Дрезден. Л.-Гв. Казачий полк составлял Императорский Конвой. В Дрездене Черноморцы были осчастливлены Высочайшей наградой, за «их усердную боевую службу». Управляющему Военным Министерством генерал-лейтенанту князю Горчакову был отдан следующий указ:
«В награду отличной службы состоявшей в числе Гвардии Черноморской казачьей сотне и во изъявление благоволения Нашего к Войску казачьему Черноморскому, повелеваем содержать оную во всем на положении Лейб-Казачьего полка, оставив Черноморцам их историческую форму в настоящем виде. Служащих же ныне в Черноморской сотне офицеров и командира оной переименовать в чины противу Лейб-Казачьего полка.
Город Дрезден. Апреля 25 дня 1813 года.
АЛЕКСАНДР».
На основании Высочайшего Указа, изданного Государем Императором Александром I в городе Дрездене 25 апреля 1813 года, Гвардейская Черноморская сотня была переименована Лейб-Гвардии в Черноморский эскадрон.
14 августа в сражении у Дрездена и 17—18-го в победоносной для Русской Гвардии Кульмской битве Л.-Гв. Казачий полк был в Конвое Государя Императора и непосредственного участия в бою не принимал, но Черноморского казачьего эскадрона поручики Безкровный и Завадовский, согласно их просьбе, с особого разрешения Государя Императора были в Кульмском бою прикомандированы к 4-му Черноморскому казачьему полку, входившему в состав конного корпуса генерала графа Платова.
Государь Император Александр I, осматривая поле Кульмского сражения, нашел поручика Безкровного, тяжело раненного в бок неприятельской картечью, и его личным распоряжением герою Л.-Гв. Черноморского казачьего эскадрона была оказана срочная медицинская помощь.
Будучи младшим офицером Черноморской Гвардии, АД. Безкровный был награжден золотою саблею с надписью «За храбрость» и орденом Св. Владимира 4-й степени. В дальнейшей своей боевой службе – бриллиантовым перстнем «стоимостью в 1000 рублей», 5 тысячами рублей деньгами и орденом Св. Анны.
…После Кульмского боя и разгрома войск Макдональда при Кацбахе, 4 (17) октября, произошла знаменитая Битва народов под Лейпцигом – битва, во время которой Лейб-Казаки и Черноморцы своею доблестью и беззаветной храбростью покрыли себя неувядаемой славой.
В бою под Лейпцигом русские колонны первыми двинулись вперед на Вахау и Клеберг, выбили оттуда французов и завладели их позицией. Но дальнейшее продвижение русских войск было остановлено жестоким огнем французских батарей. Перейдя в контратаку, французы вновь завладели Вахау и Клебергом. Наполеон, сосредоточив главные свои силы против нашего центра, открыл по нему сильный огонь всей своей артиллерией.
За центром же наших войск, на горе у деревни Госсы, находился Император Александр I с двумя союзными монархами. Вблизи Государя был его Конвой, Л.-Гв. Казачий полк – Донцы и Черноморцы.
Развивая свой успех, Наполеон двинул к Вахау кавалерийский корпус Латур-Мабура, всю свою конную гвардию и 60 орудий. Кавалерийская атака была поручена Мюрату, и вся масса французской конницы должна была обрушиться на наш центр. Русская пехота мужественно встретила врага, свернувшись в каре. Атакующие встречены картечью и штыками, но массы французских кирасир и драгун не останавливаются…
Каре пехоты смяты, наша легкая Гвардейская кавалерийская дивизия, не успевшая еще развернуться, была сама атакована. Французская конница шла неудержимым потоком: на ее пути все было смято и уничтожено, и наш боевой центр прорван.
Наполеон торжествовал и уже послал в Лейпциг королю Саксонскому поздравление, не сомневаясь в окончательной победе.
Прорвав центр, атакующие летели прямо на деревню Госсу, у которой на возвышении, за плотиной, находился Император Александр I со Своей свитой и Конвоем. Вблизи, кроме четырех эскадронов Л.-Гв. Казачьего полка, не было других войск. Неприятель мчался прямо на свиту Государя…
В этот критический момент боя Император Александр I, сохранив полное самообладание, приказал: графу Орлову-Денисову скакать к Барклаю-де-Толли, с повелением немедленно к отступившему центру выдвинуть тяжелую конницу, а начальнику резервной артиллерии генералу Сухозанету подтянуть все батареи – обратился к единственной своей охране, Лейб-Казакам и Черноморцам. «Позвать полковника Ефремова!» – услышали казаки Государевы слова.
Полковник Ефремов, за отсутствием командира Л.-Гв. Казачьего полка, стоял перед полком. Он поскакал на холм и остановился перед Государем. Государь Император Александр I повелел полку идти вперед через плотину и атаковать неприятельскую кавалерию во фланг.
Выслушав Царское приказание, полковник Ефремов быстро повернул назад. «Полк! – скомандовал он на скаку. – Отделениями, по четыре направо, заезжай! За мной!» И, не ожидая, пока тронется полк, понесся в сторону неприятеля. «Не отставай от командира!» – раздалось в рядах полка, и казаки бросились в атаку. Путь полку пересекал топкий болотистый ручей, который обскакать было нельзя.
Эскадроны рассыпались по берегу и, кто где стоял, так и ринулись вперед: кто пробирался плотиной, кто плыл, где поглубже, или, забравшись в тину, барахтался в ней. Преодолев препятствие и скрыв свое движение тянувшейся со стороны противника возвышенностью, полк приблизился к французам.
Неприятельская кавалерия, не подозревая удара, неслась вперед. Один из французских кирасирских полков пересекал дорогу Л.-Гв. Казачьему полку. «Эскадрон! – громко скомандовал полковник Ефремов. – Эскадрон! – повторил он. – Благословляю!..»
Ефремов высоко поднял свою обнаженную саблю и сделал ею в воздухе крестное знамение. Казаки, взяв наперевес свои длинные пики, с гиком ринулись на латников и врубились в их ряды, атаковав фланг французского кирасирского полка. Пораженная этим неожиданным ударом, неприятельская кавалерия заколебалась; первые ряды ее смяты и рассеяны, остальные остановились и, атакованные одновременно с фронта русской конницей, а с другого фланга прусскими кирасирским и драгунским полками, повернули назад. Разбитая французская кавалерия, преследуемая огнем, с противоположных берегов озера и ручья у деревни Госсы, 112 орудий генерала Сухозанета, в беспорядке отступила за свои пехотные колонны.
Когда, по сигналу своих трубачей, собрались все четыре эскадрона Л.-Гв. Казачьего полка, только что совершившего геройский подвиг, то строй полка был неузнаваем. В окровавленных мундирах, в грязи с ног до головы, многие без киверов, со сломанными пиками, с лошадьми без всадников – полк был величественно воински красив и горд сознанием того, что доблестью своей спас жизнь Государя Императора Александра I и честь Русской Армии.
Желая воздать полку свое Царское благоволение и удостовериться в его потерях, Император Александр I приказал полку пройти мимо него и…
- Восторгом горя, пред глазами Царя,
- Не спеша, в окровавленном строе,
- Боль от ран заглушив, лишь ряды сократив,
- Прошли Лейпцигской битвы герои…
На высоком холме выделялась величавая фигура Императора, окруженная большой свитой. Остановив полк, полковник Ефремов поскакал на холм. Эскадроны полка развернулись в длинную линию. Государь Император, приняв рапорт от полковника Ефремова, осенил себя крестным знамением. Вместе с Государем набожно крестились Донцы и Черноморцы. Ефремов вернулся к полку, получив из рук Его Величества орден Св. Георгия 3-й степени.
Когда смолкло казачье «ура», вызванное появлением перед полком нового Георгиевского кавалера, полковник Ефремов произнес: «Казаки! Государь благодарит всех вас за ваш нынешний славный подвиг. Сказал Он мне, что вами всеми доволен в душе Своей и в сердце. Благодарит Он Бога, что вы из страшного смертного боя возвратились с маловажной потерей; молит, чтобы вы и в будущих ваших подвигах были так же счастливы, как и сегодня!»
Кроме полковника Ефремова, в тот же день полк украсился Георгиевскими кавалерами, в числе коих был доблестный командир Л.-Гв. Черноморского казачьего эскадрона полковник Бурсак. Все офицеры полка, согласно Высочайшему повелению, получили небывалую в Русской Армии награду: «по их желанию и выбору».
Офицеры Л.-Гв. Черноморского казачьего эскадрона: ротмистр Ляшенко, поручики – Безкровный, раненный в грудь навылет, и Матешевский, за атаку под Лейпцигом в день 4 (17) октября, были награждены орденом Св. Владимира 4-й степени. Многим казакам полка были пожалованы «Знаки отличия Военного Ордена».
После Лейпцига русские войска подошли 24 октября к Франкфурту-на-Майне, и в тот же день состоялся торжественный въезд в город Русского Императора.
Начатые с Наполеоном переговоры о мире не дали удовлетворительных результатов, и Император Александр I приказал своей армии вступить в пределы Франции.
В конце ноября союзные армии направились к Рейну. Государь выехал из Франкфурта в Карлсруэ правым берегом Рейна; левая сторона реки находилась под наблюдением французских войск, и поэтому, для охраны и конвоирования Императорского поезда, вдоль всей дороги стояли посты от всех четырех эскадронов Л.-Гв. Казачьего полка.
20 декабря союзные войска в разных местах перешли Рейн. Русская Гвардия перешла его на Новый год, в присутствии Государя Императора Александра I.
13 марта 1814 года авангард наших войск выбил из Фер-Шампенуаза неприятельские корпуса Мортье и Мармона. К вечеру Государь, в сопровождении Своего Конвоя, прибыл в Фер-Шампенуаз. Кругом была полная тишина, и бой прекратился. Государь осматривал окрестности. Императорская свита сошла с лошадей. Конвой получил приказание расседлывать. Неожиданно раздались ружейные выстрелы в том направлении, где несколько часов назад победоносно прошли наши войска. Император Александр I лично выехал на окраину Фер-Шампенуаза и увидел несколько французских пехотных колонн. По тревоге казаки Конвоя прискакали к Государю.
Отдав приказание выдвинуть к Фер-Шампенуазу нашу пехоту и артиллерию, Император Александр I, так же как и в Лейпцигском сражении, обратился к Своему Конвою и повелел атаковать неприятеля.
Залпы и штыки встретили Л.-Гв. Казачий полк, но казаки своей лихой атакой смяли французов, и неприятель положил оружие. Задние колонны противника, пытаясь прорваться, были поражены огнем нашей артиллерии и остановлены атакой гусар. Разбитый противник оказался французской дивизией генерала Пакто, предполагавшего в Фер-Шампенуазе соединиться с войсками императора Наполеона.
Прусский король, узнав о новом подвиге Л.-Гв. Казачьего полка, пожаловал полку награды. Командир Л.-Гв. Черноморского казачьего эскадрона, полковник Бурсак 2-й, получил высокий боевой орден «За военные заслуги» (Pour le Merite).
14 марта Император Александр I, конвоируемый Л.-Гв. Казачьим полком, выступил из Фер-Шампенуаза. 17 марта, сквозь дым гремевшей канонады, показались вершины парижских зданий. Через день явилась к Русскому Императору депутация города Парижа, заявившая о сдаче столицы Франции.
Утром 19 марта Государь со Свитой и Своим Конвоем двинулся к Парижу. По пути его следования выстроилась Русская Гвардия, восторженным «ура» встречавшая своего Монарха. Торжественное вступление победоносных русских войск в Париж открывал Конвой Государя, за которым следовала легкая Гвардейская кавалерийская дивизия, а за нею, в некотором расстоянии, Император Александр I, во главе остальных частей Русской Гвардии. За русскими войсками шли австрийцы, пруссаки и баденцы. На Елисейских Полях войска остановились и в обратном порядке прошли церемониальным маршем перед Русским Императором.
По окончании смотра Л.-Гв. Казачий полк стал биваком на Елисейских Полях, выставив караул в дом, занимаемый Государем, и в соседние части города Парижа.
По заключении мира 18 мая Император Александр I произвел смотр всему Гвардейскому Корпусу и объявил ему о возвращении в Россию. Лейб-Гвардии Казачий полк, в составе трех Донских и одного Черноморского эскадронов, выступил из Парижа 21 мая и прибыл в Санкт-Петербург 25 октября. 1 июня 1815 года, в связи с бегством Наполеона с острова Эльбы, по повелению Государя, полк был вновь направлен к западной границе Русской Империи. Дойдя до Вильно, полк получил приказание вернуться в Петербург, ввиду наступившего изменения в политической обстановке и окончательного поражения императора Франции Наполеона I.
В ознаменование славных подвигов Донцов и Черноморцев Л.-Гв. Казачьего полка в Отечественную войну и в кампании 1813 года полку были пожалованы Георгиевские серебряные трубы, при следующем Высочайшем Указе от 15 июня 1813 года: «Его Императорское Величество, во изъявление Монаршего благоволения к службе Л.-Гв. Казачьего полка и причисленному к оному Л.-Гв. Черноморскому эскадрону, неоднокоратно оказавшим отличие противу неприятеля в минувшую кампанию, всемилостивейше жалуем им серебряные трубы».
4 марта 1816 года Высочайше повелено: «Л.-Гв. Казачьему полку состоять из шести эскадронов Еойска Донского и одного эскадрона Еойска Черноморского, который считать седьмым».
В марте 1817 года Император Александр I повелел изготовить грамоту на пожалование Л.-Гв. Казачьему полку Георгиевского Штандарта с надписью: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года и за подвиг при Лейпциге в 4-й день октября 1813 года».
По неизвестной причине эта Высочайшая награда полку не была осуществлена при жизни Монарха.
В мае 1821 года Л.-Гв. Казачий полк, в составе Гвардейского Корпуса, выступил в поход к западной границе России, вследствие вспыхнувшей революции в Италии. 7-й Черноморский эскадрон оставался всю зиму в Минской губернии и только весной 1822 года вернулся в Петербург в свой полк.
19 ноября 1825 года Россия потеряла Императора Александра I Благословенного. Тело почившего Монарха находилось в Таганрогском соборе до 20 декабря. По маршруту, для следования в Петербург, ночлеги назначались в селах, имеющих церкви.
6 марта 1826 года Донские и Черноморский эскадроны Л.-Гв. Казачьего полка в полном составе принимали участие при встрече тела в Бозе почившего Императора Александра I и 14-го числа в торжественных похоронах Монарха, с именем которого был связан их исторический подвиг под Лейпцигом.
Одним из первых распоряжений вступившего на Престол Императора Николая Павловича было исполнение воли почившего Монарха о пожаловании Л.-Гв. Казачьему полку Георгиевского Штандарта. Высочайшей грамоты полк удостоился 19 марта. В этот день, ровно 12 лет тому назад, полк во главе Русской Императорской Армии вступил в Париж. В манеже Инженерного замка, 28 марта, Штандарт был освящен и торжественно вручен полку.
Государь Император Николай I, для облегчения службы Л.-Гв. Казачьему полку, 23 августа 1826 года Высочайше повелеть соизволил: «Сформировать из Черноморского Казачьего Войска один Рвард ейский полуэскадрон, на том самом основании, как состоит 7-й Черноморский эскадрон, и чтобы, по сформировании сего полуэскадрона ежегодно приходил в Петербург взвод на смену одного из взводов в эскадроне состоящих, который отправится на Родину».
7 апреля 1828 года Черноморцы выступили к границам Турции. 31 июля у местечка Сатуново эскадроны Л.-Гв. Казачьего полка перешли Дунай, вступив в пределы Турецкой империи. В Бабадаге 7-й Черноморский эскадрон остался в Конвое, при штабе Гвардейского Корпуса. С прибытием Великого Князя Михаила Павловича Черноморцы присоединились к полку.
От Кюстенджи, где войска наши расположились лагерем, Главнокомандующий приказал полку следовать форсированным маршем к Варне, в распоряжение командира осадного корпуса. 7-й Черноморский эскадрон был назначен в отряд генерал-адъютанта Бистрома 1-го, действовавший с южной стороны крепости. Эскадрон принимал участие во всех боевых действиях отряда генерала Бистрома, включительно до 29 сентября, когда турки, понеся поражение, оставили крепость Варну.
В боях под Варной пал смертью храбрых доблестный корнет Котляревский. Наиболее отличившиеся Черноморцы награждены: корнет Миргородский – орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом, унтер-офицер Шевченко – чином корнета.
По окончании войны с Турцией Л.-Гв. Казачий полк стал на зимние квартиры в Волынской губернии. В 1829 году Черноморский эскадрон нес трудную службу на кордонной линии по границе Подольской и Херсонской губерний, для охраны края от чумной заразы. В ноябре три эскадрона Донцов и 7-й Черноморский получили распоряжение прибыть в Петербург, но на подходе были остановлены и по Высочайшему повелению командированы в город Тирасполь, на кордоны по реке Днестру, вследствие появления чумы в Бессарабской области.
В 1830 году, сдав кордоны армейской пехоте, эскадроны были отозваны в Петербург.
Отдых продолжался недолго, ибо Л.-Гв. Казачий полк был направлен в Царство Польское, для действий против польских мятежников. Л.-Гв. 7-й Черноморский эскадрон следовал с полком на Вильно и Белосток, к местечку Тыкачино, из которого, по приказанию Великого Князя Михаила Павловича, вернулся в Белосток, для охраны Императорской Главной Квартиры.
Находясь в Белостоке, Черноморцы, помимо охраны Главной Квартиры, вели борьбу с появившимися в Белостокской области мятежниками. В бою с ними, 26 июля 1831 года, был убит поручик Шепель.
Из Белостока Черноморцы были откомандированы к войскам генерала Крейца под Варшаву, где и присоединились к Донским эскадронам своего полка. 25 августа, в день штурма Варшавы, собравшиеся эскадроны Л.-Гв. Казачьего полка находились в прикрытии наших батарей. По взятии Варшавы полк вошел в столицу Польши. По окончании военных действий в Царстве Польском Л.-Гв. Казачий полк был расквартирован в районе Режицы, куда и прибыл 24 ноября.
За отличия в Польскую кампанию 1831 года юнкера эскадрона Григорий Лавровский, Алексей Рашпиль, Мелентий Жвачка, Аркадий Виташевский и Иосиф Котляревский произведены в корнеты. Все чины эскадрона получили знаки отличия польского ордена «За военное достоинство» и медали за штурм Варшавы.
7 февраля Черноморцы с двумя эскадронами выступили из Режицы и ровно через месяц прибыли в Петербург, удостоившись за отличный порядок Высочайшего благоволения. С 1832 года для Черноморцев наступил долгий период мирной жизни.
1 июля 1842 года, по Высочайше утвержденному положению о Черноморском Казачьем Войске, определено иметь Гвардейский казачий Дивизион, которому числиться в составе Гвардейского Корпуса.
Дивизион комплектовался офицерами Черноморского Казачьего Войска, не менее трех лет прослужившими в армейских строевых частях. Никто из «посторонних», то есть не казаков-черноморцев, в Дивизион не допускался… Казаки выбирались в Гвардию «лучшие в целом войске, по поведению, виду и службе».
Согласно этому новому положению о Войске Черноморском, в том же 1842 году 7-й эскадрон был откомандирован от Лейб-Казачьего полка и развернут в самостоятельный Л.-Гв. Черноморский казачий дивизион.
В 1848 году дивизион выступил в поход к Брест-Литовску и далее в Варшаву. 8 мая 1849 года Государь Император изволил произвести смотр Донской и Черноморской Гвардии на Мокотовском поле, после чего полуэскадрон Черноморцев, под командой штабс-ротмистра Жилинского, был отправлен по железной дороге в город Краков, для конвоирования по Галиции Главнокомандующего Действующей Армией, генерал-фельдмаршала князя Варшавского. Полуэскадрон стал на постах по станциям почтового тракта между Краковом и местечком Дукло.
Государь Император, охраняемый Черноморцами от станции до станции, прибыл в Дукло одновременно с князем Варшавским. При обратном проезде Государя черноморские посты соединялись и следовали до Кракова. По окончании своей командировки полуэскадрон 16 июня прибыл в Варшаву, где находился весь дивизион.
В Царстве Польском Л.-Гв. Черноморский казачий дивизион оставался до поздней осени. В начале ноября 1-й эскадрон отбыл в Санкт-Петербург, а 2-й был командирован в Черноморию.
Черноморское Казачье Войско ожидало прибытия в Войско Государя Наследника Цесаревича. К июлю 2-й эскадрон прибыл в Екатеринодар, для конвоирования Его Императорского Высочества и подкрепления кордонной линии. Казаки были расставлены «при станциях, в приличных местах, развернутым фронтом, лицом к границе и неприятелю, т. е. к Кубани».
Конвой разделялся на четыре равные части и следовал впереди, по сторонам и сзади экипажа Государя Наследника Цесаревича. В наиболее опасных местах Конвой усиливался казачьей артиллерией. 16 сентября Наследник Цесаревич прибыл в Екатеринодар и на другой день принял почетных представителей Черноморского Казачьего Войска, которых от имени Государя Императора благодарил за верную службу. После молебна в Войсковом соборе Его Императорское Высочество, в мундире Л.-Гв. Черноморского дивизиона, произвел смотр выстроенным на площади войскам, на правом фланге которых находился 2-й Гвардейский эскадрон. Наследник Цесаревич лично командовал парадом.
В 1854 году Черноморцы были командированы в Эстляндию, на охрану побережья Санкт-Петербургской губернии, получив за примерную службу Высочайшую благодарность.
В 1856 году Л.-Гв. Черноморский казачий дивизион находился в Москве, в отряде войск Гвардии и гренадер, собранных там на время Священного коронования Императора Александра II.
Коронационные торжества имели для Черноморцев исключительное историческое значение. Находясь в составе Гвардейского Корпуса, Черноморцы отличной службой своей всегда удостаивались благоволения наших Государей. Ввиду этого, а также принимая во внимание, что добытые соединенной храбростью славных представителей Донской и Черноморской гвардии Георгиевский Штандарт и Георгиевские серебряные трубы при разворачивании Черноморцев в самостоятельную войсковую часть остались Л.-Гв. в Казачьем полку, перед коронационными торжествами гвардейское начальство ходатайствовало перед Государем Императором о пожаловании Черноморцам Георгиевского Штандарта и новых Георгиевских серебряных труб – «За их боевую и постоянную усердную службу и преданность Престолу».
На письменном докладе Военного Министра Государь Император Александр II Николаевич 28 августа 1856 года собственноручно изволил начертать карандашом: «В приказе на 30 августа внести пожалование Штандарта Л.-Гв. Черноморскому казачьему дивизиону, в память подвигов Л.-Гв. Казачьего полка, составу которого принадлежал».
Полотно Штандарта было изготовлено из желтого штофа, посередине вышит выпукло, блестками и битью, Российский Государственный герб, а по углам на алом поле, в венках, вензелевое изображение имени Государя Императора.
Вокруг полотнища Штандарта – надпись: «За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России в 1812 году и за подвиг, оказанный в сражении под Лейпцигом 4-го октября 1813 года». На нагрудном щите орла – алое поле с серебряным изображением святого Георгия Победоносца. Кругом полотнища серебряная густая бахрома. Древко Штандарта деревянное, зеленое с серебряными полосами вдоль, заканчивающееся вверху серебряным шаром и двуглавым орлом на нем, держащим Георгиевский крест 3-й степени. Под полотнищем Штандарта, согласно Высочайшему Указу 25 июня 1838 года, помещена круглая скоба, медно-позолоченная, прикрепленная наглухо, с надписью:
«1811 года Гвардейская Черноморская сотня.
За отличие при поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года и за подвиг, оказанный в сражении под Лейпцигом 4 октября 1813 года.
1856 Л.-Гв. Черноморского казачьего дивизиона».
О пожаловании Штандарта Высочайшая грамота гласит: «Нашему Л.-Гв. Черноморскому казачьему дивизиону. В ознаменование особого Монаршего благоволения Нашего Л.-Гв. к Черноморскому казачьему дивизиону всемилостивейше пожаловали Мы дивизиону сему приказом 30 августа 1856 года Георгиевский Штандарт. Повелеваем Штандарт сей употреблять на службу Нам и Отечеству с верностью и усердием, Российскому воинству свойственными. АЛЕКСАНДР». Торжественное пожалование Штандарта происходило в Георгиевском зале Зимнего дворца. В прибивке полотнища Штандарта участвовали Государь Император, Наследник Цесаревич и члены Императорского Дома. Государь сам привязал Георгиевскую ленту, отрезал концы и, разделив их на несколько кусков, один оставил себе, заметив: «Это старому Атаману».
Такие же кусочки ленты от Георгиевского Штандарта были даны Государем Императором Александром II Николаевичем Наследнику Цесаревичу и Великому Князю Александру Александровичу и присутствовавшим господам офицерам Л.-Гв. Черноморского казачьего дивизиона: полковнику Виташевскому, Лавровскому, штабс-ротмистру Голубу и поручику Рубашевскому. Передавая офицерам-черноморцам драгоценные обрезки Георгиевской ленты Штандарта, Государь Император изволил выразить пожелание «заслужить им Георгиевские кресты».
Но служить Государю и Родине Черноморцам пришлось уже под другим именем.
В 1857 году Л.-Гв. Черноморскому казачьему дивизиону Высочайше пожалованы новые Георгиевские серебряные трубы, так как старые, полученные ими в 1819 году, когда они составляли 7-й эскадрон Л.-Гв. Казачьего полка, остались в полку. Пожалование труб последовало 28 февраля 1857 года, при следующем указе: «Государь Император, во изъявление Монаршего Благоволения к службе Гвардейской Черноморской сотни, которая участвовала в Отечественной войне 1812–1814 гг. в составе Л.-Гв. казачьего полка и оказала неоднократно отличные подвиги против неприятеля, всемилостивейше пожаловать соизволил образованному из сей сотни Л.-Гв. Черноморскому казачьему дивизиону Георгиевские серебряные трубы с надписью: «Л.-Гв. Черноморскому казачьему дивизиону, за отличие, оказанное Гвардейской Черноморской сотней против неприятеля в 1813 году, в составе Л.-Гв. Казачьего полка», при чем Собственною Его Величества рукою было начертано: «По новому штату положено не три, а четыре трубача на эскадрон, следовательно, лишних не будет: поэтому дать Л.-Гв. Черноморскому дивизиону 9 новых труб с предполагаемой надписью».
По донесению командира 1-го эскадрона, полковника Виташевского, Черноморцами трубы были получены 27 октября 1859 года.
По Высочайшему повелению в феврале 1861 года Л.-Гв. Черноморский казачий дивизион соединен Л.-Гв. с Кавказским казачьим эскадроном Собственного Его Императорского Величества Конвоя.
Из офицеров Черноморского Дивизиона были переведены в Конвой: полковник Лавровский, штабс-ротмистр Рубашевский, поручик Шкуропатский, поручик Торгачев, корнет Зарецкий и корнет Скакун. Остальные офицеры были зачислены в полки вновь образованного Кубанского Казачьего Войска, с сохранением своего гвардейского мундира.
Глава 2
Горцы (1828–1882)
В Царствование Императора Николая Павловича был сформирован из высших представителей кавказских горцев полуэскадрон, предназначенный для конвойной службы при Высочайшем Дворе. Часть эта названа Л.-Гв. Кавказским Горским полуэскадроном, и начало ее существования относится к 1828 году.
Взвод горцев под командою ротмистра Султан-Азамат Гирея (потомка крымских ханов) прибыл в Петербург в мае 1829 года, в составе 3 обер-офицеров, 1 эффендия, 6 юнкеров (унтер-офицеров), 40 оруженосцев и 23 служителей, при 49 строевых и 30 заводных лошадях. Горский взвод был сформирован «из разных тамошних народов». В нем находились князья и уздени Большой и Малой Кабарды, чеченские, кумыкские мурзы и уздени ногайцев тохтамышевских, саблинских и народов Джамбулуковского, едисанского, караногайского и туркменского. Полтора месяца горцы отдыхали и знакомились с Петербургом, а затем приступили к строевым занятиям «на их манер».
По Высочайшему повелению взвод горцев находился в ведении шефа жандармов и командующего Императорской Главной Квартирой, генерал-адъютанта Бенкендорфа. 30 апреля 1830 года утвержден штат Л.-Гв. Кавказского Горского полуэскадрона.
По приказанию Государя Императора трубачи полуэскадрона должны были во всех действиях войск находиться при Его Величестве. Трубачи избирались из полков легкой Гвардейской кавалерийской дивизии, совершенно опытные в своей службе и отличного поведения. Эти трубачи, кроме кавалерийских сигналов, обязаны были знать и все пехотные и артиллерийские сигналы.
Дабы дать горцам Кавказа необходимое образование, согласно заявленному ими желанию, Высочайше повелено определить их в Дворянский полк. Но горцам, несмотря на все данные им привилегии, не особенно нравилось пребывание в Дворянском полку, и спустя некоторое время от них начали поступать заявления с просьбами увольнения обратно во взвод или на родину, а из Дворянского полка – жалобы на горцев «за их беспокойный характер» и просьба об откомандировании из полка.
Государь Император не изъявил на это своего согласия, так как, по собственному выражению Его Величества, «беспокойный характер» есть не преступление, а только «нравственный недостаток».
Горцы, оценив такое великодушие Государя Императора, просили о зачислении в военно-учебные заведения их детей и родственников, в результате чего было принято 40 малолетних горцев княжеских фамилий и определено в Дворянский полк, в Александровский, Павловский и 2-й Кадетские корпуса. В 1830—1840-х годах в кадетских корпусах воспитывалось 315 горцев. Помимо молодых горцев, учившихся в кадетских корпусах, офицеры и оруженосцы Л.-Гв. Кавказского полуэскадрона по собственному желанию изучали русский язык, под руководством избранного университетом кандидата, господина Грацилевского. Свободно объясняясь на персидском языке и хорошо зная арабский язык, Грацилевский составил и перевел для горцев на русский язык черкесский алфавит. Занятия начались с 1 сентября 1829 года, по окончании лагерных красносельских сборов.
Молодые горцы по окончании военно-учебных заведений прикомандировывались к Л.-Гв. Кавказскому эскадрону Конвоя Его Величества. С прикомандированием молодых горцев, окончивших образование в корпусах, к полуэскадрону Высочайше утверждено следующее положение: «Юнкеров Кавказского Горского полуэскадрона, производимых в офицеры, зачислять на основании существующего правила, т. е. по кавалерии, с жалованием по чинам и с разрешением проживать в семействах, где они влиянием своим будут небесполезны; вместе с тем производства в полуэскадроне уменьшить, так как горцы и мусульмане, учащиеся в корпусах, дадут офицеров, более соответствующих видам Правительства».
Ввиду особого состава Л.-Гв. Кавказского Горского полуэскадрона он был разделен на отдельные группы. Обычаи каждого племени были приняты во внимание. Кроме горской аристократии, в полуэскадрон, без согласия его чинов, не допускались представители «других наций и народов».
В декабре 1830 года Горский полуэскадрон, совместно с Гвардейским жандармским полуэскадроном и обозом Императорской Главной Квартиры, выступил в город Вильно. Прибыв в Вильно, полуэскадрон присоединился к штабу Гвардейского Корпуса, выступившего в поход против польских мятежников.
В ночь на 23 апреля у деревни Глинки горцы Конвоя Его Величества разбили роту польской пехоты. 1 мая у села Верпент они блестяще атаковали отряд польских партизан. В этой атаке командир полуэскадрона Хан Гирей получил два ранения в левый бок и в левую руку, а его ординарец убит. Выхватив из боя раненого своего командира и убитого юнкера, горцы с ожесточением врубились в мятежников и, загнав их в болото, полностью уничтожили. По этому поводу генерал Бенкендорф обратился к эффендию полуэскадрона Магомету Хутову с письмом следующего содержания: «Замечено, что горцы, в самом жару дела, внимая единой пылкости их нрава, не щадили жизни мятежников ни в коем случае, что Вам, как общему их наставнику, поручаю я внушить горцам, что сколько неустрашимость и рвение нужны против неприятеля сражающегося, столько необходимо в победителе великодушие и милосердие к человеку обезоруженному и просящему помилования. А как соединенные эти качества составляют полное достоинство воина, то желал бы я, чтобы горцы, отличаясь природною их храбростью, равномерно известны бы были и великодушием к побежденному».
16 июня 1831 года, в сражении при Ковно, горцы, совместно с тремя эскадронами Лейб-Казаков, атаковали неприятельскую пехоту. Горцами было взято в плен 2 польских офицера и 40 солдат. Сам Хан Гирей, несмотря на новое ранение пикою в грудь, несколько раз вступал в рукопашный бой, преследуя польских мятежников. Боевые действия горцев Конвоя Его Величества описывает флигель-адъютант полковник Орлов в своем донесении генералу Бенкендорфу: «Приятнейшею обязанностью поставляю донести Вашему Высокопревосходительству, что состоящие при отряде барона Остен-Сакена горцы Л.-Гв. Кавказского Горского полуэскадрона, в сражении 1 мая при Верпенте, 17-го при Райгороде, 7 июня на Панарских высотах и 16 июня при Ковно, показали примеры блистательной храбрости, в особенности же отличились в последнем деле, где вместе с тремя эскадронами Лейб-Казаков, состоявших под моею командою, врубились в ряды неприятельской пехоты, занимавшей город. Со свойственной им смелостью горцы бросились в жарчайший огонь, поселяя своим появлением ужас в войсках мятежников. Приписывая это как врожденному их мужеству, так в особенности распорядительности храброго и благоразумного Хан Гирея, покрывшего себя тремя славными ранами, осмеливаюсь просить Ваше Высокопревосходительство обратить на достойного офицера этого и на подчиненных его Ваше внимание и не отказать довести об отличной службе их до сведения Его Императорского Величества».
За оказанное мужество в означенных делах поручик Хан Гирей награжден чином штабс-ротмистра, 5 юнкеров и 3 оруженосца получили золотые медали на Георгиевской ленте, с надписью «За храбрость», для ношения на шее, 6 юнкеров – «Знаки отличия Военного Ордена», и 2 оруженосца произведены в юнкера.
3 октября штабс-ротмистр Хан Гирей с командой горцев прибыл в Варшаву. Из Варшавы Л.-Гв. Кавказский Горский полуэскадрон выступил походом в Петербург. В день прибытия в столицу, 28 февраля 1832 года, горцам произведен Высочайший смотр. Государь Император милостиво благодарил горцев «за их удаль, молодецкий вид и порядок».
За войну с польскими мятежниками Горский полуэскадрон Конвоя получил 53 знака отличия польского ордена «За военное достоинство», из коих 42 знака выданы горцам, а остальные трубачам, фельдшерам и находившимся при полуэскадроне чинам линейных казачьих полков. По числу трех трубачей, полуэскадрону пожалованы серебряные трубы с надписью: «1830 год».
С возвращением в Петербург чины Кавказского полуэскадрона усиленно занялись своей строевой подготовкой, а в свободное от службы время – изучением русского языка. Из горцев, учащихся в кадетских корпусах и Дворянском полку, был сформирован (на время лагерных сборов) особый взвод в 12 рядов при двух офицерах и двух юнкерах от Горского полуэскадрона Конвоя Его Величества.
В ноябре прибыла с Кавказа новая команда горцев на смену чинам полуэскадрона, закончившим срок своей службы в Конвое. Отправляя на родину горцев, бывших чинов Конвоя, генерал Бенкендорф в письмах командиру Отдельного Кавказского корпуса генералу барону Розену сообщал:
«Раздражительный горский народ, враждующий с русскими, не может познать истинной причины беспрерывной вражды и удостовериться в желании Российского Государя Императора не уничтожать свободу горцев, а напротив того – даровать благоденствие, каким пользуются и другие Его подданные. Чтобы внушить предварительно хотя некоторым из горцев эти благородные виды, должно стараться приготовить их в положение, в котором спокойствие души дает возможность человеку выслушать и вникнуть в то, что ему объясняют.
На этом основании сформирован был Л.-Гв. Кавказский Горский полуэскадрон и, чтобы более доказать горцам желание Государя Императора прекратить вражду, назначен в Собственный Его Величества Конвой».
«Местному начальству предоставить выбор фамилий, наиболее имеющих влияние на туземцев, и только тех, которых для благосостояния края необходимо ближе познакомить с видами нашего правительства.
Детей мусульман, предназначенных для образования, избирать вообще из среды всех племен, обитающих на северном и южном склонах Кавказа и даже из самых гор, чтобы благие намерения Государя Императора равносильно действовали на все племена, а самые жители, еще не вполне знакомые с русскими и не понимающие видов правительства, постепенно, собственным опытом познали их. На северном склоне выбор делать из княжеских и знатнейших дворянских фамилий, на южном – из детей ханов, знатных беков, заслуженных агаларов и др. почетных лиц, преданность которых правительству полезна будет влиянием их на прочих жителей».
На основании сего распоряжения 12 июня 1836 года приняты на службу в Кавказский Горский полуэскадрон лезгины Джарской области.
Кроме лезгин, в команду их допущены были в 1839 году кейсерухцы – отдаленнейший народ, живший на границе с Персией и изъявивший покорность России. Кейсерухцы не оставлялись на службе в Петербурге более одного года, исключая желающих служить определенный в Конвое срок.
Посылая первую смену лезгин, кавказское начальство уведомило, что в состав ее выбраны «люди красивой наружности, хорошо одетые, отлично вооруженные и на прекрасных лошадях; все происходят из самых знатных фамилий Джарской области». Команда лезгин в составе: 1 офицера, поручика Магомет-Али-Кара-Али-Оглы, 2 юнкеров и 12 оруженосцев, под командой состоявшего при генерале Бенкендорфе поручика князя Андроникова, выступила из Тифлиса в апреле 1840 года и через пять месяцев прибыла в Петербург. В Петербурге лезгины были помещены отдельно от горцев, но подчинены командиру Горского полуэскадрона. В 1837 году, по Высочайшему повелению, выехал на Кавказ командир Л.-Гв. Кавказского Горского полуэскадрона полковник Хан Гирей, в сопровождении четырех знатных горцев, для исполнения особо важного поручения.
Это была депутация от Государя Императора ко всем горцам Кавказа. Цель ее состояла в том, чтобы убедить горские племена принести Его Величеству изъявления покорности и внушить им необходимость испросить себе постоянное управление. В инструкции полковнику Хан Гирею сообщено, что по Адрианопольскому мирному договору признаны права России над Кавказскими горными племенами, а потому Государь Император, одинаково заботясь обо всех своих подданных, приказывает местному начальству склонить горцев, мерами кротости, к добровольной покорности. Хан Гирею было поручено «разъяснить горцам о силе и могуществе России, о невозможности противостоять ей и необходимости покорения».
Государь Император Николай I считал политику местного кавказского начальства в отношении горцев неправильной. О своем желании склонить горцев к покорности России не силою оружия, а «мерами кротости» Государь, вернувшись с Кавказа, писал генералу Бенкендорфу: «Я много толковал об этом с Вельяминовым, стараясь внушить ему, что хочу не победы, а спокойствия; и что и для личной его славы, и для интересов России надо стараться приголубить горцев и привязать их к русской державе. Я сам тут же написал Вельяминову новую инструкцию и приказал учредить в разных местах школы для детей горцев, как вернейшее средство к их обрусению и к смягчению их нравов».
В результате пребывания полковника Хан Гирея на Кавказе кавказское начальство донесло о большом количестве желающих горцев быть принятыми на службу Л.-Гв. в Кавказский Горский полуэскадрон. Но в пополнении полуэскадрона произошли значительные перемены. Причина тому следующая.
В Действующей Армии, находившейся в то время в Польше, в 1837 году был сформирован Кавказский Горский полк. Граф Паскевич-Эриванский, находясь в Петербурге, доложил Его Величеству о пользе, какая последовала бы от укомплектования Л.-Гв. Кавказского полуэскадрона людьми Горского полка, прослужившими некоторое время в Действующей Армии. Горцы охотнее бы поступали в полк, узнав, что только из полка возможен перевод в Собственный Его Величества Конвой, который таким образом станет пополняться людьми, предварительно испытанными в полку. Государь Император повелел: «Одну половину горцев Конвоя комплектовать людьми из Горского полка, другую пополнять на прежнем основании».
В 1839 году Государь признал полезным иметь в Своем Конвое команду из находившегося в Действующей Армии Конно-Мусульманского полка. Третью часть этого полка составляли армяне, а кроме них, в полку был «целый взвод турок ахалцыхских во всем их наряде».
Мусульмане прибыли в лагерь под Красное Село, под командой поручика Султан-Алиаскар-Бек-Гасан-Бек-Оглы, в составе 2 обер-офицеров, 4 векилей и 24 всадников. Срок службы мусульман в Конвое определен четырехлетний, по примеру горцев и лезгин. При этом установлено: смену одной половины команды производить через каждые два года; комплектовать команду из Конно-Мусульманского полка; прослуживших в Конвое положенный срок производить, по удостоению, в офицеры и, с зачислением по кавалерии, отправлять на службу в Грузию.
С возвращением войск из Красного Села в Петербург взвод мусульман был помещен в казарме-доме Л.-Гв. Кавказского Горского полуэскадрона. Помещение азиатских команд Собственного Его Величества Конвоя было обставлено с большим комфортом: «У каждого горца имелась своя кровать с ночным столиком и плевательницей. Мягкая, обшитая кожей мебель, половина которой из дорогого красного дерева, ломберные столики, устилавшие пол ковры, «10-ти рублевые» шторы на окнах – все это далеко не напоминало казарм. На лестницах, по ступенькам которых вились схваченные металлическими прутьями ковровые дорожки, висели «сторублевые фонари с механикой» и не менее дорогие фонари «с цепочками». Чистота и порядок в помещениях поддерживались инвалидами и собственными служителями из азиатцев».
По желанию горцев Государь Император разрешил в помещении их устроить учебный класс. Особый преподаватель занимался с юнкерами полуэскадрона ежедневно с десяти часов утра до трех часов дня. Предметы преподавания были: русское чтение и письмо, грамматика, арифметика, география и история.
Для офицеров Л.-Гв. Кавказского Горского полуэскадрона установлен порядок ношения формы, применяясь к форме офицеров 1-й бригады Гвардейской Кирасирской дивизии.
В 1857 году Высочайше повелено: «Сформировать для службы в Конвое команду грузин из молодых людей знатнейших дворянских и княжеских фамилий, православного исповедания, из Тифлисской и Кутаисской губерний. Команду считать 1-м взводом Л.-Гв. Кавказского эскадрона. Остальные взводы составят последовательно горцы, лезгины и мусульмане, по 10 рядов, при 20 юнкерах на эскадрон. Командование последним поручат старшему офицеру, по удостоению командира Конвоя».
Кавказское начальство нашло неудобным соединение всех четырех команд в один эскадрон и ходатайствовало о том, чтобы грузины составляли в Конвое отдельную команду, на основании следующего: «Грузинское дворянство, гордящееся древностью и знатностью своего происхождения, не может быть поставлено наравне с другими представителями кавказского населения. Слить в одно эти разнородные элементы, чуждые друг другу и по вере, и по обычаям, значило бы затронуть самые чувствительные стороны национальных предубеждений. Подобная мера была бы противна нашим собственным политическим видам».
Но Государь Император не нашел возможным удовлетворить это ходатайство, наложив следующую резолюцию: «Ничего не может быть почетнее для предполагаемой команды грузин, как назначение ее быть в голове эскадрона. Грузины никоим образом не будут в столкновении с другими командами Л.-Гв. Кавказского эскадрона, кроме строя, в котором они должны составлять 1-й взвод эскадрона. Командир этого взвода будет постоянно офицер из их среды, подчиненный только командиру Конвоя, флигель-адъютанту».
Кроме грузин, в 1-й взвод были допущены имеретинцы, мингрельцы и гурийцы. Грузинский взвод был сформирован не сразу, а по частям, по мере выбора «лучших из желающих».
В том же 1857 году кавказским начальством возбужден вопрос о принятии в 1-й взвод знатнейших армян. «Народ этот, подобно грузинам, принадлежит к древнейшим христианам и составляет значительную часть Закавказского населения, имея весьма важное значение в крае. В среде армян, всегда отличавшейся непоколебимой преданностью Российскому Престолу, есть древние фамилии почетной аристократии».
Так хлопотал князь Барятинский, и Государь Император изволил разрешить службу знатных закавказских армян в Своем Конвое, но не более Ц5 части 1-го взвода.
С 1869 года юнкера и векили Л.-Гв. Кавказского эскадрона по прослужении двух лет стали производиться в офицеры, но не иначе, как по экзамену, установленному для вольноопределяющихся. Те же, кто не могли выдержать экзамен, выпускались через четыре года службы в Конвое прапорщиками милиции.
Во время войны 1877–1878 годов Кавказский эскадрон оставался на службе в Петербурге. В это время в эскадроне, с производством в офицеры чинов его, не хватало большого числа всадников. Для пополнения убыли эскадрона Государь Император приказал собрать на Кавказе молодых людей, но не отправлять их в Петербург, а оставить их в распоряжении Главнокомандующего Кавказской Армией, на службе в Кубанской области.
По окончании войны с Турцией чины Кавказского эскадрона, находившиеся в Кубанской области под командою войскового старшины Завгородного, выступив походным порядком из города Майкопа, прибыли в Петербург 5 мая и уже 11 мая, совместно с Казачьим эскадроном Конвоя Его Величества, приняли участие в весеннем параде войск Гвардии и Петербургского военного округа.
«Восточный» Конвой всегда пользовался милостивым вниманием Государя Императора. По Высочайшей воле он был учрежден с той целью, чтобы показать народам Кавказа, что Русское Правительство стремится к благосостоянию их, а не к угнетению. И дабы горцам доказать Царское доверие, представители их были зачислены в Императорский Конвой. Горцам была пожалована нарядная форма и весьма значительное жалованье. Выслужившие свой срок службы в Конвое горцы производились в корнеты по армейской кавалерии, со всеми преимуществами, дарованными им за службу при Высочайшем Дворе.
Командируя произведенных горцев на Кавказ, генерал Бенкендорф (их прямой начальник) в письме к командиру Отдельного Кавказского корпуса, генералу барону Розену, сообщал:
«При отправлении теперь вновь произведенных офицеров каждый из них просил службы на Кавказе, чтобы усердием иметь возможность оказать свою благодарность; каждый из них давал обещание служить и умереть за Государя. Явную недоверчивость в этом случае считаю я совершенно вредною, тем более что они, сколько известно, в данных один раз обещаниях непоколебимы и что недоверчивость эта может послужить лишь к уменьшению их уважения к русским. Я полагал бы, напротив того, показывать горцам всю возможную доверенность употреблением беспрерывно на службу по разным случаям, награждая того, кто будет иметь средства на самом деле оправдать данное им обещание. Я видел их с удовольствием слушающих о нашем к ним доброжелательстве, видел удивление в познании того, чего они на Кавказе, враждуя с нами, не постигали.
Чтобы воспользоваться таким приготовлением умов служащих горцев в Конвое, которые отправляются на Кавказ, получив различные награды, я полагаю весьма полезным тотчас же по прибытии отпустить их в дома, где они, прежде завлечения мнением и суждениями своих соотечественников, рассказывать будут все, что старался я внушить им во время 4-х-летнего служения в Петербурге».
С основания Л.-Гв. Кавказского Горского полуэскадрона, по получении соответствующего образования, были произведены в офицеры 472 горца, из коих находились на службе в армейских частях 6 штаб-офицеров и 1 генерал.
В 1882 году на Кавказе не было уже непокорных горцев. Наиболее непримиримые переселились в Турцию. Остальные признали власть Русского Правительства. Усмиренный Кавказ быстро заселялся казачьими станицами.
Естественно, что и Кавказский эскадрон Конвоя утратил свое прежнее значение – проводника мирных идей среди горских народов Кавказа. 1 февраля 1882 года Высочайше повелено Л.-Гв. Кавказский Горский эскадрон расформировать. Офицеры эскадрона произведены в следующие чины, получив пожизненную пенсию в размере 1200 рублей в год. Несмотря на искреннее желание Государя Императора Николая I водворить порядок и спокойствие среди воинственных горских племен «дружелюбием и снисхождением», Кавказ был покорен только силой русского оружия.
Среди горцев, в особенности в Чечне и Дагестане, при содействии турецкого правительства начал сильно распространяться мюридизм, заключающийся в беспощадной священной войне с «неверными», то есть «врагами»-немусульманами. С 1819 года мюридизм стал успешно развиваться под водительством Кази-Муллы, объявившего себя имамом, то есть духовным вождем всех мусульман. Он привлек к себе много сторонников, и имя его было чрезвычайно популярно среди горцев. В 1832 году Кази-Мулла был окружен русскими войсками и в Гимрах, при попытке прорваться во время штурма этого укрепления, был убит.
После него короткое время был имамом Гамзат-Бек, павший от рук убийцы, и имамом Чечни и Дагестана стал Шамиль, родившийся в 1797 году в Гимрах. Сделавшись имамом, Шамиль помирил враждовавших между собою горцев и собрал десятки тысяч отчаянных храбрецов мюридов, давших обет посвятить все свои силы и жизнь газавату. Война между горцами и русскими отличалась невероятным упорством и стоила огромных жертв. Обе стороны были достойны друг друга. Русская Кавказская Армия прославилась своей доблестью, ее противник – горцы – храбростью и упорством в бою. Первое чувствительное поражение было нанесено Шамилю в 1839 году, когда, несмотря на упорное сопротивление горцев, русскими был взят аул Ахульго, причем был захвачен в плен один из сыновей Шамиля; ему же самому удалось прорваться и бежать.
6 июня 1845 года после ожесточенного боя была взята сильно укрепленная и неприступная резиденция Шамиля, аул Дарго. Шамиль ушел в Кабарду. В дальнейшей борьбе Шамиль нес поражение за поражением. Ряды его приверженцев таяли, и многие горские племена перешли на русскую сторону. В 1859 году был взят аул Ведено. Шамиль с остатками горцев укрепился на горе Гуниб. 25 августа после отчаянного сопротивления горцев пал последний оплот Шамиля – аул Гуниб, в котором он с 600 мюридами, оставшимися ему верными, сражался до конца с геройскими, как и его горцы, Кавказскими войсками.
С взятием Гуниба закончилось покорение Восточного Кавказа, и в дальнейшем понадобилось еще пять лет для покорения Западного Кавказа, когда и была закончена многолетняя Кавказская война. Сдавшемуся князю Барятинскому Шамилю, по Высочайшему повелению, в знак уважения к его храбрости, было возвращено оружие.
В память доблести всех кавказских героев в городе Тифлисе был учрежден военный музей – Храм Славы. В нем было собрано много батальных картин лучших русских художников, посвященных богатырям Кавказа: Ермолову, Воронцову, Барятинскому, Котляревскому, Слепцову, Мадатову и героям офицерам, солдатам и казакам; Кази-Мулле, Шамилю и его храбрым мюридам и всем кавказцам, покрытым ореолом славы, чести, доблести и благородства.
Вождь горцев имам Шамиль с семьей, родственниками и слугами был отправлен в Калугу, где свободно жил без каких-либо моральных унижений в предоставленной ему обстановке. На его содержание Русское Правительство ассигновало 20 тысяч рублей. Сам Император часто навещал Шамиля и подолгу с ним беседовал. Шамиль искренне жалел о войне с русскими и завещал горцам всегда быть верными России.
14 февраля 1865 года Шамиль из Калуги писал князю Барятинскому по случаю окончательного покорения Кавказа: «…от души радуюсь великому событию, которое принесет для Кавказа полное спокойствие и счастье…» Тот же Шамиль на призыв из Константинополя возобновить борьбу против русских ответил: «Глуп тот человек, который при сиянии солнца зажигает свечу, чтобы ему было еще светлее. Государь дает мне много очень ясного света. Зачем же я стану зажигать свечу?..»
Те западноевропейские государства, которые поддерживали Шамиля в его борьбе против русских и обещали ему корону «Королевства Кавказского», бросили его и его семью после падения Гуниба. Многие кавказские племена последовали их примеру. И только Русский Царь и победитель Шамиля князь Барятинский приняли великодушное, воистину достойное участие в этом благородном и исключительно одаренном человеке и в судьбе его семьи. Особенно трогательна сердечная дружба, которая была заключена между побежденным имамом Шамилем и его победителем князем Барятинским. Дружба эта сохранилась нерушимой до самой смерти Шамиля. Чувствуя приближение своей смерти, Шамиль, с разрешения Государя Императора Александра II, оставил Россию и уехал в Мекку. Умер Шамиль в Медине в 1871 году.
Прошли годы. Забыты были вражда и войны на Кавказе. Почти 70 лет народы Кавказа жили в мире и дружбе со своими победителями, перенимая взаимно друг у друга лучшие стороны каждого, как то: одежду – черкеска стала законной формой Кубанских и Терских казаков, адаты куначества (кровная дружба) и прочее. С другой стороны, горцы принимали от русских культурный уклад жизни, просвещение и образование. Горцы пользовались правами наравне с Кавказскими казаками. Как у одних, так и у других был один и тот же земельный надел. Надел этот колебался, в зависимости от местности и качества земли, в среднем от 7 до 14 десятин. Горцы, храня свой уклад жизни и обычаи, были совершенно свободны в пользовании родным языком и в исповедании своей религии. Кроме этой свободы, им Высочайше было даровано право иметь свои суды – «по шариату» (законы, основанные на мусульманской религии). Все проступки горцев против Российских законов могли быть судимы этими судами (исключение – уголовные дела).
Дабы предоставить народам Северного Кавказа полную свободу, они были освобождены от отбывания воинской повинности. Но, помня завет Шамиля быть всегда верными России и желая это доказать на деле, в Русско-японскую войну горцы добровольно сформировали Терско-Кубанский конный полк.
В 1-ю Великую войну, на основании единодушного постановления Съезда представителей всех народов и племен Северного Кавказа, горцами была создана Кавказская Конная Туземная дивизия в составе шести полков. По личному желанию Государя Императора Николая II командование этой дивизией принял брат Его Величества Великий Князь Михаил Александрович.
В борьбе с большевиками горцы приняли самое активное участие. В состав Вооруженных Сил Юга России (ВСЮР) они входили целыми бригадами и дивизиями, как Черкесская дивизия и Кабардинская бригада (одно время – дивизия).
Вторая мировая война принесла горцам много надежд, но еще больше горя, унижения и страдания. В 1945 году они вместе с казаками были преданы на расправу большевикам. Их вождь, доблестный генерал Султан Келеч Гирей, погиб в Москве лютой смертью вместе со своими кунаками, казачьими боевыми генералами. По приказу палача Сталина, после жестокостей и избиения, были высланы в Сибирь на верную смерть десятки тысяч горцев, в том числе полностью племена чеченцев, ингушей, кабардинцев и других народов Северного Кавказа.
Входившие в состав 1-го взвода Л.-Гв. Кавказского Горского эскадрона грузины были лучшими представителями древнейшего христианского Царства Грузинского, которое в течение многих веков отстаивало свою самостоятельность от турок и персов. В результате этой борьбы православные грузины просили помощи у русских еще во времена Иоанна Грозного и Бориса Годунова.
В 1725 году грузинский царь Вахтанг с князьями, дворянами, 6 епископами, 14 архимандритами, монахами и слугами (1185 душ) бежал в Россию. Все беженцы получили жалованье и продовольствие от русской казны. В дальнейшем грузины-беженцы выразили желание принять российское подданство и вступить на русскую военную службу. Государыня Анна Иоанновна повелела исполнить просьбу грузин, учредив для отправления ими военной службы «Грузинскую гусарскую роту». Указом от 25 марта 1738 года было повелено отвести грузинам-беженцам землю на Украине в вечное потомственное владение.
В XVII веке положение Грузии было настолько трагично, что для нее существовало только два выхода: сделаться добычей Турции и Персии или же искать обеспечения спокойствия для мирного развития и гражданского правопорядка в тесном единении с единоверной Россией. Грузия, лишенная в борьбе с врагами цветущей православной цивилизации, истощенная внутренними раздорами, не могла сохранять политическую самостоятельность.
В 1783 году было формально установлено покровительство России над Грузией. Успешное выполнение этого покровительства всего более зависело от слияния Грузии с Россией, к чему обстановка на Кавказе и привела.
В 1801 году Император Павел I издал манифест об окончательном присоединении Грузии к Российской Империи.
В присоединении Грузии к России совершенно нет элемента завоевания; здесь только помощь изнемогающему, единоверному, благородному грузинскому народу. Но для связи с присоединенной новой обширной областью надо было устранить с путей сообщения России с Грузией беспокойный элемент, гнездившийся в горах Кавказа и препятствовавший мирной жизни на сотни верст кругом.
Когда эта задача была выполнена, началась новая эра в жизни Кавказа. Русские внесли свою лепту в сокровищницу седых обычаев Кавказа, обратившихся постепенно в целый кодекс нравственных норм и законов для блистательной Кавказской Армии.
…Честь быть первым командиром Собственного Его Императорского Величества Конвоя, по Высочайшему повелению, принадлежала представителю Грузии флигель-адъютанту полковнику князю Петру Романовичу Багратиону.
Кроме горцев Кавказа, в Императорском Конвое известное время имели честь служить и представители крымских татар. В 1825 году, при посещении Императором Александром I Благословенным Крыма, местное татарское дворянство во главе с генерал-майором князем Балатуковым изъявило желание сформировать один эскадрон крымских татар, на что тогда же последовало Высочайшее соизволение. Порученное генералу князю Балатукову формирование Л.-Гв. Крымского татарского эскадрона через два года было закончено.
В 1860 году среди населения крымских татар и ногайцев разнесся ложный слух о насильственном переселении их в Россию и о рекрутском наборе жителей Крыма. Татары заволновались, и до 230 тысяч семейств их ушло в Турцию. Ногайцы ушли все поголовно. В Крыму осталась У бывшего населения.
Ввиду этого Государь Император 26 мая 1863 года повелел Л.-Гв. Крымский татарский эскадрон упразднить. Взамен его содержать из остающегося в Крыму татарского населения, в составе Собственного Его Величества Конвоя, особую команду Л.-Гв. Крымских татар, с причислением ее, сверх комплекта, Л.-Гв. к Кавказскому Казачьему эскадрону.
Команду приказано было разделить на три смены и присылать в Петербург через каждые два года. Состав смены: 1 унтер-офицер и 6 рядовых. При этих трех сменах иметь по одному офицеру, но только из крымско-татарских фамилий и не выше чина штабс-ротмистра. Кроме того, в каждую смену допущен, сверх комплекта, один юнкер из татарских мурз.
18 мая 1890 года команда Крымских татар Конвоя была расформирована.
Глава 3
Линейцы (1832–1861)
В 1832 году по повелению Государя Императора Николая I сформирована команда Кавказских Линейных казаков Собственного Его Величества Конвоя.
Команда была выбрана из находившегося тогда в Царстве Польском Сборного Линейного казачьего полка. Полк состоял из представителей восьми полков Кавказских Линейных казаков и находился в ведении Главнокомандующего армией графа Паскевича-Эриванского.
Линейцами именовались казаки, находившиеся на укрепленной линии Кавказа, служившей защитой против вторжения и набегов горцев.
Впервые на Кавказе русские войска появились в 1559 году, но еще задолго до этого у берегов Каспийского моря и на гребне Кавказских гор, среди горских племен, поселились казаки – предки Гребенских и Терских казаков. Уже в 1550 году Волгскими казаками был основан город Терки.
Вначале у поселившихся на Кавказе казаков с горцами были мирные отношения, но потом горцы стали вторгаться в казачьи земли, для защиты которых строились укрепленные линии.
Первая укрепленная Линия, Азовско-Моздокская, была основана в 1774 году. Эта Линия, согласно проекту князя Потемкина, утвержденному Императрицей Екатериной II в 1777 году, была заселена Волгскими и Хоперскими казаками.
Жизнь Линейцев на Кавказе, как и их братьев Черноморцев, была исключительно тяжелой: вечные нападения горцев, постоянная борьба как с ними, так и с природою, тяжелая воинская повинность – все это создавало особую суровую боевую обстановку. Кавказская Линия состояла из отдельных небольших крепостей, постов и батарей, находившихся друг от друга в 10–15 верстах; они были окружены небольшим рвом, огорожены терном и колючим кустарником. Все эти крепости, посты и батареи помещались на каком-нибудь открытом месте, часто на кургане, имея традиционную вышку, где находились часовые.
Тут же, на посту, устанавливалась высокая жердь, обмотанная пенькой и смолой, так называемая «фигура» или «веха». Вспыхнувшая во мраке смоляная фигура и зловещий колокольный набат ближайшей станицы по тревоге поднимали кордонные посты Линии, и казачьи конные команды неслись к угрожаемому месту или же атакованному горцами пункту.
Как и посты, станицы огораживались рвом с плетнями и оградами из терновника. В ограде оставалось несколько ворот, у которых стояли сторожевые вышки с постоянными наблюдателями-часовыми. По углам станицы находились пушки. В то неспокойное время казачьи станицы были в постоянной опасности и в готовности отразить врага. Это создавало особый уклад жизни и всего казачьего обихода. При нападении горцев по всей Линии зажигались сигнальные вехи, служа казакам своеобразным «телеграфом», объявлявшим тревогу.
Пространство между постами и станицами было занято пикетами («бикетами») и резервами («лизертами»). На ночь высылалась «залога», состоявшая из одного-двух казаков, которые залегали в особо важных местах. Обычно залога линейцев была в камышах, плавнях и вообще в таких трущобах, которые были известны только им одним и где проводили они целые ночи под дождем, вьюгою и непогодой, составляя все вместе «живую изгородь» на рубеже Русской земли. День и ночь казаки зорко и бдительно несли сторожевую службу: на постах, в разъездах, в секретах и в заставах.
Горцы, в своих отважных и беспрерывных набегах на Линию, проникали в глубь пограничных станиц, поджигали и уводили в плен жителей, грабя их имущество. Линейцы, следуя примеру своих воинственных соседей и переняв от них не только их нравы, одежду, вооружение и снаряжение, но и приемы борьбы, со своей стороны совершали набеги на горцев, ведя в течение многих лет упорную и кровавую борьбу. Характерны названия станиц Линейных казаков: Сторожевая, Отважная, Бесстрашная, Преградная, Надежная, Упорная, Передовая, Прочноокопская.
По поводу формирования команды Линейцев Конвоя, назначенной специально для личной охраны Его Величества, генерал Бенкендорф сообщил графу Паскевичу-Эриванскому следующий Высочайший Указ: «Его Императорское Величество, желая ознаменовать свое благоволение Линейным казачьим полкам за оказанную ими храбрость и усердие, Высочайше повелеть соизволил: избрать из среды их 50 человек казаков, которые составят Конвой Императорской Главной Квартиры, и, вместе с тем, дать всем чинам сего Конвоя преимущества Старой Гвардии и особенный мундир. Выбор сих 50 человек Его Величество изволил предоставить собственному распоряжению Вашей светлости».
Вновь формируемую команду было предположено наименовать Л.-Гв. Кавказско-Линейным казачьим полуэскадроном Конвоя Его Величества, в составе которого быть: командиру, не выше ротмистра, 2 младшим офицерам, 8 урядникам, 42 казакам, казначею из классных чиновников, писарю и фельдшеру. Срок службы и все содержание полуэскадрона определить по примеру Л.-Гв. Казачьего полка.
1 февраля 1832 года команда выступила из Варшавы, 7 апреля прибыла в Петербург, и уже 9-го Государь Император изволил смотреть команду в Михайловском манеже. Первыми офицерами Л.-Гв. Кавказского Линейного казачьего полуэскадрона были есаул Левашев и сотник Рассветаев. Линейцам были дарованы особые преимущества:
1. Выслужившие в Конвое положенные сроки службы получают, по возвращении в полки, синий конвойный мундир.
2. Сохраняют право на увольнение от службы по положению Гвардейской легкой кавалерии.
3. Не употребляются ни на какую службу, исключая оборону собственных станиц, если на них случится нападение горцев.
В Петербурге команда Линейных казаков была размещена в Нарвской части города, на старой 12-й роте. Во время лагерных сборов под Красным Селом они жили в палатках на том месте, где в последнее время находился вокзал железной дороги. Для лошадей был устроен деревянный навес.
В лагерях конвойцы, кроме учений, принимали участие в общих маневрах, смотрах, парадах, тревогах, а также несли ординарческую службу. Ординарцы от Конвоя, по приказанию Государя Императора, всегда стояли на правом фланге от всех других частей.
В марте 1833 года состав Линейных казаков Конвоя увеличен вдвое и разделен на две смены: служащую в Петербурге и льготную. Выбор людей и лошадей предоставлен Войсковому начальству. Срок службы в Петербурге назначен трехлетний; время смены не позже половины июля.
«Во избежание утраты воинственного духа» чины льготной части Линейцев, сохраняя гвардейский мундир, прикомандировались к полкам для участия в делах против непокорных горцев.
Л.-Гв. Кавказский Линейный казачий полуэскадрон находился главным образом в Петергофе, где казаки несли охрану Петергофского дворца, во время пребывания в нем Их Величеств. Вообще же все передвижения и служебные наряды Конвоя всегда делались на основании личных приказаний Государя Императора.
Неся службу в Петергофе, команда Линейцев, кроме наряда в сады «для наблюдения», выставляла посты: «Один казак к дому на берегу, по пути в Александрию, другой к Монплезиру и третий к Марли. Кроме того, ежедневно посылался в Александрию «на вести» конный урядник, который оставался там целые сутки».
Во время весенних прогулок Государя Императора и посещения им загородных дворцов конные Линейные казаки находились «при поставах», то есть были расставляемы в заранее намеченных местах; при этом обер-шталмейстер Высочайшего Двора заблаговременно извещал, когда и на какое место нужно выслать наряд конвойцев.
Государь Император, отбывая в 1833 году за границу для свидания с австрийским и прусским монархами, повелел команде Линейных казаков Своего Конвоя, во время его отсутствия, быть на службе при Государыне Императрице. По отбытии Государя за границу Высочайший Двор находился сначала в Царском Селе, откуда перешел в Петербург, на Елагин остров.
В 1834 году Линейцы переведены в Царское Село. С этого времени Царское Село стало постоянным местом пребывания Л.-Гв. Кавказского Линейного полуэскадрона. Находясь в Царском Селе, казаки Линейцы образцово несли службу при Высочайшем Дворе. Государь иногда лично проверял исправность и бдительность Своих конвойцев.
«19-го мая 1835 года Его Величество произвел команде линейное учение по тревоге, закончившееся стрельбою с джигитовкою. За изумительную быстроту сбора по тревоге, ловкость стрельбы и лихую езду офицеры удостоены Монаршего благоволения, казакам Государь объявил Свое Царское спасибо и приказал выдать в награду каждому по 2 рубля и улучшенный обед с двумя чарками вина».
В том же году Линейцы выступили в поход, составляя охрану Императорских лошадей и обоза, отправленных в город Калиш. В Калише, при штаб-квартире Действующей Армии, состоялся Высочайший смотр в присутствии короля Прусского, во время которого Государю Императору угодно было представить королю Своих конвойцев. За лихую джигитовку все казаки Императорского Конвоя, с разрешения Государя Императора, королем были награждены прусскими медалями.
После смотра Государь Император Николай I отбыл за границу, повелев командировать в город Данциг урядника Подсвирова и казака Рубцова, которые за все время пребывания Государя в Богемии находились при нем.
В 1836 году урядник Подсвиров определен к Высочайшему Двору камер-казаком. По свидетельству генерала Бенкендорфа, Подсвиров выделялся «отличным поведением, трезвостью, а в повиновении начальству всегда служил примером своим товарищам, а с тем вместе росту очень большого и наружности самой удовлетворительной». Таков был первый камер-казак, впоследствии выбираемый из казаков Императорского Конвоя.
Ввиду предстоящей поездки Государя на Кавказ туда же выступил походным порядком взвод казаков Линейцев Конвоя под командою хорунжего Фирсова и взвод горцев под командою князя Айдемирова. Конвойцы направились в город Ставрополь, откуда были переведены в крепость Владикавказ. Место встречи Государя было предоставлено распоряжению командира Кавказского корпуса, генерала барона Розена.
Кроме взвода хорунжего Фирсова, выехал в город Вознесенск Херсонской губернии штабс-ротмитстр Рассветаев с нарядом Линейцев для встречи Государя и с казаками, сопровождавшими Царских лошадей. В Вознесенске, в ожидании Царского смотра, находился в полном составе 5-й пехотный корпус и конница с конной артиллерией.
Государь прибыл в Вознесенск 18 августа, и в тот же день состоялся Высочайший смотр кавалерии. Просторное поле близ города было заполнено 350 эскадронами конницы и 144 орудиями конной артиллерии. Встреча от Конвоя, штабс-ротмистр Рассветаев и четыре конвойца, находилась на главном пункте общей встречи. В Вознесенске собралось все Царское Семейство, прибыл и Великий Князь Михаил Павлович.
После смотров и парадов, завершившихся маневрами, Государь с Наследником Цесаревичем и Великим Князем Михаилом Павловичем отбыл в Одессу, откуда направился в Крым, в Бахчисарай и Массандру.
22 сентября «Северная Звезда» под Императорским Штандартом стала на Геленджикском рейде и через пять дней прибыла в Редут-кале. Седой Кавказ сверкал и переливался своими вечными снегами. Император Николай I на Кавказе был встречен генералом бароном Розеном и в его сопровождении направился к Кутай су. В нескольких верстах Государя ожидал владетель Мингрелии князь Дадиани. Его Величество изволил остановиться на ночлег в доме князя, в Зугдиди. Почетный караул из князей Мингрельских приветствовал Императора. 28 сентября Государь отбыл далее, провожаемый знатнейшими лицами Мингрелии и князем Дадиани. На границе Имеретии мингрельцев сменили знатные князья и дворяне имеретинские. В Кутаисе был царский ночлег, охранявшийся почетным караулом от тех же лиц. 29-го числа Императору Николаю I представились владельцы сванетские, князья Михаил и Татархан, Додешкильяни, и князья Цебельдинские.
После осмотра города Государь с блестящим конвоем направился к границам Грузии и был встречен цветом грузинской аристократии и почетными старшинами ближайших осетинских аулов.
От самого Редут-кале Государь следовал по дороге, вновь устроенной для удобного сообщения Грузии с берегом Черного моря. Через Сурамский перевал Государь прибыл в Ахалцых. У «Страшного Окопа» он принял почетнейших беков и армян-переселенцев из Эрзерума. В Ахалкалаках приветствовали Государя беки и почетнейшие старшины ахалкалакские; в Гумрах (Александрополь) – армянские старшины, переселенцы из Карса. Государь Император, сопровождаемый чинами Собственного Конвоя, все время следовал и среди конвоя от местных национальностей, быстро сменявшихся. В Гумрах Государь принял эрзерумского сараскира, прибывшего с поздравлениями от турецкого султана. На границе Армении ожидали Русского Императора знатные беки, мелики и куртинские старшины.
Конница Кенчерли, под командованием нахичеванского наиба полковника Эсхан-Хана, встретила Царский кортеж на пути к Эчмиадзину. У монастыря ожидал патриарх всех армян Иоаннес, верхом, с двумя шатирами (скороходами) и почетной стражей из 50 армян. Осмотрев достопримечательности монастыря, Государь посетил патриарха и принял от него в дар частицу Святого Креста Господня. Патриарх обратился к Императору Николаю I со следующими словами: «Знамение победы Животворящего Креста да сопутствует Тебе и всему потомству Твоему, против видимых и невидимых врагов, отныне и до века. Аминь!»
Пребывание в Эчмиадзине закончилось смотром знаменитой конницы Кенчерли, после чего Государь Император отбыл в Эриван, где принял персидское посольство, во главе с наследным принцем Валиатом, прибывшим с поздравлениями от падишаха.
8 октября Государь прибыл в Тифлис и принял представителей Закавказского края. 11-го числа грузинские князья и дворяне собрались верхом на площади перед дворцом и в Высочайшем присутствии произвели джигитовку, закончившуюся разными национальными играми. В течение четырехдневного пребывания в Тифлисе Государь посетил бал, данный грузинским дворянством, подробно ознакомился с городом и произвел смотр войскам гарнизона.
12 октября в шесть часов утра Император Николай I отбыл во Владикавказ и ночевал у подножия главного Кавказского хребта, в Квишхети. Дальнейший переезд через горы был совершен исключительно верхом. Путь этот был труден и опасен, так как вся дорога при сильном морозе покрылась льдом. Государь Император Николай I в письме к князю Паскевичу от 21 октября 1837 года, подробно описывая путешествие по Кавказу, подтвердил эту трудность и опасность, закончив письмо следующими словами:
