Нежные страсти в российской истории. Любовные треугольники, романтические приключения, бурные романы, счастливые встречи и мрачные трагедии бесплатное чтение
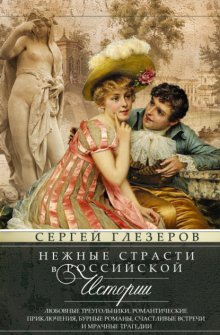
© Глезеров С.Е., 2025
© «Центрполиграф», 2025
Предисловие
Не буду особенно оригинальным, если скажу, что история – это не только войны и завоевания, великие географические открытия и природные бедствия. Через все события проходят яркие истории любви. Или, по крайней мере, – взаимоотношения между сильным и слабым полом. Кстати, недаром именно династические браки, даже заключенные без любви (а в значительной степени именно так и было!), в давние времена служили важнейшей формой примирения и союза государств, мирного расширения территорий… Еще в XI столетии Ярослав Мудрый выдал своих дочерей за польского, норвежского и французского королей…
Герои этой книги – люди самых разных занятий, сословий, интеллектуального уровня и материального достатка. А связанные с ними истории, собранные под одной обложкой, объединяет одно: в них практически непременно присутствуют любовный треугольник, роковые страсти и, как результат, – счастливый финал либо, наоборот, мрачная трагедия.
Вот лишь один яркий пример. Поступок 23-летнего князя Сергея Михайловича Голицына многим показался не то что странным и экстравагантным, а просто безрассудным: влюбившись без памяти в артистку цыганского хора Александру Гладкову, он женился на ней!.. Было это в 1866 году. Князь заплатил отцу девушки и руководителю хора большие отступные. И обвенчался с ней в храме в своей подмосковной усадьбе Кузьминки… Эту историю писатель Николай Лесков использовал впоследствии в своей повести «Очарованный странник».
Князь Сергей Голицын прожил с Сашенькой в официальном браке пятнадцать лет. Родилось пять детей, которые получили официальное положение в обществе, титул и фамилию отца. Но постепенно чувства князя угасали: у него появилось новое увлечение – молодая дворянка Елизавета Никитина. Князь оставил бывшей жене и детям огромные Кузьминки, а сам с новой супругой перебрался в подмосковное имение Дубровицы…
А какие страсти только не кипели в царском доме Романовых!
Профессиональные историки до определенного времени считали неприличным делом исследовать сексуальную жизнь царственных персон. Во многом подобный взгляд сохраняется и доныне. Тем более что все, что касалось правящего Дома Романовых, до начала XX века было подвержено государственной цензуре…
Настоящей драмой окончился для датского принца Вальдемара его приезд в Россию, где ему обещали в жены царевну Ирину – дочь Михаила Федоровича, первого государя из династии Романовых. Да и для нее эта история оказалась весьма трагичной. Забегая вперед, скажем: принц так и не смог жениться на царевне, после чего отправился на войну и погиб. А Ирина так и не вышла замуж.
А вот история из другой эпохи: младший брат Николая II, великий князь Георгий Александрович, наследник престола, был болен туберкулезом и лечился в Грузии. Там он влюбился в княжну Елизавету Нижарадзе. Ради любви был готов отказаться от трона. Однако им пришлось расстаться, девушку выдали замуж, а Георгий Романов скоропостижно скончался…
Вообще, если бы некоторые любовные страсти привели к браку, то история нашего государства могла бы пойти иначе.
В 1839 году наследник русского престола, будущий император Александр II, завершая свое европейское путешествие, без памяти влюбился в английскую королеву Викторию. Ей было двадцать, русскому цесаревичу – двадцать один, оба уже наметили свои брачные партии. Оба прекрасно понимали и отдавали себе отчет, что дальнейшее развитие отношений было невозможным. Виктории предстояло найти супруга, который мог бы стать королем. Александру же, если бы он женился на королеве Виктории, пришлось бы отказываться от российской короны и становиться королем Англии. Это совершенно не входило в планы Российского императорского дома.
Однако, как говорится, сердцу не прикажешь… Адъютант российского наследника записал в дневнике, что цесаревич «влюблен в королеву и убежден, что и она вполне разделяет его чувства». Виктория, в свою очередь, отметила в своем дневнике: «Я совсем влюблена в великого князя, он милый, прекрасный молодой человек».
Расставаясь, они пообещали друг другу непременно встретиться снова и отныне способствовать укреплению дружеских отношений между двумя империями. Увы, не произошло ни новой встречи, ни дружеских отношений между странами. Россия и Англия испытывали друг к другу неприязнь, а вступление Англии в Крымскую войну на стороне Турции и вовсе превратило их во врагов. Правда, в начале XX века Британия и Россия станут союзниками – по Антанте, но это будет гораздо позже…
Летом 1914 года в великосветских кругах обсуждали возможную помолвку великой княжны Ольги Николаевны, дочери императора Николая II, и наследника румынского престола принца Кароля. Обе страны рассчитывали на этот семейный союз, дело было государственное, политической важности. Однако Ольга Николаевна была категорически против и настояла на своем. А вот младшие представители Русского императорского дома и румынской королевской семьи сразу подружились, особенно сестра принца Илеана и цесаревич Алексей. Илеане исполнилось пять, Алексею – десять. Они всюду ходили вместе, играли, смеялись, шалили.
«Илеана в своем лучшем платье с нетерпением ждала Алексея, маленького Цесаревича…», – вспоминала кронпринцесса Мария. Говорят, что, прощаясь, Алексей будто бы сказал Илеане: «Однажды я приеду, чтобы сделать Вам предложение». Если бы не революция, возможно, русско-румынский союз и состоялся бы, а Илеана стала бы следующей российской императрицей…
Не будем, как говорится, «лакировать» историю: практически все российские императоры, кроме, пожалуй, Александра III и Николая II, были замечены в любовных похождениях на стороне. К чести Николая Александровича: вступив в брак, он разорвал все отношения с балериной Матильдой Кшесинской.
Но по любвеобильности никто, наверное, не мог сравниться с Петром Великим. Он действительно был велик, могуч и масштабен во всех своих деяниях. В том числе и амурных. Не ограничивал себя ни в чем. За всю жизнь у него было как минимум несколько тысяч любовниц, а сосчитать его внебрачных детей вообще практически невозможно.
Как отмечает историк Леонид Колотило, существует проблема достоверности исторических источников времен Петра I, раскрывающих эту «щекотливую» тему. В основном она опирается на письма, донесения и мемуары иностранных дипломатов при Императорском дворе. Далеко не все они опубликованы до сих пор. Российские источники – крайне скудные, ибо тема очень опасная: за подобные откровения можно было попасть и в пыточные застенки.
Сам Петр не скрывал своих любовных связей и писал в одном из писем, что они ему необходимы «ради телесной крепости и горячности крови». Как сообщал еще в 1904 году историк-писатель Сигизмунд Либрович в историческом очерке «Петр Великий и женщины», увидевшем свет в начале XX века, постоянного влечения к какой-то одной женщине Петр не испытывал. Одно только перечисление любовниц Петра впечатляет: Анна Монс, Анна Меншикова (сестра его лучшего друга Александра Даниловича), Дарья и Варвара Арсеньевы, Марья и Анисья Толстые, Марта Скавронская – ставшая впоследствии его женой, а после его смерти – русской императрицей Екатериной I.
Если продолжить перечисление… Княжна Мария Кантемир, дочь молдавского господаря Дмитрия Кантемира. Долгие годы любовницей царя были Евдокия Ивановна Ржевская, дочь Дарьи Гавриловны Ржевской (урожденной Соковниной), получившей от Петра шутовской титул «князь-игуменьи» на Всепьянейшем соборе. Петр называл ее «Авдотья – бой-баба» и поддерживал с нею любовные отношения и после ее замужества: Петр женил на ней своего денщика Григория Чернышева, которого впоследствии сделал генерал-аншефом, сенатором и графом… Далее – Мария Гамильтон, Марья Черкасская, две сестры Головнины, Анна Крамер, Мария Матвеева…
Помимо аристократок, придворных дам, фрейлин, камер-фрау и дворянок, Петр имел мимолетные сексуальные связи с купчихами, солдатками, крестьянами, иностранками… Надо понимать, как отмечает Леонид Колотило, что во времена Петра желание царя «осчастливить» ту или иную даму воспринималось окружающими как вполне естественное. Причем, все ближайшее окружение царя считало это чуть ли не ритуалом и относилось к этому как к чему-то обыденному. Царь считался хозяином и всех живущих на этой земле. Все подданные русского царя – его собственность, он их хозяин. И для аристократов, и для обычных дворян.
Поисками женщин для своего хозяина занимались денщики Петра, выполнявшие различные обязанности и имевшие чрезвычайно широкие полномочия. Они и адъютанты, находившиеся при царе круглосуточно, вели не только «Камер-фурьерский журнал», но и легендарный и, увы, не сохранившийся так называемый «Постельный реестр», куда вписывали имена тысяч женщин, с которыми у Петра были сексуальные отношения. Имена некоторых из них упоминались довольно часто, но большинство – только один раз.
Официально у Петра было четырнадцать детей: трое от Евдокии Лопухиной и одиннадцать от Марты Скавронской, ставшей после перехода в православие Екатериной. А вот о том, сколько было внебрачных, история умалчивает. Одни исследователи утверждают, что их были сотни, другие – гораздо больше. В этом отношении Петр I явно превзошел Короля-Солнце, то есть Людовика XIV, правившего более семидесяти лет, с 1643 года. Правда, в отличие от Петра, Король-Солнце всегда старался обеспечить своих детей, давал им титулы, звания и приличное содержание.
Как утверждали современники, своих связей с женщинами Петр I никогда не скрывал, а детьми не то что не интересовался, но, возможно, в некоторых случаях вообще не ведал об их появлении на свет Божий…
Впрочем, все вышесказанное вовсе не умаляет образ Петра Великого, поскольку взгляды на мораль и нравственность в начале XVIII века весьма отличались от нынешних. Причем не только в России. Даже в конце того столетия, кстати, «века Просвещения», все американские президенты владели рабами. А секс с рабынями в США не считался чем-то зазорным и в XIX веке. Широко практиковалось воспроизведение рабов с целью увеличения благосостояния рабовладельцев путем принудительного секса, сексуальных отношений хозяина и рабынь с целью производства как можно большего количества детей… Так что по сравнению с американскими президентами, жившими на сто лет позже, Петр Великий – просто образец нравственности и добродетели в области отношений с женщинами…
Впрочем, что мы все о царях да о царях… Среди героев этой книги – поэт Гавриил Державин и литературный критик Виссарион Белинский, шеф жандармов Александр Бенкендорф и полярный исследователь Георгий Седов, полководец Михаил Кутузов и художник Константин Маковский. История каждого из них достойна отдельного любовного романа.
Мы привыкли воспринимать Белинского как жесткого и бескомпромиссного литературного критика, а вот в личной жизни «неистовый Виссарион» был очень ранимым человеком. «Любовь имеет свои законы развития, свои возрасты, как жизнь человеческая. У нее есть своя роскошная весна, свое жаркое лето, наконец осень, которая для одних бывает теплою, светлою и плодородною, для других – холодною, гнилою и бесплодною», – отмечал Белинский.
Наводивший страх едва ли не на всю Российскую империю Бенкендорф вообще был неисправимым ловеласом, а его мемуары больше напоминают авантюрно-приключенческий любовный роман…
Едва ли оставит кого-то равнодушным и очерк, посвященный революционеру-анархисту Петру Кропоткину. Его брак был заключен без церковных обрядов, на анархических принципах полного равноправия. Супруги подписали трехлетний договор, который предусматривал возможность расторжения или продления каждые три года. На протяжении последующих лет они продлевали его четырнадцать раз.
Одним словом, «любовь есть желание красоты, таинственно совпадающей с нашей душой». Так гласил один из афоризмов еще одного из героев этой книги – поэта Константина Бальмонта.
Глава 1
Времена и нравы
Варшавская драма
Летом 1890 года в Варшаве, столице Царства Польского, разыгралась любовная трагедия, потрясшая всю тогдашнюю Российскую империю. Корнет лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Александр Бартенев застрелил свою возлюбленную, знаменитую артистку Императорского Варшавского драматического театра Марию Висновскую, считавшуюся украшением здешней сцены.
Возле окровавленного тела актрисы нашли разорванные на мелкие куски записки, написанные ее рукой. «Человек этот угрожал мне своей смертью – я пришла. Живой не даст мне уйти». «Ловушка? Мне предстоит умереть. Человек этот является правосудием!!! Боюсь… Дрожу! Последняя мысль моя матери и искусству…». «Человек этот поступит справедливо, убивая меня… последнее прощание любимой, святой матери и Александру… Жаль мне жизни и театра… Умираю не по собственной воле… Не играть любовью!..»
По словам сослуживца Бартенева, ротмистра Лихачева, тот, придя утром в казармы, сбросил с себя шинель и заявил: «Вот мои погоны!» И потом добавил в отчаянии: «Я застрелил Маню…» Кто такая Маня – сослуживцы знали, поскольку отчасти были посвящены в перипетии драматических отношений корнета с актрисой.
Бартенев сообщил и адрес, где он совершил убийство. Обеспокоенный ротмистр собрал нескольких офицеров, отправились туда и действительно обнаружили бездыханное тело актрисы, с огнестрельной раной, «в одном белье с полуоткрытыми глазами и вытянутыми конечностями». Одежда была разбросана по полу.
На теле девушки лежало две визитных карточки Бартенева, а на них и рядом с ними, в складках белья, – три вишневых ягоды. Возле трупа – скомканный шелковый носовой платок с инициалами «А. Б.», а у ног покойницы – гусарская сабля. Все напоминало какую-то театральную постановку с нарочито разложенным реквизитом…
На лицевой стороне первой карточки Бартенева значилось: «Генералу Палицыну: Что, старая обезьяна, не досталась она тебе?». На оборотной стороне: «Милая мама! Прости меня, не я виноват, и не она». На другой визитной карточке: «Генералу Остроградскому. Похороните меня с ней», на обороте: «Ваше превосходительство. Будьте добры похоронить меня не как убийцу и самоубийцу».
И еще обнаружили его записку на смятом листочке бумаги: «Милые родители. Простите меня, вам сообщат мои долги, заплатите их. Довольно этих страданий. Любящий вас и недостойный сын А. Бартенев. Вы не хотели моего счастья».
Следствие пришло к выводу, что Бартенев, ослепленный ревностью, хладнокровно застрелил свою любовницу. Правда, экспертиза показала, что перед выстрелом она уже была мертва: смерть «последовала вскоре после введения в желудок опия».
По делу, вызвавшему резонанс во всей Российской империи, допросили 67 свидетелей. Показания одних подтверждали умысел Бартенева, другие же указывали на… убийство по обоюдному согласию.
Согласно обвинительному акту, в феврале 1890 года кто-то из знакомых Бартенева познакомил его с Висновской. «Миловидная наружность» известной артистки произвела на корнета сильное впечатление, но он робел и ограничивался лишь посылкой цветов. Затем стал бывать у нее чаще и наконец сделал ей предложение вступить с ним в брак.
В то же время он не мог не видеть, что его кокетливая возлюбленная пользуется повышенным вниманием мужчин. Он ревновал и часто говорил ей о своем намерении лишить себя жизни. Та охотно поддерживала эту тему и даже показывала банку, в которой, по ее словам, был яд и маленький револьвер. Однажды актриса спросила Бартенева: хватило ли бы у него мужества убить ее и затем лишить себя жизни? Мрачные мысли, однако, быстро сменялись шумными пирушками в загородных ресторанах и любовными свиданиями…
Актриса М. Висновская
Потом Мария Висновская заявила корнету, что его ночные посещения компрометируют ее, и предложила: если он желает встречаться с ней наедине, приискать квартиру в глухой части города. Тот снял апартаменты и в тот же день предложил Висновской взять ключ от нее. «Теперь поздно», – ответила она и, не объясняя значения своих слов, уехала на целый день на дачу к матери.
Бартенев все понял по-своему: «поздно» – значит его возлюбленная точно решила порвать с ним отношения. Он написал ей письмо, полное упреков. И в конце заявлял, что лишит себя жизни. Одновременно он отослал ей все полученные от нее письма, перчатки, шляпу и другие мелкие вещи, взятые им на память…
Около полуночи он вернулся к себе домой, а спустя полчаса горничная Висновской передала ему записку своей барыни, сообщив, что та ждет его в карете. Они приехали в снятую квартиру, там произошло бурное объяснение. Актриса назначила Бартеневу свидание в той же квартире на другой день в шесть вечера. По ее словам, эта встреча должна была стать последней, потому что она уже окончательно решила покинуть Россию, причем отъезд должен был состояться уже через несколько дней: сначала в Галицию (Австро-Венгрию), а затем в Англию и Америку…
Страницы из книги «Убийство артистки Варшавского театра Марии Висновской. Подробный судебный отчет», изданной в 1891 г. в Петербургском издательстве А.С. Суворина
Последнее свидание, состоявшееся 18 июня 1890 года, действительно стало последним. Бартенев заявил, что не переживет ее отъезда. «Разве ты меня любишь? – спросила его актриса. – Если бы любил, то не грозил бы мне своей смертью, а убил бы меня». Бартенев отвечал, что себя может лишить жизни, но убить ее у него не хватит сил. Вслед за этим он приложил револьвер с взведенным курком к своей груди.
«Нет, это будет жестоко – убить себя на моих глазах. Что же я тогда буду делать?» – жеманно молвила Висновская. После чего вынула из кармана своего платья две банки: одну с опием, а другую с хлороформом, и предложила корнету принять вместе яд, и затем, когда она будет в забытье, убить ее из револьвера и затем покончить с собой. Бартенев согласился. После этого они оба начали писать записки. Висновская писала долго, рвала записки и опять начинала писать.
Затем она приняла опий вместе с портером, Бартенев тоже выпил немножко отравленного портера. Висновская легла на диван, помочила два носовых платка хлороформом, положила их себе на лицо и потеряла сознание. Бартенев выстрелил в нее в упор…
Корнет был предан суду по обвинению в умышленном убийстве. Рассматривал дело Варшавский окружной суд без участия присяжных заседателей в феврале 1891 года.
Бартенев подробно описал все обстоятельства их пребывания в одной комнате перед убийством: «Я так был убежден, что отец никогда бы мне не разрешил жениться на Висновской, а поэтому и написал в записке фразу: “Вы не хотели моего счастья…”
Она просила убить ее во имя нашей любви, настойчиво повторяя: “Если ты меня любишь, убей…” Помнится, что я прильнул к ее губам; она по-французски сказала: “Прощай, я тебя люблю”; я прижался к ней и держал револьвер так, что палец у меня находился на спуске; я чувствовал подергивания во всем теле; палец как-то сам собой нажал спуск, и последовал выстрел. Я не желаю этим сказать, что выстрелил случайно, неумышленно; напротив того, я все это делал именно для того, чтобы выстрелить, но только я хочу объяснить, что то мгновенье, когда произошел выстрел, опередило несколько мое желание спустить курок».
По словам корнета, после выстрела им овладел ужас, и в первый момент у него не только не появилось мысли застрелить тут же себя. «Долго ли я оставался после выстрела и что я делал, не могу дать себе отчета. На меня нашло какое-то отупение, я машинально надел шинель и фуражку и поехал в полк… Висновская своими разговорами поддерживала наше общее желание расстаться с жизнью во имя нашей любви».
Ключевой на судебном заседании стала речь, с которой выступил знаменитый адвокат Федор Никифорович Плевако. Он завоевал славу своими речами, которые имели магическое воздействие на присяжных заседателей. Писатель Викентий Вересаев вспоминал: «Главная его сила заключалась в интонациях, в подлинной, прямо колдовской заразительности чувства, которыми он умел зажечь слушателя».
«Присматриваясь к личности покойной, я не вижу необходимости ни идеализировать ее внутренних сил, ни унижать ее житейские поступки, – заявил Плевако. – Судя по тому, чего она достигла на сцене, мы знаем, что она не была обижена судьбой: завидной красоте гармонировал талант, эта искра Божия в душе, не затушенная, а развитая трудолюбием и любовью к образованию в молодой девушке…»
По словам Плевако, очаровавшая сцена разочаровала ее реализмом будничной жизни: поклонники, любуясь ею как артисткой, хотели быть близкими к ней как к женщине.
«Служа эстетическому запросу публики на сцене, она не обретала покоя и после того, как опускался занавес театра… Так живет она, то удовлетворенная артистическим успехом, то оскорбляемая грубостью поклонников, то обольщенная любовью, то разочарованная пошлостью, прикрытой любовными речами… То не знающая отдыха работница, то ловкая кокетка, очаровывающая одновременно нескольких, то мечтательница о семейном очаге, то рабыня чужих страстей…
Женские семейные инстинкты не умирали в ней. Мечты ранней девичьей поры об избраннике не оставляли ее в более зрелую пору. На это нам намекают ее разговоры о женихах, ищущих ее руки…»
Федор Плевако не очень высоко оценивал личность подсудимого: мол, он не из тех, которым суждены победы над представительницами прекрасного пола: «Маленький, с обыкновенной, некрасивой внешностью, с несмелыми манерами – что он ей?» Висновская была польщена его предложением руки и сердца, хотя и не испытывала к нему никакой любви.
«В этом предложении она видела надежду на спасение, – отмечал Плевако. – А Бартенев был серьезно намерен жениться. Правда, отец Бартенева никогда не дал бы согласия сыну жениться на актрисе. Бартенев знал это и понимал прекрасно. Он не забывал при этом, что между ним и Висновской существует племенная и религиозная рознь, которая должна послужить одним из главных препятствий для того, чтобы получить от отца разрешение на брак. Вот почему по приезде к отцу он ничего не говорил ему о своем намерении. Вместе с тем он ей писал, что отец не дает своего согласия на брак».
По словам Плевако, корнет верил в нравственную чистоту своей возлюбленной и считал ее едва ли не святой. Обижался на сослуживцев, которые передавали грязные слухи о ней.
«Охваченный отуманившей его страстью, он млел, унижался перед ней; он забыл, что мужчина, встречаясь с женщиной, должен быть верен себе, быть представителем силы, ума и спокойствия, – продолжал свою страстную речь Федор Никифорович. – А он лишился критики и только рабски шел за ее действительной и кажущейся волей, губя себя и ее этой порывистостью исполнения.
Она играла – он жил. Раз он приложил револьвер к своему виску и ждал команды, но Висновская, довольная эффектом, удержала его, иначе он бы покончил с собой. Довольно было одного слова: “Что будет со мной, когда у меня, в квартире одинокой женщины, найдут самоубийцу”. Другой раз револьвер был приложен уже к ее виску. Легко убедиться, что это было не нападение Бартенева на Висновскую…
И Висновская, и Бартенев давно играли в смерть… Смертью они испытывали и пугали друг друга… Игра в смерть перешла в грозную действительность. Они готовятся к смерти, они пишут записки, кончая расчетом с жизнью. Мое дело доказать, что эти записки не результат насилия одного над другим, а следствие обоюдного сознания, что с жизнью надо покончить…»
Плевако констатировал: «Записки, оставленные покойной и восстановленные из лоскутков, найденных в комнате, где произошло убийство, и сравнение их с записками, писанными Бартеневым, доказывают не насилие, а сговор Бартенева и Висновской к обоюдной смерти. Она велела ему убить ее прежде, чем убить себя. Он исполнил страшный приказ… <…>
В данных настоящего дела много этих смягчающих мотивов, – резюмировал Федор Никифорович. – Многие из них имеют за себя не только фактические, но даже и юридические основания… Обвинитель требует справедливого приговора, я напоминаю и ходатайствую о сочетании в нем правды с милосердием, долга судьи с прекрасными обязанностями человеколюбия…»
Суд признал Бартенева виновным в умышленном убийстве и приговорил его к восьми годам каторжных работ. Однако, по «высочайшему повелению» Александра III, каторгу ему заменили разжалованием в рядовые.
История эта взбудоражила общество, о ней долго не забывали. Иван Бунин впоследствии написал по мотивам этих событий рассказ «Дело корнета Елагина», изменив, правда, имена реальных персонажей и саму трактовку преступления. А спустя более ста лет по мотивам той давней истории сняли художественный фильм «Игра в модерн». Как отмечалось в одной из рецензий, «все крутится и вертится, сцены в загримированном под Варшаву Петербурге перемежаются с бубнящим что-то внутренним голосом героини, цыганским уханьем и объяснениями персонажей во взаимной нелюбви».
Невольный грешник
Дело, которое рассматривал в конце сентября 1883 года Острогожский окружной суд Воронежской губернии, оказалось настолько резонансным, что прогремело на всю Россию. Репортажи с него появлялись не только в местной, но и в центральной печати. Причин было несколько: во-первых, публику привлекла интригующая любовная история, во-вторых, подсудимый – представитель великосветского общества. В-третьих, защитником подсудимого выступал знаменитый адвокат Федор Никифорович Плевако, едва ли не каждое выступление которого было настоящим театральным действом. И, наконец, присяжными по делу выступали известные предприниматели и крупные помещики. По выражению Плевако, – «пахари и промышленники».
На скамье подсудимых оказался князь Григорий Ильич Грузинский, полковник Русской императорской армии, представитель древнего грузинского царского рода Багратионов.
Чета Грузинских жила в поместье в Воронежской губернии. Князь пригласил к своим детям гувернера – им стал немец Эрих Шмидт. Спустя некоторое время князь заподозрил, что гувернер завел любовные отношения с его женой, Ольгой Николаевной.
Князь немедленно уволил разлучника, однако, как оказалось, дело зашло уже слишком далеко. Супруга князя заявила, что не намерена больше жить с ним, и потребовала отдать принадлежащее ей имущество.
Все это стало тяжелейшим ударом для князя. Ведь история его женитьбы на Ольге Николаевне Фроловой была очень непростой. Они познакомились в кондитерской «Трамблэ» на Кузнецком Мосту в Москве. Красавица-продавщица понравилась князю, завязался роман, и вскоре Ольга уже жила в княжеском доме. Жениться князь Грузинский не мог: мать и слышать не хотела о браке сына с приказчицей из магазина. Тот, горячо преданный матери, поначалу уступил. Но вскоре Ольга родила ему сына, князь признал его и души в нем не чаял. Крестил первенца князь Имеретинский.
Ожидая второго ребенка, князь, несмотря на протесты матери, вступил в законный брак. Мало того, он попросил государя усыновить первенца…
Всего в браке родилось семеро детей: три сына и четыре дочери. Чтобы Ольгу Николаевну считали равной и не попрекали бедностью, Григорий Ильич подарил жене 30 тысяч рублей, а потом на свои деньги купил общее имение. Семейная жизнь была благополучной, пока по злой иронии судьбы князь сам не впустил в свой дом беду – гувернера Эриха Шмидта.
И вот теперь жена, изменившая ему, требовала отдать принадлежащее ей имущество. Князь выполнил это требование. С этого момента Ольга Николаевна переехала в квартиру Шмидта, ожидая, когда закончится постройка приготовляемого для нее дома в слободе Овчарня, расположенной в миле от усадьбы князя. Туда же переехал Шмидт, назначенный управляющим. По свидетельству старика управляющего, Карлсона, немец «ночью, неодетый ходил в спальню к княгине».
По словам Федора Плевако, Шмидт позволял себе оскорблять соперника, и новоиспеченные возлюбленные «на глазах всей дворни, всей слободы, всех соседей, на глазах детей, оставшихся у отца, они своим поведением не щадили ни чести князя, ни его терпения, ни его сердца».
С князем остались жить пятеро детей, а жена в свой новый дом забрала двух дочерей – одиннадцатилетнюю Тамару и девятилетнюю Лизу. Она сразу же заявила супругу, что теперь ему необходимо присылать по 100 рублей на содержание детей, на что тот ответил, что их состояния равны, в то время как он содержит всех сыновей и дочерей и ему не к чему платить, когда дочери могут жить с ним.
Князь до последней минуты надеялся, что жена все-таки одумается и вернется в семью. Увы, эти надежды были тщетными.
Вскоре князь узнал, что Ольга Николаевна куда-то уехала, а дочери остались с гувернером. Это потрясло князя: «Как, он, отец, живет тут, рядом, у него все, что нужно детям, он – они знают – любит и хочет иметь детей у себя; он мог уступить их матери, а теперь мать, уезжая, оставляет их с чужим человеком, с разлучником».
Князь поехал к детям, но Шмидт запретил им выходить из дома. Дочери плакали и просились домой к отцу, после чего Шмидт отпустил детей. Князь немедленно забрал дочерей у управляющего, а вот детское белье, хранившееся в доме княгини, не получил. Все вежливые просьбы и записки князя встретили отказ. Бывший гувернер согласился прислать пару детских рубашек и штанишек только за залог в 300 рублей.
Князь снова отправился в усадьбу жены за платьями. А когда вернулся, слуга Шмидта по его приказу закрыл входную дверь и не пустил Григория Ильича на порог дома. Из-за закрытой двери слышалась брань Шмидта.
Не выдержав издевательств, князь разбил стекло, открыл дверь, вошел и выстрелил в Шмидта, легко ранил его. Тот побежал к другому выходу. Не помня себя от обиды и злости, князь побежал туда же, но вокруг дома, чтобы встретиться с управляющим на крыльце. Здесь и произошла трагедия: Грузинский несколько раз выстрелил в Шмидта из пистолета.
Предварительное следствие квалифицировало поступок князя Грузинского как умышленное убийство. Ему грозило очень серьезное наказание, вплоть до каторги. Федору Никифоровичу Плевако пришлось проявить недюжинные усилия и все свое красноречие, чтобы убедить присяжных заседателей проявить снисхождение к подсудимому. Как всегда, свою речь он начал издалека…
«Как это обыкновенно делают защитники, я по настоящему делу прочитал бумаги, беседовал с подсудимым и вызвал его на искреннюю исповедь души, прислушался к доказательствам и составил себе программу, заметки, о чем, как, что и зачем говорить пред вами… Но вот теперь, когда прокурор свое дело сделал, вижу я, что мне мои заметки надо бросить, программу изорвать. Я такого содержания речи не ожидал.
Много можно было прокурору спорить, что поступок князя не может быть ему отпущен, что князь задумал, а не вдруг решился на дело, что никакого беспамятства не было… Но поднимать вопрос, что князь жены не любил, оскорбления не чувствовал, говорить, что дети тут ни при чем, что дело тут другое, воля ваша, – смело и вряд ли основательно. И уже совсем нехорошо, совсем непонятно объяснять историю со Шмидтом письмами к жене, строгостью князя с крестьянами и его презрением к меньшей братии – к крестьянам и людям, вроде немца Шмидта, потому что он светлейший потомок царственного грузинского дома», – такими словами Федор Плевако начал свою длинную речь.
Прокурор настаивал, что князь Грузинский не был честен с супругой и имел роман с солдатской дочкой Феней. На это Федор Плевако возразил, что нежные письма к Фене написаны князем в июле и августе 1882 года, тогда как расставание с женой произошло еще в 1881 году, весной, когда он узнал об измене.
«Князь ограничился легкой связью, а не женитьбой. Благодаря гласному нарушению супружеской верности со стороны княгини он мог бы развестись. Но жениться – значит привести в дом мачеху к семи детям. Уж коли родная мать оказалась плохой, меньше надежды на чужую. В тайнике души князя, может быть, живет мысль о прощении, когда пройдет страсть жены; может быть, живет вера в возможность возвращения детям их матери, хоть далеко, после, потом… Он невольный грешник, он не вправе для своего личного счастья, для ласки и тепла семейного очага играть судьбой детей. Так он думает и так ломает жизнь свою для тех, кого любит…», – отмечал Федор Плевако.
По словам адвоката, письма князя свидетельствовали лишь то, что он не так распутен и развратен, какими бы были многие на его месте. Настоящим дьяволом в интерпретации Федора Плевако стал Эрих Шмидт. «Прихлебатель, наемный любовник становится между отцом и детьми, и смеет обзывать его человеком, способным истратить детское белье, заботится о детях и требует с отца 300 руб. залогу. Не только у отца, которому это сказано, – у постороннего, который про это слышит, встают дыбом волосы!..»
Свидетели произошедшей трагедии рассказали, что видели, как Эрих Шмидт заряжал револьвер, переменял пистоны на ружье, взводил курки.
Федор Плевако был убежден, что Шмидт готовился убить князя: «Если Шмидт заряжал ружье из трусости и боязни за свою целость, то вероятнее, что он не стал бы рисковать собой из-за пары детского белья, он бы выдал его. Если Шмидт не хотел этой встречи, но не хотел также выдавать и белья по личным своим соображениям, то он, не выдавая белья, ограничился бы ссылкой на волю княгини, на свое служебное положение, словом, на законные основания, а не оскорблял бы князя словами и запиской, возбуждая тем его на объяснение, на встречу. Если Шмидт охранял только свою персону от князя, а не задумал расправы, он бы рад был, чтобы встреча произошла при народе».
Таким образом, по мнению Федора Плевако, все говорило о том, что Шмидт нарочно заманил Грузинского, спровоцировал его, чтобы тот первым применил оружие, а потом собирался стрелять, опираясь на закон самообороны…
Князь Грузинский всегда носил с собой оружие. Не выдержав нанесенных ему оскорблений, он выстрелил в Шмидта. Это произошло тогда, когда «гнев, ужас, выстрел, кровь опьянили сознание князя». Причем, по словам Плевако, «положение трупа навзничь, и не ничком, ногами к выходу, головой к гостиной, показывали, что Шмидт не бежал от князя, и он стрелял не в спасающегося врага».
Представив присяжным картину произошедшей трагедии, Плевако обратился к ним с такими словами: «О, как бы я был счастлив, если бы, измерив и сравнив своим собственным разумением силу его (князя Грузинского. – Ред.) терпения и борьбу с собой, и силу гнета над ним возмущающих душу картин его семейного несчастья, вы признали, что ему нельзя вменить в вину взводимое обвинение, а защитник его – кругом виноват в недостаточном умении выполнить принятую на себя задачу… <…>
Дело его – страшное, тяжелое. Но вы, более чем какое-либо другое, можете рассудить его разумно и справедливо, по-божески, – подытоживал Федор Плевако, обращаясь к присяжным. – То, что с ним случилось, беда, которая над ним стряслась, – понятны всем нам; он был богат – его ограбили; он был честен – его обесчестили; он любил и был любим – его разлучили с женой, на склоне лет заставили искать ласки случайной знакомой, какой-то Фени; он был мужем – его ложе осквернили; он был отцом – у него силой отнимали детей и в глазах их порочили его, чтобы приучить их презирать того, кто дал им жизнь».
Светлейший князь Г.И. Грузинский.
Портрет работы М.А. Зичи, 1869 г.
Федор Плевако изо всех сил пытался представить своего «клиента» жертвой тяжелейших обстоятельств. «Есть моменты, когда душа возмущается неправдой, чужими грехами, возмущается во имя нравственных правил, в которые верует, которыми живет, – и, возмущенная, поражает того, кем возмущена… Так, Петр поражает раба, оскорбляющего его учителя. Тут все-таки есть вина, несдержанность, недостаток любви к падшему, но вина извинительнее первой, ибо поступок обусловлен не слабостью, не самолюбием, а ревнивой любовью к правде и справедливости», – уверял адвокат.
Усилия Федора Плевако не прошли даром. На финальный вопрос «виновен или не виновен?» присяжные дали ответ «не виновен». Хотя, разумеется, смысл вопроса был в том, заслуживает князь наказания или нет, поскольку факт того, что он убил Эриха Шмидта, был налицо. Присяжные посчитали, что преступление было совершено князем Грузинским в состоянии умоисступления.
Увы, семейный союз ему спасти не удалось. После суда он развелся с неверной супругой, а дети остались на его попечении. Больше он в брак не вступал, полностью посвятив себя воспитанию детей. Князь скончался в 1899 году в возрасте 66 лет. Как сложилась судьба Ольги Николаевны – неведомо. Известно лишь, что она покинула сей мир в 1902 году, пережив бывшего мужа на три года.
Убийцу признали невиновной
Летом 1912 года весь Петербург шокировало известие об убийстве известного миллионера Якова Петровича Беляева. Как сообщалось в прессе, преступление совершила его любовница Антонина Богданович на почве ревности к жене племянника, госпоже Виноградовой, и намерения Беляева порвать сношения с Богданович. Спустя два года дело об убийстве слушалось в Санкт-Петербургском окружном суде и также привлекло немалое внимание общества.
Яков Беляев – один из сыновей коммерсанта Петра Абрамовича Беляева – основателя династии предпринимателей. Кроме Якова наследниками были его родные братья Митрофан и Сергей. Семейной фирмой они руководили поочередно.
Четыре года во главе товарищества стоял Митрофан Беляев. Затем он отошел от дел и стал известен как меценат, организатор знаменитых «Беляевских пятниц», навсегда вошедших в историю русского музыкального искусства. Кроме того, он создал музыкальное издательство, организовал Русские симфонические концерты и Русские квартетные вечера.
После Митрофана Беляева фирмой на протяжении почти тридцати лет руководил его брат Сергей. Кроме предпринимательской деятельности он серьезно занимался и политикой: будучи членом Союза 17 октября, стал депутатом Государственной думы.
После смерти Сергея Беляева в 1911 году фирму возглавил третий брат – Яков Петрович Беляев, потомственный почетный гражданин, весьма известный и уважаемый в Петербурге. В его «активе» – звание доктора медицины, участие в Русско-турецкой войне за освобождение славян.
Коммерцией он занялся вынужденно – из-за смерти отца, возглавлявшего семейную фирму, и выхода из дела брата. Тем не менее предпринимателем оказался удачливым. Выступил одним из учредителей столичного Общества заводчиков и фабрикантов, а позже – Всероссийского торгово-промышленного союза.
Что же касается личной жизни миллионера-лесопромышленника… Как сообщалось в прессе, в 1902 году он познакомился с женой своего племянника Андрея Андреевича Виноградова – Ниной Петровной, которая увлекалась игрой на Петербургской фондовой бирже. Началось все с делового партнерства, которое затем переросло в довольно теплые отношения. Впоследствии на допросах Нина Петровна Виноградова категорически отвергала, что состояла в интимной связи с Яковом Петровичем Беляевым.
Если это действительно было правдой, тогда можно объяснить, почему встреча с красавицей Антониной Богданович так вскружила голову Якову Беляеву. Между ними вспыхнула страстная любовь, начался бурный роман. Миллионера не смущало то, что Богданович – замужняя дама. Догадывался он и насчет ее бурного прошлого.
Вездесущие газетчики сообщали про Антонину следующее: болгарка по национальности, лишившись родных, она приехала из Болгарии в Россию. Здесь познакомилась с бывшим кавалерийским офицером Богдановичем. Спустя некоторое время они сыграли свадьбу. Бывший офицер обладал крупным состоянием, и для красавицы-болгарки началась веселая и безбедная жизнь. Муж окружил ее роскошью и ни в чем не отказывал.
Так продолжалось довольно долго, но однажды пришел «черный день». Все средства оказались прожиты, а заложенные имения проданы за долги. Муж красавицы пошел зарабатывать деньги музицированием. Удача улыбнулась ему: обладая редким талантом, он стал приносить домой до 1000 рублей в месяц. Но его избалованной жене, обожавшей шикарные туалеты и привыкшей к постоянным кутежам и празднествам, этих «грошей» было мало. Она привыкла разбрасываться деньгами.
Именно тогда она и познакомилась с миллионером Яковом Беляевым, ей уже за сорок, а богачу-лесопромышленнику – под шестьдесят…
В ходе предварительного следствия выяснилась несколько иная картина. Было установлено, что после смерти своей первой супруги Беляев женился на бывшей проститутке Аполлине Гельцель. Бывая у нее, он познакомился и с ее подругой Антониной Пааль, тоже дамой легкого поведения, в то время известной под именем «Деборы». В 1895 году последняя вышла замуж за некоего Богдановича, причем знакомство ее с Беляевым продолжилось. Яков Петрович стал ухаживать за ней и в 1900, или 1901 году, сошелся с нею, разойдясь с Гельцель.
Требовательная и ревнивая, Богданович не давала Беляеву спокойной жизни, все время подозревала в измене. Устраивала скандалы, угрожая убить миллионера, если он изменит ей. А за полгода до трагедии стала буквально преследовать Беляева: устраивала ему публичные сцены, жаловалась общим знакомым и родственникам на то, что он сожительствует с женой племянника…
Нина Виноградова на суде подтвердила, что Антонина Богданович уже довольно давно грозила убить и ее, и самого Беляева. В подтверждение своего заявления Виноградова предоставила следствию письма Беляева, которые тот писал ей на протяжении ряда последних лет. Из них можно было заключить, что коммерсант стал охладевать к Антонине Богданович, перестал обращаться к ней на «ты» и перешел на официальное «Вы». Сама же Богданович утверждала на допросах, что ее интимные и теплые человеческие отношения с Беляевым поддерживались вплоть до самого последнего времени.
В архиве Беляева нашли письмо, написанное Антониной Богданович в 1907 году, в котором последняя требовала выдать ей векселя на сумму, «необходимую для обеспечения ее материального положения». Беляев выписал пять стандартных пятитысячных векселей на ее фамилию…
Странная связь миллионера и ревнивой любовницы продолжалась довольно долго. В конце концов постоянные сцены ревности и скандалы вывели его из себя, и он решил разорвать этот «порочный круг». После очередного скандала, учиненного ревнивой «подругой жизни», он заявил ей, что больше не желает ее видеть.
Когда летом 1912 года встал вопрос о разрыве отношений, именно на эти 25 тысяч рублей Антонина Ивановна потребовала посчитать проценты дохода, как если бы вся эта сумма лежала в облигациях Министерства финансов.
Развязка не заставила себя долго ждать. Взбешенная Антонина Богданович выхватила револьвер, который она носила с собой, и в припадке ревности застрелила своего возлюбленного.
В соседней комнате находился сын Якова Беляева Иван. Услышав выстрелы в столовой, он бросился туда и застал отца распростертым на полу, а Антонину Богданович – стоящей с револьвером в руке. Иван Беляев бросился к стонущему отцу, но в ту же минуту Богданович произвела еще один выстрел – смертельный. По показаниям служанок Беляева, они, прибежав на выстрелы, застали Богданович плачущей, причем она заявила им, что «не могла больше терпеть, что барин живет с племянницей».
Хотя Антонину Богданович арестовали по обвинению в «убийстве в запальчивости», у следователей довольно быстро возникли серьезные сомнения в обоснованности именно такой квалификации ее действий. Когда на допросе ей заметили, что неуместно говорить о любви между мужчиной и женщиной, когда та требует выдачи вперед векселей на 25 тысяч рублей, Богданович заявила: «Да я спасала его состояние!» Как выяснилось, она имела в виду случай, происшедший в 1909 году, когда Беляев ссудил деньгами Андрея Виноградова – мужа Нины Виноградовой.
На суде прозвучало письмо Якова Беляева Антонине Богданович, датированное 23 июня 1912 года. В нем были такие слова: «Не могу мириться с созданным Вами положением; нахожу подчиненность своей жизни Вашей воле для себя унизительной и вижу в Вас только насильника – тюремщика… Напоминаю об отсутствии существенного повода ко всей этой истории и о ранее данном Вами обещании не вмешиваться в мою жизнь».
Далее Яков Петрович предлагал «продолжить совместную жизнь в качестве добрых друзей, не задающихся непрошенным руководством жизнью другого. В противном случае нам придется разъехаться, так как без спокойного гнезда мне не выдержать».
Судебная экспертиза констатировала наличие в поведении Антонины Богданович истерических черт, но в целом ее признали полностью вменяемой. Сразу же после убийства ее отправили в тюрьму «Кресты», где полтора года она просидела в одиночной камере.
Слушания начались 1 марта 1914 года в столичном окружном суде с участием присяжных заседателей. Процесс оказался громким, ведь защитником Богданович выступил знаменитый Николай Карабчевский, один из выдающихся адвокатов и судебных ораторов дореволюционной России, с 1913 года – председатель Петербургского совета присяжных поверенных.
Адвокат Н. Карабчевский. Именно его стараниями А. Богданович (которую ждала тюрьма или каторга) объявили невиновной
«Перед судом прошло около 50 свидетелей, и об одних и тех же лицах присяжным заседателям приходилось слушать совершенно различные характеристики, – сообщалось в журнале “Огонек”. – Одни восхваляли г-жу Богданович как любящую подругу Беляева и нежную мать его детям, другие рисовали отталкивающими чертами отношения к детям самого Беляева. Временами казалось, что было два Беляева и две Богданович. Подсудимая во время процесса сильно волновалась и часто впадала в истерику».
В качестве свидетеля обвинения на суд вызвали Нину Виноградову, обвинитель дотошно выяснял ее отношения с Беляевым, цитировал различные выдержки из 38 писем Виноградовой, приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств. Ответы практически не оставили сомнений в том, что отношения между Беляевым и Виноградовой и в самом деле были дружественными, но никак не интимными.
Однако адвокат Карабчевский, приступив к допросу Виноградовой, поинтересовался у нее: «Вы раньше писали кому-либо?» Получив отрицательный ответ, воскликнул: «Вот видите!» После чего постарался убедить присяжных, что если женщина переписывается с мужчиной, это непременно следствие сексуальных отношений. «Я слишком знаю жизнь, слишком стар, чтобы верить в духовную чистоту этих отношений», – подытожил адвокат свои умозаключения.
После допроса домашней прислуги последовали речи обвинителя, гражданского истца и адвоката. Товарищ прокурора Рейнике положил конец всем многословным дискуссиям в суде, заявив: «Убивать нельзя!» Обвинение потребовало для Богданович трех лет лишения свободы: это был максимально суровый приговор, допустимый вменяемой ей частью 2 статьи 1445 Уложения о наказаниях.
Так бы оно, наверное, и произошло, если бы не прозвучавшая затем речь Карабчевского, которая, как всегда, была блистательной и напоминала скорее выступление на театральных подмостках. Он защищал обвиняемую виртуозно, особо напирая на ее нравственные муки.
Буквально в самом начале защитник заявил: «Всегда ли тот, кто нажимает курок, наносит удар, от которого наступает физическая смерть, является действительным виновником катастрофы? Уклониться от этого вопроса – значило бы не считаться с людскими душами, людскими отношениями, людскими переживаниями…»
Виновником трагедии Карабчевский назвал… самого убитого Якова Беляева. Адвокат так охарактеризовал его действия: «Выбрасывать женщину, которую подняли до себя, возмутительно!»
«Гражданский истец ждет обвинительного приговора, – отметил Карабчевский. – Подсудимую же ждет наказание… Она может быть приговорена к каторге на 12 лет или к долговременной тюрьме… Принимая во внимание те неуловимые психические и нравственные основания, по которым расценивается в глазах совестливого судьи внешнее выражение преступности, вы, может быть, вправе сказать: довольно страданий для этой женщины, ею уже искуплено все. И какой бы приговор, господа присяжные заседатели, ни последовал, какое наказание ни обрушилось бы на несчастную Антонину Ивановну – я умываю руки: я не виноват, так как теперь уже за вами очередь».
Присяжные заседатели, вдохновленные речью Карабчевского, после получасового совещания вынесли вердикт: «не виновна». Антонину Ивановну Богданович освободили прямо в зале суда. Публика разразилась овациями…
Прокуратура вынесла кассационный протест на приговор суда, однако Правительствующий Сенат по Уголовному кассационному департаменту и протест, и жалобу оставил без последствий. Любопытно, что Антонина Богданович не потеряла даже право получить 25 тысяч рублей по векселям убитого ею Якова Беляева.
«Женись на мне, ты обещал!»
Судебные дела, связанные с трагическими любовными историями, всегда вызывали и продолжают вызывать повышенный интерес публики. Не стало исключением и дело Ольги Палем, которое рассматривалось в Санкт-Петербургском окружном суде в феврале 1895 года. Дело оказалось очень сложным, оно дважды разбиралось присяжными заседателями и дважды восходило на рассмотрение Уголовного кассационного департамента Правительствующего Сената.
История следующая. Майским вечером 1894 года в гостиницу «Европа» у Чернышева моста явился 25-летний студент Института путей сообщения Александр Довнар и потребовал «комнату получше», пожелание исполнили, после чего студент отправился за ожидавшей его в подъезде дамой, лицо которой покрывала густая черная вуаль. Они поужинали, затем заперлись в номере. Все было тихо и мирно.
На следующее утро коридорный, по приказанию студента, подал чай, затем номер вновь заперли изнутри. До часу пополудни оттуда не было слышно никакого шума, а затем раздались один за другим два выстрела. Потом из номера выбежала окровавленная женщина с истошным воплем: «Спасите!!! Я совершила преступление и себя ранила. Скорее доктора и полицию – я доктору все разъясню». Она упала на пол, молила скорее позвать доктора и все время повторяла: «Я убила его и себя».
Прибежавшая на крик прислуга обнаружила в номере студента, лежавшего в луже крови и не подававшего признаков жизни. На кресле валялся револьвер с тремя заряженными патронами и двумя пустыми гильзами…
Барышня истерично повторяла: «Тут никто не виноват; рано или поздно так должно было случиться!» На вопросы подоспевшего врача она объяснила, что тот, кого она лишила жизни, он жил с ней и оказался «самым низким, скверным человеком». По ее словам, она застрелила Довнара за то, что он назвал ее «самым дурным словом», потом она выстрелила уже в себя.
Барышню (ее звали Ольга Палем) отвезли в Мариинскую больницу. Ранение оказалось неопасным, вскоре она пошла на поправку и предстала перед судом присяжных по обвинению в заранее обдуманном убийстве. По словам очевидцев, подсудимая находилась в «болезненно-нервном состоянии», с ней «делались нередко дурноты и истерические припадки».
На суде было оглашено ее письмо к ее бывшему возлюбленному: «Саша убит совершенно случайно, так как я хотела… не убить, а только поранить, чтобы у него явилось раскаяние и угрызения совести, для того, чтобы он на мне женился… к несчастью, в это утро он слишком сильно вызывал во мне ревность и, не щадя, меня оскорблял как только мог. Я, не помня себя от самого сильного оскорбления, выхватила револьвер… была ли цель убить или попугать его – не помню; помню только, что я выстрелила, он упал».
Защита, нередко игнорируя факты, пыталась во что бы то ни стало представить Довнара жертвой «коварной женщины», которая систематически его травила. Все это строилось исключительно на каком-то отвлеченном академическом положении, что он был еще в возрасте «учащегося», она же, по метрическому свидетельству, двумя годами старше его.
Впрочем, на суде выяснилось немало весьма деликатных подробностей. Оказалось, что роман Довнара с госпожой Палем продолжался около четырех лет. Свидетели показали, что покойный, скромный и приличный на людях, не стеснялся в присутствии бесхитростной прислуги проявлять довольно жесткие черты своего характера. Иногда он избивал Палем до крови, до синяков, пуская при этом в ход швабру, однажды изломал на ней ножны своей старой шашки студента-медика.
Прислуга удостоверила, что еще в 1892 году, в период совершенно мирного сожительства на одной квартире господ Довнара и Палем, Довнар после какого-то кутежа и ночи, проведенной вне дома, вскоре заболел «таинственной болезнью». Он скрывал ее от Палем до тех пор, пока не заболела наконец и она. Обоим пришлось лечиться…
Характеризуя прошлое подсудимой, помощник прокурора заявил, что оно так неприглядно и так позорно, что он спешит закрыть его «дымкой» из опасения оскорбить чье-либо нравственное чувство.
Обвинение пыталось доказать, что Ольга Палем – проститутка. В качестве доказательства была представлена фотокарточка Палем, которую покойный Довнар, совместно с своим другом детства господином Матеранским, разыскал в одном из одесских притонов. Однако затем выяснилось, к одесскому притону эта фотография не имеет никакого отношения.
Одесский полицейский пристав, вызванный в качестве свидетеля, отверг всякое предположение о подобной «карьере» госпожи Палем. Поскольку обвинение в «продажности» рассыпалось, сторона обвинения стала доказывать, что Ольга Палем – просто-напросто фривольная и «безнравственная» женщина.
И снова мимо. Да, студент Довнар вовсе не был первым мужчиной в ее жизни, но не было и тени подозрения ни в развращенности, ни во фривольном поведении. Да, она пользовалась популярностью у мужчин, но никаких существенных доказательств ее предосудительного поведения предоставлено не было.
Защитником Ольги Палем выступил легендарный адвокат Николай Карабчевский, один из выдающихся адвокатов и судебных ораторов дореволюционной России.
«Чтобы самому себе раз и навсегда отрезать пути к произвольным и пристрастным выводам, я не буду пользоваться для характеристики покойного Довнара иным материалом, кроме собственных его писем, и притом представленных к следствию его же матерью, к которой все они писаны», – заявил Карабчевский.
Таких писем было шестнадцать. Каков же в них студент Довнар?
«Желания его предусмотрительны, средства практичны, приемы осторожны и целесообразны… Он домогается перейти из Медицинской академии в Институт инженерных путей сообщения по соображениям иного, чисто карьерного свойства, которые он с пунктуальной и явственной настойчивостью излагает в письмах к матери», – отмечает Карабчевский, подчеркивая: студент Довнар – вовсе не наивный юноша, и наивно выставлять его жертвой коварной обольстительницы. Более того, она вовсе не «эксплуатировала денежные средства Довнара», как это нередко звучало в устах обвинения. Наоборот: это Довнар пользовался ее средствами!..
Палем, по словам Карабчевского, – «безалаберный комок нервов, где сплетено столько здравых и вместе столько больных комбинаций. Нет никакой возможности отделить все симпатичные, чисто женственные черты ее характера от отрицательных. Ее приходится принимать такой, какова она есть, считаться со всеми особенностями ее характера… Вокруг нее не было близких, ее некому было пожалеть. Одна, как ветер в поле… За мною сидит Палем, на мне лежит ответственность за ее судьбу».
Карабчевский поведал присяжным заседателям настоящую жизненную драму. Начал с того, что барышня выросла в условиях «довольно заскорузлой и ветхозаветной» еврейской семьи. Приняла православие, после чего с семьей ей пришлось расстаться. Старики, хоть и не проклинали свою некогда любимую Меню, но не хотели жить с вновь нареченной Ольгой. От своего крестного отца, генерал-майора Василия Попова, известного крымского богача, она получила 50 рублей и право именоваться, если не его фамилией, то, во всяком случае, его отчеством «Васильевной».
С таким легковесным «багажом» она отправилась в Одессу, там поступила в горничные, но вскоре ее уволили, поскольку выяснилось, что она белоручка, затем она работала в табачной лавочке. Спустя некоторое время одесский пристав стал встречать ее уже «хорошо одетой»: она стала содержанкой богатого господина.
Именно там, в Одессе, она познакомилась с жившим там семейством Довнар. Александру тогда исполнился двадцать один год, он стал оказывать барышне знаки внимания. Ольга обожала верховую езду, и мать Довнара не раз приветствовала поощрительной улыбкой «затянутую в рюмочку» грациозную и изящную амазонку, вскакивавшую на лошадь в своем черном элегантном наряде.
Отношения барышни и студента в Одессе продолжались два года, она даже представляла Довнара своим женихом, тот не был против. Ольга сочинила историю о своем татарско-княжеском происхождении, но когда в конце концов Довнар узнал правду, это не изменило их отношений.
Осенью 1891 года Довнар отправился в Петербург поступать в Медицинскую академию, барышня отправилась вслед за ним. Они поселились вместе на Кирочной, занимали небольшую квартиру. Прислуге, швейцару, дворникам Довнар выдавал Палем за свою жену. Даже письма, получаемые ею, имели адресатом «Ольге Васильевне Довнар». И только в документах она значилась как «симферопольская мещанка Ольга Васильевна Палем». Жили молодые, как положено молодым влюбленным: за ссорами следовали бурные и страстные примирения. Ольга даже говорила, что она «тайно обвенчана».
Но затем Довнар охладел к своей возлюбленной и стал говорить «живу с барынькой». Она, в свою очередь, стала проявлять настойчивость: «Женись на мне, ты обещал!» Он или отделывался шуткой, или ссылался на то, что студентам вступать в законный брак не дозволяется. А то и вообще грозил, что уйдет к матери.
Отношения стали резко ухудшаться. Довнар потребовал выселить госпожу Палем из своей квартиры, арендованной на его имя, и разделить их имущество. Фактически – выставил ее на улицу.
«Будь она даже та продажная женщина, о которой говорить здесь больше не решаются, разве так расстаются, разве таким способом отделываются и от продажной женщины? А ведь с этой женщиной, как-никак, он прожил четыре года, и, по собственному сознанию господ обвинителей, эта женщина была ему верна. С собакой, которая четыре года покорно лижет вашу руку, не расстаются так, как расстался Довнар с Палем! Он жил теперь уже у матери, он вырвался из ее сетей. Чего же еще ему было нужно?» – восклицал адвокат Карабчевский.
Во всех своих жалобах она, однако, всюду выгораживала Александра Довнара, которого продолжала страстно любить. Она видела в нем бесхарактерного и малодушного человека, всецело попавшего под влияние матери. Она даже пожаловалась директору института, где учился Довнар, ее там сочувственно выслушали, рекомендовали защиту ее интересов известному, пользующемуся всеобщим уважением адвокату и опытному юристу, присяжному поверенному Андреевскому.
В конце концов произошло примирение: Довнар заявил, что он ничего не имеет против того, чтобы жить по-прежнему с Ольгой Палем, обязывался ее не бросать, она же, в свою очередь, обязалась не требовать от него насильственного брака «и не подавать никуда жалоб». В этом смысле с той и с другой стороны были выданы даже «подписки», заверенные в канцелярии Института путей сообщения.
Они снова попробовали жить вместе, но «склеить» отношения было уже невозможно. Кончилось все скандалами, врач констатировал у барышни глубокое расстройство нервов и прописал ей абсолютный покой. «Нет той часовни, в которой бы она не побывала, нет того чудотворного образа, которому бы она не помолилась. Мысль о Довнаре, исключительно о Довнаре, ни о чем больше, преследует ее, мучит, терзает, – отмечал Карабчевский. – А ее бывший возлюбленный между тем следовал совету своей матери: как будто ты ее вовсе не знаешь».
Выслушав проникновенную речь Карабчевского, присяжные заседатели признали подсудимую невиновной «во взведенном на нее обвинении». Однако уже через несколько дней министр юстиции поручил прокурорскому надзору обратиться с кассационным протестом в Правительствующий Сенат. Тот после довольно продолжительного совещания определил: решение присяжных заседателей приговор окружного суда отменить и передать дело в Санкт-Петербургскую судебную палату для нового рассмотрения в другом составе.
В тот же день Ольгу Палем вновь арестовали. Для «исследования состояния ее умственных способностей» ее поместили в больницу Св. Николая Чудотворца. Врачи-психиатры сделали вывод, что преступление было ею совершено в припадке умоисступления, но окружной суд с этим не согласился, и Ольгу Палем вновь предали суду.
Во второй раз ее судили в окружном суде 18 августа 1896 года. На этот раз яркая речь защитника не спасла Ольгу Палем от тюрьмы. Присяжные признали ее виновной в непреднамеренном убийстве, совершенном в запальчивости и раздражении, но дали ей снисхождение. На основании этого вердикта суд приговорил ее к десятимесячному тюремному заключению. Правительствующий Сенат подал жалобу на этот приговор, считая его излишне мягким, но она была оставлена без последствий.
Двое в лодке
В мае 1885 года Санкт-Петербургский военно-окружной суд рассматривал дело поручика Владимира Михайловича Имшенецкого. Его обвиняли в том, что он утопил свою жену, которая незадолго до этого завещала ему богатое наследство. Дело оказалось скандальное, запутанное, связано с любовным треугольником. Столичная публика внимательно следила за ходом процесса, тем более что защитником выступал Николай Карабчевский.
Дело обстояло следующим образом. Поручик Имшенецкий в феврале 1884 года женился на дочери весьма состоятельного купца Серебрякова, Марии Ивановне. Вскоре он получил от жены нотариально заверенное завещание, по которому в случае ее смерти наследовал ее дом и все ее имущество.
Злые языки говорили, что на Серебряковой поручик женился исключительно по расчету. И без того небогатый, он задолжал Серебрякову, Мария Ивановна же была беременна от другого мужчины. Сам же поручик до свадьбы влюбился в дочь обедневшего купца Елену Ковылину, который не мог дать за ней приданого…
Вечером 31 мая 1884 года супруги, любившие водные прогулки, сели в собственную лодку и отправились в сторону Финского залива. Впоследствии свидетельница Шульгина, жившая на даче близ Петровского моста, видела проследовавшую мимо лодку с двумя пассажирами, а затем, когда она скрылась, услышала крик о помощи.
«Ровно в десять часов я вышла на балкон (перед тем она взглянула на часы, так как ждала мужа к чаю)… минут через пять-семь ближе к берегу показалась лодка, выехавшая из-под моста; я видела лодку, на ней были две фигуры – мужчина и женщина; лодка проехала и скрылась из глаз моих за второй пристанью; вдруг раздался отчаянный крик о помощи», – рассказала Шульгина.
Имшенецкий впоследствии утверждал, что причиной всему стало желание его жены пустить ее на весла. Дескать, он отговаривал ее: «Погоди до Ждановки, там пущу!» Но она не хотела его слушать: мол, хочу попробовать грести против течения, и все тут. С этими словами, скинув через голову веревочку от руля, она поднялась в лодке во весь рост. При первом же своем движении Мария Ивановна вдруг покачнулась, хотя волнения на воде почти не было, и стремительно полетела в воду. Произошло это так быстро, что поручик не успел даже ухватить ее. Он тотчас же бросился за ней в воду, но жена буквально камнем пошла на дно, а сильное течение отнесло его в сторону, и он ничего не смог сделать.
Такова, разумеется, версия поручика, никто не видел, как именно, при каких обстоятельствах Мария Ивановна выпала с лодки. Непосредственных свидетелей несчастья не было. Что же касается крика о помощи, то его услышал также сторож Петровского моста. Он вышел из будки и ясно различил пустую лодку, фигуру в воде и спешивших к месту катастрофы яличников.
Один из них, Филимон Иванов, вытащил поручика Имшенецкого из воды. «Когда пошел дождь, я был в будке; дождь перестал, я вышел из будки на плот. Стоя на плоту, вдруг слышу мужской голос: “Спасите!” Я огляделся, вижу: по течению поперек плавает лодка, и от нее в двух-трех шагах в воде по горло плавает человек. Я вскочил в ялик и бросился на помощь», – рассказал Иванов.
По его словам, когда он затащил поручика в свой ялик, тот исступленно закричал: «Где моя Маша?» – «Сидите смирно, – заявил яличник, – вашей Маши нет уже». Офицер стал кричать еще сильнее: «Где Маша, где Маша?!» Снял с себя часы, протянул их яличнику: «Спасите мою Машу!»
Сбежались дачники, и к тому времени, когда яличник доставил Имшенецкого на причал, там уже собралась толпа. Свидетели говорили, что поручик дрожал, стучал зубами, истерически рыдал, его било, как в лихорадке. По словам уже упомянутой выше Шульгиной, которая была ближе всех к поручику, он держал в руках шляпу жены, целовал ее, плакал, говорил отрывисто и несвязно, все время повторял: «Что я скажу старикам, что я скажу?..»
Когда поручика привезли домой, с ним случился истерический припадок, о чем свидетельствовал доктор Тривиус. Последовавшую ночь Имшенецкий провел в бреду. Той же ночью приехал отец Марии Ивановны, он застал поручика в жутком состоянии, тот беспрестанно причитал: «Маня, Маня, Маня!»
Когда через несколько дней труп утопленницы достали из воды, Имшенецкий уже не рыдал. Как сообщал судебный следователь Петровский, поручик имел вид очень утомленного и убитого горем человека. Из-за жаркой погоды труп начал разлагаться, лицо покойной вздулось и посинело…
Мать и сестра погибшей утверждали, что Мария Ивановна хорошо плавала, поэтому у следствия возникло подозрение: не оглушил ли поручик свою жену перед тем, как она упала в воду? Судебно-медицинская экспертиза не обнаружила каких-либо прижизненных повреждений на трупе. Но зато установила, что покойная была беременна. Для Имшенецкого это известие стало настоящим шоком: жена ему об этом ничего не говорила.
Обвинение утверждало, что Имшенецкий утопил жену, чтобы завладеть ее имуществом и жениться на Ковылиной. Более того, купец Серебряков заявил, что три дня до трагедии Имшенецкий будто бы жестоко истязал свою жену. При этом отец покойной ссылался на слова некоего прохожего, который во время поисков трупа покойной сказал приказчику Серебрякова: «Бедная, какие истязания приняла она в последние дни». И стремительно удалился в глубину Крестовского острова…
Прокурор обвинил поручика в предумышленном убийстве жены, ему грозила бессрочная каторга. Имшенецкий вину не признал, объясняя все трагической случайностью.
Складывалась ситуация, что не было веских доказательств ни в пользу вины поручика, ни в пользу его невиновности. В таких ситуациях, как это нередко бывало, решающей становилась речь защитника. Им выступил Николай Карабчевский. «Вы не подпишите приговора по столь страшному и загадочному обвинению до тех пор, пока виновность Имшенецкого не встанет перед вами так же живо и ярко, как сама действительность», – заявил защитник, обращаясь к судьям.
Карабчевский указывал, что как раз после женитьбы на поручике Мария Ивановна «и поздоровела, и расцвела, и оживилась, что самые последние дни перед смертью, как и во время замужества, между нею и мужем отношения были прекрасные». Более того, муж был с ней мил и любезен, она же не скрывала даже перед посторонними своей горячей любви, преданности и благодарности.
Об этом свидетельствовали прислуга Серебрякова – дворники и кухарки. Даже за несколько часов до трагедии супруги были веселы, шутили, строили планы, как проведут лето. И в таком приподнятом настроении поехали кататься на лодке.
Нашлись свидетели того, как супруги садились на пристани в лодку. Содержатель причала Файбус удостоверил на суде, что Мария Ивановна, которая «всегда храбро и смело садилась в лодку, нисколько не робела на воде и отлично правила рулем», и этот раз не менее охотно и радостно отправилась на обычную прогулку. Маршрут их также был почти заранее известен: по Неве до Тучкова моста, отсюда в Ждановку и через Малую Невку к взморью.
«Таким образом, все подозрения, касающиеся “истязаний” и того, будто бы Имшенецкий чуть ли не насильно посадил жену в лодку, – не более как плод беспощадного разгула мрачной фантазии Серебрякова, привыкшего в собственном своем доме все вершить деспотическим насилием», – категорично заявил Карабчевский.
Карабчевский заявил, что если бы даже поручик имел умысел утопить свою жену, то сугубо по соображениям логики не стал бы делать этого там, где произошла трагедия, поскольку место просматривалось со многих сторон, а вокруг немало гуляющей публики.
«На месте происшествия мы были с вами, судьи, – заявил защитник. – Утверждать, что это место “глухое”, “безлюдное” – значит грешить явно против истины. От самого Петровского моста и до пристани “Бавария” вдоль всего берега, ближе к которому и имело место происшествие, идет сплошной ряд двухэтажных населенных дач. На набережной ряд скамеек для дачников, по берегу несколько плотов и пристаней. Достаточно вспомнить, что в самый момент катастрофы везде оказались люди, которых нельзя было не видеть и с лодки…»
Весьма пикантное обстоятельство то, что Мария Ивановна была беременна. Всячески отводя обвинение от поручика, Карабчевский сослался на мнение экспертов-врачей: мол, в первые месяцы сама по себе беременность не может стеснять и мешать легкости движений, зато иногда вызывает головокружение и болезненное замирание сердца. Быть может, у покойной от быстрого движения как раз закружилась голова, в таком состоянии она могла покачнуться и в этом разгадка всего несчастья?
Против Имшенецкого говорило несколько обстоятельств: завещание покойной в его пользу, его нежелание уступить добровольно наследство Серебрякову, а также то, что поручик во время обыска разорвал какое-то письмо…
«Относительно всех этих весьма серьезных, с первого взгляда, обстоятельств должен сказать одно: если Имшенецкий убил свою жену, они имеют громадное усугубляющее его вину значение; если же он ее не убивал, они не имеют для дела ровно никакого значения, – заявил Карабчевский. – Ими самая виновность его отнюдь не устанавливается.
Покойная, страдавшая во время беременности разными болезненными припадками, могла, естественно, подумать о том, чтобы имущество, в случае ее смерти бездетной, не перешло обратно отцу, которого она и не любила, и не уважала. Завещая все любимому мужу, она отдавалась естественному побуждению каждой любящей женщины: сделать счастливым того, кого любишь. Завещание делалось не таясь, у нотариуса, по инициативе самой Марии Ивановны, как удостоверяет свидетель Кулаков».
Разорванное письмо действительно свидетельствовало не в пользу поручика, его автор – его любовница Ковылина, в нем Имшенецкий обвинялся в измене. Откуда стало известно о содержании письма? Перед тем как поручик изорвал его в клочья, судебный следователь Петровский успел все-таки с ним ознакомиться.
«Подобные письма с отзвуками старой любви найдутся в любом письменном столе новобрачного, – заявил защитник. – К тому же надо заметить, что обыск был 10 июня, а Имшенецкий уже знал, что по жалобе Серебрякова начато против него уголовное дело».
По мнению Карабчевского, если бы его подзащитный считал злополучное письмо уликой, у него было десять дней на то, чтобы уничтожить его. А разорвал он письмо потому, что не хотел впутывать в дело молодую девушку. Как выяснилось, после случившейся трагедии Ковылина стала жалеть поручика, он заявил ей, что снова готов принадлежать только ей. Назначал свидания, писал письма…
Как отмечал Карабчевский, его подзащитный «отличный сын, брат, товарищ и служака», но в нравственном отношении, увы, отличается «дряблостью» и «неустойчивостью в принципах». Однако «демонические замыслы и титанические страсти» ему совершенно не по плечу.
Защитник утверждал, что обвинение против поручика совершенно несостоятельно, и это понимает даже купец Серебряков: «Я готов допустить, что он желает только “отомстить”, но к каким ужасным приемам он прибегает?! Даже в отдаленную и мрачную эпоху кровной мести приемы эти показались бы возмутительными…» Завершая свою речь, Карабчевский заявил: убийство не доказано, как не доказан и злой умысел со стороны Имшенецкого.
Яркая речь защитника действительно произвела впечатление на судей. В итоге суд признал поручика «виновным в неосторожности» и приговорил его к церковному покаянию и трехнедельному пребыванию на гауптвахте.
А что же дальше? Спустя полгода, в январе 1886 года, он женился на Елене Ковылиной. Из Петербурга они перебрались в Екатеринбург. Имшенецкий занялся предпринимательством, затем увлекся золотодобычей. В семье родилось шестеро детей. Во время Гражданской войны семейство перебралось в Харбин, там Имшенецкий открыл ресторан и казино.
В 1920 году, уже в Харбине, Елена Ковылина скончалась. Владимир Имшенецкий, овдовев во второй раз, снова женился – на Маргарите Викторовне Лукашевич, которая была почти вдвое младше его. С ней он перебрался в США, где дожил до весьма преклонных лет и скончался в 1942 году.
«Не внимай его речам и не верь его очам»
Весной 1913 года в рижских газетах появилось краткое сообщение такого содержания: «…проживающий по Церковной ул., 45, вольноопределяющийся 16-го Иркутского гусарского полка потомственный дворянин Всеволод Князев из браунинга выстрелил себе в грудь. Князева доставили в городскую больницу». Речь шла о начинающем, весьма талантливом поэте, вкусившем прелести петербургской богемной жизни. После трагического инцидента он прожил еще неделю. Похоронили его в Петербурге на Смоленском кладбище. Причина безвременной гибели – безответная любовь…
Всеволоду Князеву было всего двадцать два года, окончил Тверское кавалерийское училище и поступил вольноопределяющимся в 16-й Иркутский гусарский полк, расквартированный в Риге. Талантливый юноша по примеру своего окружения баловался стихосложением, у него это неплохо получалось… Осенью 1909 года в редакции одного из литературных журналов судьба столкнула его с уже маститым поэтом Серебряного века – Михаилом Кузминым. Литературоведы считают его первым в России мастером свободного стиха.
Современникам Кузмин казался фигурой странной, непонятной, загадочной. По воспоминаниям Георгия Иванова, наружность его была вместе уродливая и очаровательная: «Маленький рост, смуглая кожа, распластанные завитками по лбу и лысине, нафиксатуаренные пряди редких волос – и огромные удивительные византийские глаза…»
Михаил Кузмин взялся опекать юное дарование – Всеволода Князева, помогал с публикацией его произведений, даже посвятил ему цикл стихотворений «Осенний май».
Когда Князев приехал в столицу, Кузмин ввел его в круг богемной «тусовки». Познакомил с Анной Ахматовой, Николаем Гумилевым… Князев стал завсегдатаем модного литературно-художественного кафе «Бродячая собака», его знали там как «томного поэта-гусара».
На дворе царило призрачное и бурное «безвременье» – краткий период после разгрома первой революции, когда царило устойчивое ощущение, что настоящие бури еще впереди, они сметут все, что только можно, поэтому сейчас, именно сейчас, надо наслаждаться жизнью, получать от нее все, отдавать себя чувствам без остатка. Потому что потом будет уже поздно. Причем счет уже идет даже не на годы – на месяцы.
В. Князев
Казалось бы, никаких объективных показателей не было: в стране царил экономический подъем, в Петербурге и в других городах – строительный бум. Государственная дума успокоилась и уже не пыталась дерзить государю и министрам. И тем не менее современники жили предчувствием: все это внешнее благополучие ненадолго…
Недаром некоторые современники сравнивали Петербург Серебряного века с Третьим Римом времен упадка. «У всех на уме одно удовольствие, – сетовал в октябре 1911 года обозреватель “Петербургской газеты”. – Увлечение модой достигло своего апогея. Бросаются деньги сотнями, тысячами, миллионами. И не только богачи-петербуржцы, но и бедняки жадно стремятся к “роскошной жизни”. Роскошь растет, растет с нею и “легкоправность” общества, нарастает волна общего спада, декаданса. Куда мы идем? Не в пропасть ли?..» Но пока запас времени еще был. Небольшой, но был.
Летом 1912 года Князев в очередной раз появился в Петербурге. Михаил Кузмин задумал издать совместно с ним сборник стихов – под многозначительным названием «Пример влюбленным. Стихи для немногих». Иллюстрации согласился делать художник Сергей Судейкин – давний приятель Михаила Кузмина. Тогда-то Всеволод Князев и познакомился с Ольгой, женой Судейкина. И влюбился в нее без памяти.
Юного гусара можно было понять: устоять перед этой роковой женщиной, одной из первых красавиц богемного Петербурга, практически невозможно… Актриса, певица, танцовщица, переводчица, манекенщица… Как вспоминали современники, она была непревзойденной, неповторимой, знающей себе цену. Ей посвящали стихи Федор Сологуб, Игорь Северянин, Велимир Хлебников, Александр Блок…
Сергей Судейкин женился на ней в 1907 году, а перед свадьбой поэт Федор Сологуб, тоже влюбленный в Ольгу, написал ей стихотворение, ставшее роковым предостережением: «Под луною по ночам // Не внимай его речам // И не верь его очам, // Не давай лобзаньям шейки, – // Он изменник, он злодей, // Хоть зовется он Сергей // Юрьевич Судейкин». Первое время супруги Судейкины были неразлучны. Художник просто боготворил свою жену. Она блистала в вызывающих платьях его работы, благодаря усилиям мужа быстро стала самой заметной дамой среди тогдашней столичной богемы. Ольга Судейкина вела невероятно бурную светскую жизнь. Однако потом супруг охладел к ней, стал заводить романы на стороне, заявив ей, что не любит ее…
Именно тогда в ее жизни и появился юный гусар, наивный, трепетный, мечтающий о славе и красивой жизни. В июле 1912 года Всеволод Князев, сраженный Ольгой Судейкиной, написал стихи: «Вот наступил вечер… // Я стою один на балконе… // Думаю все только о Вас, о Вас… // Ах, ужели это правда, что я целовал Ваши ладони, // Что я на Вас смотрел долгий час?..»
Вернувшись в Ригу, Князев пишет такие строки: «…мне не страшны у рая Арлекины, лишь ты, прекрасная, свет солнца, руки не отнимай от губ моих в разлуке».
В начале сентября того же года Кузмин приехал в гости к Князеву в Ригу. Там Кузмин получил письмо от Судейкина: «Без Вас скучно, хотя по-прежнему ходят офицеры и другие… Ольга с театром еще не решила. Она второй день лежит в постели, сильно простужена, жар, я за нее беспокоюсь…»
В письме упоминалось о рисунке Судейкина, на котором Ольга была изображена в костюме столетней давности: она представала девушкой в русском помещичьем доме и подносила розу пленному французскому офицеру из армии Наполеона. Князев сочинил стихотворение к этому рисунку, поместив себя в позу раненого бойца: «Пусть только час я буду в кресле этом, – ах, этот час мне слаще прошлых всех…» Князев посвящал ей стихи, называя ее Коломбиной («Вы – милая, нежная Коломбина, Вся розовая в голубом…»). Себя он, естественно, видел в образе Пьеро…
О. Судейкина
Вскоре Кузмин уехал обратно в Петербург, перед этим он написал два посвященных Князеву стихотворения, которые говорили об их дружбе в прощальных тонах. Отношения между Кузминым и Князевым разладились. Гусар ждал писем от Ольги Судейкиной, однако совсем не таких, какие он получил…
«Вернулся из церкви… Три письма на столе лежат. Ах, одно от нее, от нее, от моей чудесной!.. Целую его, целую… Все равно – рай в нем или ад!.. Ад?.. Но разве может быть ад из рук ее – небесной… Я открыл. Читаю… Сердце, биться перестань! Разве ты не знаешь, что она меня разлюбила!.. О, не все ли равно!.. Злая, милая, речь, рань мое сердце, – оно все влюблено, как было», – писал Князев.
Потом приходили другие письма, одно из них дало Князеву надежду. «А скоро будет и лето, – лето совсем… Я увижу ее глазки, услышу ее смех! Она скажет: “У доброго К… и в семь”».
Исследователи творчества поэта отмечают: в зависимости от того или иного, что было сказано или написано Ольгой Судейкиной, Всеволода Князева то охватывало отчаяние, то он считал себя на седьмом небе от счастья. А потом что-то случилось, в его сердце что-то надорвалось, и жизнь, лишенная ответной любви, вдруг потеряла для него всякий смысл. Грянул роковой выстрел.
О. Глебова-Судейкина.
Фото М. Наппельбаума, 1921 г.
Наверное, все могло бы быть иначе, но традиции богемной жизни, помноженные на понятия о гусарской чести, продиктовали юному поэту именно такой выход. К тому же демонстративные самоубийства среди молодежи стали, без преувеличения, настоящим «веянием времени». В газетах того времени о них сообщалось постоянно, и Князев, безусловно, тоже жил в этой призрачной нездоровой атмосфере.
Современники твердили об «эпидемии самоубийств», а среди ее причин эксперты того времени называли злоупотребление спиртными напитками, безработицу, отсутствие средств к существованию, и семейные неприятности. Затем следовали разочарование в жизни, неудачная любовь, ревность, измена любимого человека, неизлечимые болезни, растрата или потеря денег. Порой среди причин суицида значились неприятности по службе, боязнь наказания и неудачи в торговле.
Похоронили Князева в Петербурге на Смоленском кладбище. По словам очевидцев, мать поэта подошла к Ольге Судейкиной и прямо в глаза ей сказала: «Бог накажет тех, кто заставил его страдать».
Весной 1914 года отец погибшего гусара-поэта, литературовед Гавриил Князев, издал стихи сына. «Мне хотелось, – писал он в предисловии, цитируя Александра Блока, – остановить хоть несколько в неудержимом беге времени, закрепить в некотором реальном явлении тот милый “сон”, которым он “цвел и дышал”, пока жил на Земле…»
Были там и такие строки Всеволода Князева: «Пускай разбиты все надежды и желанья, // Пускай любовь моя отвергнута тобой, // И нет в душе ни счастья, ни страданья, – // Я примирен с житейской пустотой…» И еще такие: «Когда она коснется губ – мне чудятся мелодии органа, // И песни дальние, и яркость алых роз… // И в миг любовь моя, как гроздья маков, пьяна, // И на щеках страстей пурпурные румяна,// Которые не смыть струям обильным слез…»
При жизни Всеволода Князева опубликовали только два его стихотворения. Как отмечают исследователи, он не успел блеснуть своим творчеством, но после своей гибели стал настоящим литературным мифом, укором для одних и символом для других.
С. Судейкин. «Моя жизнь» («Кабаре “Приют комедиантов”»), 1916 г.
Образ влюбленного юноши превратился в легенду, символ предреволюционной «богемной» жизни. По литературе начал свой путь миф о юном поэте-гусаре, покончившем с собой из-за несчастной любви к красавице-актрисе.
Михаил Кузмин в поэме «Форель разбивает лед» писал: «Художник утонувший // Топочет каблучком, // За ним гусарский мальчик // С простреленным виском». Ахматовская «Поэма без героя» открывалась посвящением «Вс. К.». «Сколько гибелей шли к поэту, // Глупый мальчик, он выбрал эту. – // Первых он не стерпел обид, // Он не знал, на каком пороге // Он стоит и какой дороги // Перед ним откроется вид…», – писала Анна Андреевна.
Что же касается Ольги Судейкиной, то несмотря на печальную историю с Всеволодом Князевым, ее брак с Сергеем Судейкиным уцелел, хотя и превратился в пустую формальность. Но в 1915 году произошел окончательный разрыв, хотя Судейкины продолжали появляться вместе на публике: на вечерах в «Бродячей собаке» Сергея Судейкина часто сопровождали и Ольга, и его новая пассия Вера. Именно с ней Судейкин покинул Петроград: в 1916 году он отправился в Крым, а на следующий год, узнав о революции, эмигрировал в Париж…
Все герои нашего повествования изображены на картине Сергея Судейкина «Моя жизнь» («Кабаре “Приют комедиантов”»), созданной в 1916 году. Он сам изображен в костюме Арлекина. В черном костюме доктора Дапертутто – Михаил Кузмин.
В виде Коломбины – Ольга Судейкина. Вторая жена художника, Вера, запечатлена в образе обнаженной женщины, лицо которой видно в зеркале. С альбомом и пером в руке – Пьеро. По всей видимости, в этом образе Судейкин «спрятал» Всеволода Князева.
Кстати, Вера, ставшая женой Сергея Судейкина, так перечислила в дневнике свои супружеские обязанности: первая – «заставлять работать художника хотя бы палкой», седьмая и последняя – «быть физическим идеалом, а потому быть его вечной моделью».
А Ольга Судейкина с конца 1915 года связала свою жизнь с композитором Артуром Лурье, ставшим ее гражданским мужем до его отъезда в эмиграцию летом 1922 года. В 1924 году Ольга Глебова-Судейкина тоже покинула Россию. Годы эмиграции Ольга провела в Париже. Скромное обаяние Ольги Судейкиной очаровывало многих ее современников – разного возраста, таланта и положения.
Ольги Судейкиной не стало в январе 1945 года. Незадолго до смерти ее навестил художник Николай Милиоти, бывший когда-то шафером на ее свадьбе с Сергеем Судейкиным… Он вспоминал: «Ничего не оставалось от ее светлого, всегда даже в испытаниях полного жизни и света облика. Прах, прах, страшный изношенный футляр, оставленный перемучившейся отлетевшей душой…»
Шаляпин и Леночка
Казалось бы, случай житейский: муж захотел развестись с женой, которую обвинил в неверности. Что тут такого? По нынешним меркам – дело достаточно обычное. Сразу после революции развод вообще можно было получить в органах ЗАГС практически немедленно после подачи заявления одним из супругов: пришел муж, заявил о неверности, – и решение принято. Но та история, которую расскажем мы, происходила в Российской империи, где развод становился практически неразрешимой проблемой, поскольку брак заключался в церкви, и разводиться можно было только по церковному согласию.
История нашумевшая, скандальная, поскольку к ней странным образом оказался причастен знаменитый певец Федор Иванович Шаляпин.
Итак, в марте 1910 года ротмистр 18-й Волынской бригады 4-го округа Отдельного корпуса пограничной стражи Викентий Антонович, проживавший в местечке Радзивилов Кременецкого уезда Волынской губернии, обратился в местную духовную консисторию, дабы расторгнуть брак со своей супругой – Еленой Федоровной Антонович. Вместе они прожили почти полтора десятка лет: они обвенчались 11 февраля 1894 года в церкви 120-го Серпуховского пехотного полка.
Почему Антонович обратился в Духовную консисторию? Именно она в дореволюционной России рассматривала дела о расторжении брака. По законодательству того времени, чтобы развестись, требовалась веская причина. Ею могло стать доказанное прелюбодеяние, двоеженство (либо двоемужество), наличие добрачной болезни, препятствующей супружеским отношениям, длительное (более пяти лет) безвестное отсутствие супруга или то обстоятельство, что он осужден за тяжкое преступление, включающее ссылку или лишение прав состояния.
«Примирения между мной и женой ни на бывших увещеваниях, ни на судоговорении, которое назначалось дважды и на которое жена не пожелала явиться, не состоялось», – сообщал впоследствии Антонович. Елена Федоровна категорически заявила, что супружеской верности не нарушала и не нарушает, а виновен в супружеской неверности, наоборот, ее муж, который, кроме всего прочего, не выдает ей «средств к жизни».
В доказательство своей правоты ротмистр призвал двух свидетелей – жителей города Житомира – губернского секретаря Ивана Стефановича и лекарского помощника Сруля Эльфантеля. Обоих допросили перед судом присяжных заседателей.
Первый из них сообщил: «Семью Антоновичей я знаю уже шесть лет; из рассказов Елены Антонович мне известно, что она жила с артистом Шаляпиным, знаю также, они живут уже четыре года раздельно, он в Радзивилове, а она в Москве.
В 1907 году Елена Антонович приезжала в город Житомир и остановилась в гостинице по Киевской улице, она имела какое-то дело в суде, какого именно месяца и числа это было, не помню, я по поручению Викентия Антоновича зашел к ней в гостиницу утром в 8 часов и застал у нее в постели какого-то мужчину, оба они были раздеты в одном только белье, и на мой спрос номерная прислуга мне заявила, что мужчина этот ночевал у Елены Антонович. Кто такой этот мужчина, я не знаю. Очевидцем акта совокупления Елены Антонович с посторонними мужчинами я не был. Больше ничего мне не известно».
Эльфантель, дав присягу, заявил: «Супруги Викентий и Елена Антоновичи мне хорошо известны, они живут в разладе уже более 15 лет, а 7 лет живут раздельно. Елена Антонович некоторое время служила в Управлении железных дорог в Харькове и Москве. Изредка приезжала в местечко Радзивилов по месту служения мужа в пограничной страже, но останавливалась в гостинице.
По просьбе ротмистра Антоновича я заходил к ней в номер для переговоров, и был случай, когда застал ее в кровати с посторонним мужчиной. Это было в конце 1909 года числа и месяца не помню, а один раз в том же году и в той же гостинице застал ее на акте совокупления с неизвестным мужчиной, приезжавшим с нею же из Харькова. Кроме того, мне известно, что она, Антонович, теперь находится в любовной связи с артистом Шаляпиным».
Дело серьезное – в процессе подготовки к суду пришлось побеспокоить солиста Императорского театра Федора Ивановича Шаляпина. Как значится в документах, он, «будучи по сему поводу запрошен, заявил, что он по настоящему делу ничего не знает и никаких объяснений представить не может».
Правда, было и еще одно обстоятельство: в деле значилось нотариальное заявление Елены Антонович, сделанное ею от 6 апреля 1911 года, в котором она признавалась в своей неверности к мужу и в любовной связи с Федором Шаляпиным. Но выглядело это заявление достаточно странно, и никаких доказательств в пользу ее слов не было…
Поразмышляв, волынское епархиальное начальство пришло к выводу, «что самые доказательства супружеской неверности ответчицы являются по существу противоречивыми, сомнительными и не согласующимися с другими обстоятельствами настоящего дела». И хотя Елена Антонович в нотариальном заявлении, поданном в консисторию, и признала себя виновной в сожительстве с Шаляпиным, но это ее показание находилось в противоречии с показаниями, что она давала ранее.
«Таким образом, виновности ответчицы в сожительстве с Шаляпиным признать доказанной и принять во внимание нельзя», – говорилось в вердикте Епархиального ведомства.
Что же касается свидетельских показаний Стефановича и Эльфантеля, то консистория признала их явно недостаточными. К тому же появились сомнения в личности одно из свидетелей – Сруля Израилевича Эльфантеля. На суд явился Мордко Срулевич Эльфантель, который заявил, что в личных документах ошибка. А полицейский пристав и вовсе заявил, что Сруль Израилевич и Мордко Срулевич – одно и то же лицо, поскольку другого лекарского помощника по фамилии Эльфантель в Житомире просто нет.
Одним словом, волынское епархиальное начальство в апреле 1912 года отказало ротмистру Антоновичу в бракоразводном процессе – «по недоказанности супружеской неверности ответчицы». Кроме того, выяснилось, что у свидетеля Стефановича у самого рыльце в пушку: против него возбуждено уголовное преследование за ложное свидетельство по делу супругов Равва.
Более того, оказалось, что Эльфантель и Стефанович выступают свидетелями и по многим другим бракоразводным делам Волынской епархии. «…Невольно напрашивается вопрос, действительно ли названным свидетелям приходилось столь часто наблюдать прелюбодеяния разводящихся лиц, происходящих из разных классов и живущих в разных местах и в различных условиях, и не есть ли это люди, подкупленные к свидетельству…», – отмечалось в документе.
В случае, если местная Духовная консистория отказывала в расторжении брака, можно было обратиться в Синод. Что Викентий Антонович и сделал, подав практически сразу же туда апелляционную жалобу «Трудно допустить, чтобы Шаляпин, человек женатый, давая отзыв… наивно сознался в незаконной связи с моею женою», – указывал он. Спустя неделю после подачи апелляционной жалобы ротмистр написал в Правительствующий Синод еще одно бумагу, озаглавив ее «дополнительное заявление».
«Мотивы отказа мне в разводе загадочны и непонятны, – отмечал ротмистр Антонович. – Волынская консистория более поверила артисту Шаляпину, что он к делу не причастен и даже не знает моей супруги, но, конечно, он это написал, чтобы избежать епитимии». Да и вообще, указывал Антонович, наверное, консистория в сговоре с певцом: мол, она не признала факт прелюбодеяния моей жены только для того, чтобы «Шаляпин избежал законной епитимии».
А далее ротмистр выкладывал козыри, которые почему-то не фигурировали на суде. «Что Шаляпин близок к моей жене, прилагаю четыре его карточки к моей супруге и открытое письмо. Все это собственноручно писал Шаляпин и опровергает сомнение и его отзыв о незнании ничего не по делу».
На открытке был изображен Шаляпин в одной из его сценических ролей. Сверху – дарственная надпись: «Ненаглядной Леночке». Правда, какой Леночке – можно было только гадать…
Все эти заявления ротмистра Антоновича делу не помогли: решение Консистории об отказе расторгать брак Антоновичей осталось в силе. Синод так и не дал разрешения на развод, посчитав предоставленные доказательства недостаточными.
Именно эта почтовая открытка с надписью «Ненаглядной Леночке» послужила компроматом…
Из коллекции РГИА
Так была ли любовная связь между певцом и Еленой Антонович? Шаляпин, конечно, пользовался повышенным вниманием прекрасного пола. Его повсюду преследовали поклонницы. Высокий, голубоглазый, светловолосый, он был кумиром, объектом мечтаний многих барышень. О его любовницах, скандалах, ночных кутежах, баснословных гонорарах судачили на всех углах, и отделить правду от вымысла было очень трудно, практически невозможно…
Антонович не ошибался: Шаляпин действительно женатый человек: его супругой еще в 1898 году стала итальянская балерина Иола Ло-Прести, выступавшая под девичьей фамилией своей матери – Торнаги. У них родилось шестеро детей, и он счастливый отец семейства. Правда, дома бывал редко: все время – гастроли…
«Дорогая Иола, как поживаешь? Уже несколько дней не получал ничего от тебя. Вчера послал письма детям. Я и вправду очень соскучился без тебя. Теперь покончил со своим Дон Кихотом и послезавтра пою Мефистофеля. В пятницу уезжаю в Берлин, буду петь в одном из 2-х симфонических концертов с Кусевицким…», – писал он жене в феврале 1910 года из Монте-Карло. «До свидания, дорогая Иола, целую тебя и целую также дорогих детей, которых сильно и бесконечно люблю…», – это из письма в марте того же года.
Правда, нежные чувства к жене и детям не помешали Шаляпину завести любовницу и жить на две семьи. Возлюбленная певца – вдова Мария Валентиновна Петцольд с двумя детьми от первого брака. Жила в Петербурге. В 1910 году она родила дочку от Шаляпина – Марфу. Бросать первую семью певец категорически не хотел, и теперь его жизнь разрывалась между Москвой, где жила первая семья, и Петербургом…
И еще одно обстоятельство: вся эта история с бракоразводным процессом Антоновичей и обвинениями Шаляпина совпала по времени со скандалом вокруг певца, связанным с его коленопреклонением во время исполнения царского гимна.
«Было так: хористов оштрафовала дирекция, и они нашли, что дирекция слишком строго отнеслась к ним, – объяснял Шаляпин в письме своей жене Иоле Торнаги обстоятельства этой истории. – Тогда они договорились петь национальный гимн на коленях перед царем, присутствовавшим в театре. Но так как публика не аплодировала до моей сцены (в доме Бориса) и занавес не поднимали, то хор не мог сделать этого. А вот когда я спел свою сцену (и скажу, с большим успехом, т. к. чувствовал себя очень хорошо) и когда вся публика встала, крича “браво, Шаляпин”, тогда хор вышел из-за двери (единственной в этой декорации) и, к моему удивлению и удивлению всего театра, встал на колени.
Так как я не мог уйти со сцены (дверь была загорожена), я был также вынужден встать на колени, иначе я мог бы иметь неприятности, и, прежде всего, это было бы неделикатной демонстрацией с моей стороны, так как царь приехал специально из-за меня в театр».
Разразился скандал. Представители либерального крыла интеллигенции обвиняли Шаляпина в раболепии, некоторые деятели искусства вообще порвали с ним отношения. Шаляпин очень остро переживал эту историю.
«Я знаю, что многие плохо говорят обо мне, – признавался певец, – но я чувствую, что моя совесть чиста, и потому мне все равно, что там толкуют… <…> Все это меня огорчает, и я начинаю думать, что людское коварство доведет меня до того, что мне против воли придется оставить свою карьеру, по крайней мере, в России. Это будет мне тяжело, но постараюсь пересилить себя… Думаю я только о том, что жить в России становится для меня совершенно невозможным. Не дай Бог какое-нибудь волнение – меня убьют».
Что же касается «дела» Антоновичей, то его закрыли и сдали в канцелярию. Ныне документы хранится в Российском государственном историческом архиве.
Убил! И суд его оправдал…
Существует знаменитая и набившая оскомину фраза: «Я тебя убью, и суд меня оправдает». Трудно сказать, когда именно она прозвучала впервые, но нечто подобное можно найти в рассказе Антона Чехова «Драма». Там к известному писателю приходит графоманка Мурашкина: она умоляет выслушать написанную ею драму. Тот вынужден согласиться, однако чтение оказалось нескончаемым и превратилось в настоящее истязание. Не владея собой, литератор схватил со стола пресс-папье, стукнул Мурашкину, после чего объявил: «Вяжите меня, я убил ее!»
Рассказ кончается словами: «Присяжные оправдали его». Произведение написано в 1887 году, а спустя двадцать лет в Петербурге случилась чрезвычайно драматическая история: муж убил свою жену, которая довела его до белого каления. И суд присяжных его оправдал!
8 июня 1907 года петербургский издатель Алексей Суворин записал в дневнике: «Очень интересная речь Андреевского в процессе Андреева, Пистолькорс и любовницы их обоих, а потом жены Андреева, Сары Левиной. Характерна сцена между ею и мужем, когда она, проспав с ним ночь и потребовав от него “ласк”, сказала: “А знаешь, я выхожу замуж за Пистолькорса”. Ранее этого сцена между Андреевым и его дочерью от Сары, в которой дочь открылась отцу о намерениях матери выйти замуж за Пистолькорса. Сара – замечательно бездушная, распутная и наглая. Для сцены хороший сюжет».
Процесс Михаила Андреева действительно вызвал немалый резонанс в Петербурге. Еще бы: биржевой маклер сделался героем уголовного романа! Защитник – известный адвокат Сергей Аркадьевич Андреевский, не раз блестяще выступавший именно в подобных делах об убийствах из ревности. Сергей Андреевский принадлежал к числу самых порядочных адвокатов: еще в молодости он познакомился с Анатолием Федоровичем Кони, работал под его началом. В 1878 году отказался выступить обвинителем по делу Веры Засулич…
Андреевский был тончайшим психологом и, кстати, сказать, еще и талантливым поэтом. Он первый из известных поэтов, кто перевел на русский язык «Ворона» Эдгара По.
Теперь – о деле Михаила Андреева. Выходец из купеческой среды, коммерсант «средней руки», он трудился биржевым маклером. Был вполне себе респектабельным буржуа того времени. Состоял членом попечительских советов благотворительных обществ, жертвовал на благие дела в пользу бедных…
В первый раз он женился, когда ему исполнилось двадцать три, супруга была младше его на три года. В браке родилась дочь. За полтора десятка лет супружеской жизни Андреев ни разу не дал жене повода заподозрить его в неверности. Да и вообще за ним не водилось практически никаких пороков. И все было бы хорошо, если бы не роковая любовь, настигшая Михаила Андреева. Однажды на общественном гулянии в Лесном (северном предместье Петербурга) он встретил женщину, поразившую его, как удар грома. Роковая красавица Сарра Левина на всех, кто видел ее, производила магнетическое впечатление. При этом сама она из очень бедной семьи. Когда приятели представили ее Андрееву, то сразу предупредили, что она – «общедоступная “барышня” из швеек». Но для Андреева этот факт уже не имел никакого значения.
Андреев решил развестись с женой, но в те времена сделать это было чрезвычайно сложно. Да и жена была категорически против, даже пыталась через полицейские власти добиться высылки Левиной из Петербурга. А вот та оказалась вовсе не «золушкой», а эгоистичной и расчетливой дамой. Она без всякого стеснения пользовалась тем, что Андреев любил ее без памяти: тратила его деньги, демонстративно показывала пока еще законной жене Андреевой, что теперь она хозяйка. Попросту говоря – издевалась над нею и всячески унижала ее. Например, могла подойти к дому Андреева и, увидев, что на улице стоит запряженная коляска, явно ожидающая его пока еще законную супругу, сесть в нее и велеть кучеру везти ее, а не барыню.
А что Андреев? Он мучился за причиняемые жене оскорбления и в то же время не мог винить Левину, видя в ее поведении доказательство ее ревности. Тем временем Левина забеременела. Для Андреева это было еще одно доказательство того, что их союз одобрен на небесах. В конце концов решили, что жена не будет препятствовать сожительству Андреева с Левиной, но развод не состоится, пока дочь от первого брака не выйдет замуж.
Адвокат С. А. Андреевский. 1900-е гг.
Как только Левина родила дочь, она приняла православие, стала Зинаидой. Крещение было необходимо для того, чтобы Андреев мог узаконить новорожденную. Кстати, первая жена слово сдержала: после замужества ее дочери состоялся развод.
