Авангард и «Анархия». Четыре мятежных месяца самоуправляемого просвещения бесплатное чтение
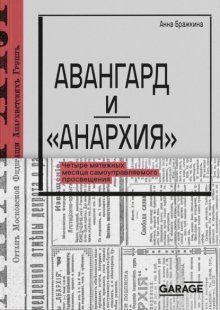
БЛАГОДАРНОСТИ
Посвящаю эту книгу свободным гражданам города Владимира, моим любимейшим друзьям, создателям новых смыслов: Полине и Сергею Вахотиным, Юлию Иванову, Никите Щербакову, Андрею Агеенкову, Майе Рыжковой, Марку Рябову.
Несказанная благодарность тем, без кого эта книга была бы невозможна. Прежде всего это сотрудники Музея современного искусства «Гараж». Большое спасибо куратору архива «Гаража» Саше Обуховой, дружески обсуждавшей со мной концептуализацию проекта книги.
Благодарю руководителя проекта по изданию книги Анну Красову за ее научную зоркость, кропотливую работу и неожиданную включенность в сам исследовательский процесс – отмечу, что именно Анна поставила последнюю точку в раскрытии одного из псевдонимов Алексея Гана, главного героя нашей книги.
Особую признательность выражаю Евгении Вилко́вой, проделавшей колоссальную работу по литературной редактуре книги. Ее глубокое понимание и чувство языка, ее бережное отношение к авторским задумкам делали наше сотрудничество проникновенным и содержательным.
Спасибо научному редактору книги Дмитрию Рублёву, ключевому специалисту по истории русского анархизма – его замечания к тексту иногда превращались в маленькие эссе, всегда касались существа вопроса и привели к множеству исправлений и уточнений.
Спасибо и научному консультанту Ольге Бурениной-Петровой. Ее резкие возражения заставляли меня формулировать свои идеи решительней.
И конечно, мой поклон дизайнеру Тоне Байдиной, сумевшей так разработать книжную архитектуру, что пять параллельных информационных потоков книги визуально поддерживают друг друга.
Отдельная благодарность сотрудникам Государственной публичной исторической библиотеки Зое Вячеславовне Голубевой, Ольге Владимировне Тыриной, Екатерине Алексеевне Алиповой. Они сделали все для того, чтобы «слепые копии» некоторых номеров газеты «Анархия» можно было расшифровать, – предоставили лучшую аппаратуру для распознавания, помогали разрешать все технические вопросы.
Огромное спасибо всем участникам наших владимирских семинаров по авангарду и членам содружества «Анархия – Творчество», особенно Александру Витальевичу, автору ВК-сообщества «Вольные архивы», чьими стараниями в сеть кропотливо выложено огромное количество первоисточников по истории анархизма.
И конечно, книги не было бы без поддержки всей моей большой семьи – обнимаю каждого из них.
Добавлю вот еще что.
Основным моим внутренним собеседником при работе над книгой была исследовательница раннего русского авангарда Нина Гурьянова, хоть она и не знает об этом. Пользуясь случаем, благодарю ее за это невольное и незримое присутствие. Ее статья «Эстетика анархии в теории раннего русского авангарда», опубликованная еще в 2000 году, дала толчок нашим углублениям в тему. Вся книга «Авангард и „Анархия“» в определенном смысле – дискуссионный ответ на те масштабные выводы, которые делает Гурьянова в своей книге 2012 года The Aesthetics of Anarchy. Art and Ideology in the Early Russian Avant-garde.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Друзья!
Перед вами – книга с републикациями подавляющего большинства текстов из раздела «Творчество» газеты «Анархия»[1], органа Московской федерации анархистских групп (МФАГ), 1918 г. Эта книга не для слабых духом, предупреждаем сразу. Для того чтобы читать ее с удовольствием, надо обладать глубинным чувством юмора и огромным сердцем. Но все же мы верим в людей и составляли книгу для всех, а не только для кабинетных ученых, привыкших «рыться в окаменевшем г. не», по словам поэта.
Поехали!
Очевидная ценность первоисточника заключается в том, что основными авторами раздела «Творчество» газеты «Анархия» были ранние русские авангардисты, повлиявшие на многие направления искусства и современный художественный процесс[2]: Алексей Ган, изобретатель прорывного советского конструктивизма; Казимир Малевич, до сих пор остающийся смыслопорождающей фигурой мировой художественной сцены; Александр Родченко, основоположник яркого советского фотоискусства.
Менее активно, но с программными репликами на страницах газеты выступали и два других авангардиста-первооткрывателя: Владимир Татлин, создатель новаторского «машинного искусства», и Ольга Розанова, разработчица аналитического живописного метода «цветопись». Следует упомянуть и Надежду Удальцову: здесь появился не только ее манифест «Мы хотим», но и доклад на собрании художников левой федерации (№ 96), ставший своего рода заключительным манифестом художницы в газете «Анархия».
Повторяющееся объявление в газете «Анархия» (1918. № 10. С. 3; № 18. С. 4 и др.).
Источник: ГПИБ
К этому ряду художников-пионеров мы отнесли бы еще две фигуры, вытесненные из истории искусства: Георгия Щетинина, лидера революционного художественного студенчества, придумщика и создателя первого в мире художественного учебного заведения нового типа – свободного вуза-мастерской; и Витольда Ахрамовича, первого теоретика и текстовика авангардного советского кинематографа.
За 106 лет с момента обнародования первоисточников (ныне хранящихся в библиотеках страны) и за два десятка лет, в течение которых сканы «Анархии» находятся в свободном доступе в интернете, в научный оборот из этой газеты в полном объеме введены и первично откомментированы только тексты Малевича[3], за что особая благодарность их публикаторам – Андрею Сарабьянову, Александре Шатских и Сергею Кудрявцеву.
Анархистские тексты других заглавных русских авангардистов переизданы лишь частично и чаще всего тенденциозно помещены в чуждый им уклончивый, осторожный и двусмысленный контекст, близкий самим публикаторам.
Между тем весь корпус текстов художников-новаторов из раздела «Творчество» газеты «Анархия» прямо свидетельствует о том, что все эти художники в революционные 1917–1918 гг. не были колеблющимися историческими недосубъектами с развившейся виктимностью, как хотелось бы многим толкователям их творчества, но действовали в рамках профессии как сознательные бойцы революции – политики-анархисты радикальных левых взглядов.
В наивысшей степени это касается Алексея Гана и Александра Родченко, которые первыми организовали в самом центре советской столицы художественные анархистские коммуны в их полном материальном воплощении.
Вернуть ранних советских авангардистов в родной им левый дискурс – политическая задача книги. Но эта задача не единственная.
Культурных корреспондентов раздела «Творчество» газеты «Анархия» было существенно больше, чем поименованная отважная семерка, а число акторов культурной борьбы МФАГ исчислялось сотнями. Среди них были такие первостепенные деятели, как художники Иван Клюн, Варвара Степанова и Алексей Моргунов; поэт и секретарь Луначарского Рюрик Ивнев; создатели советской киноиндустрии Борис Михин и Григорий Болтянский; организаторы школы педологических театрализаций Наталия Сац и Сергей Розанов; основатель советской мультипликации Иванов-Вано; поэты-символисты старых школ «эротического» и «сатанистского» анархизма 1900-х гг. Валерий Брюсов, Константин Эрберг, Алексей Солонович; поэт-эксцентрик, будущий основатель Трудовой космической церкви Святогор; поэт Баян Пламень, временно впавший в экстатический декаданс, и многие другие.
Это были люди разной политической и художественной сознательности, но все они в тот момент втянулись в орбиту притяжения Ган – Малевич – Родченко[4].
Кроме того, в разделе «Творчество» газеты «Анархия» велись напряженные публичные дебаты с группой анархо-футуристов Маяковский – Бурлюк – Каменский – Гольцшмидт, агрессивно и недобросовестно продвигавшей свой коммерческий проект «Кафе поэтов»[5].
Спорили они и с питерскими «умеренными авангардистами», пошедшими на службу к советской власти: теоретиком нового искусства Николаем Пуниным, художником Натаном Альтманом, композитором Артуром Лурье.
Особо дружной и ядовитой критике со стороны ряда авторов раздела «Творчество» газеты «Анархия» подвергались идеологи «патерналистского» культурного строительства: Максим Горький, Анатолий Луначарский, Владимир Фриче, Александр Бенуа. Анархисты ясно видели, что этот наметившийся союз «старых большевиков» с бывшими придворными художниками приведет народ к культурной неволе.
Коротко говоря, ключевые авторы «Анархии» находились в эпицентре сражений за новую культуру, которые велись в молодой Советской республике.
Распутать клубок новостей с этого фронта – аналитическая задача книги.
Запутанность же этого клубка связана со спецификой первоисточника.
«Анархия», орган МФАГ, была газетой прямого действия – в буквальном смысле одним из штабов революции. «Анархия» существовала менее года (с сентября 1917-го по июль 1918 г.), а раздел «Творчество» в ней – четыре месяца (с марта по июль, с перерывом).
Это был самый ранний этап перехода от специфического русского капитализма к чему-то другому, еще не вполне понятному: Конституция РСФСР была принята 10 июля 1918 г., уже после закрытия «Анархии». Ни одна силовая структура, даже Красная армия и Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК), в период существования газеты не имела еще ясной организации и очерченных полномочий. Национализация крупной промышленности только декларировалась, но еще не началась. Страна представляла собой огромное рыхлое многоукладное хозяйство с открытыми границами и малообразованными работниками, к тому же находящееся в состоянии внешней войны и нарождающейся внутренней.
Оказавшись в ситуации «маловластия», общество пыталось самоорганизоваться во всех сферах – от фабричного производства до искусства. Во всех социальных слоях вспыхивали анархо-синдикалистские и анархо-коммунистические (мы бы предпочли называть это анархо-коммунарством) умонастроения, которые часто вполне осознавались как таковые. Анархизм как идеология самоуправления и взаимопомощи был весьма популярен – в стране в это время выходило 60 анархистских изданий.
МФАГ видела своей миссией содействие свободному развитию «низовой» инициативы. Редакция газеты физически стала площадкой для таких самоорганизаций. Лозунг «Анархия – мать порядка» периодически выносился в шапку.
Основной целевой группой газеты были две из движущих сил революции – рабочие и солдаты. Редко на каком московском заводе или в казармах не оказывалось хотя бы небольшой анархистской ячейки. Эти рабочие и солдатские организации полностью обеспечивались тиражами «Анархии». Судя по финансовой отчетности МФАГ, доходы от газеты были основным источником существования всей федерации: видимо, тираж в 20 тысяч экземпляров расходился полностью.
Редакция газеты была живым примером самоуправляющейся открытой структуры анархистского типа. Она состояла из 20 редакторов, избранных общим собранием МФАГ. Все редакторы были многолетними участниками анархистского движения. Но редактирование и написание текстов в газету никогда не было их единственным делом. Оно было рабочей рефлексией, хроникой или планированием в рамках основной деятельности в анархистском движении.
Главного редактора не существовало. Должности выпускающего редактора и секретаря были прежде всего репутационными – их занимали легендарные герои анархизма Владимир Бармаш[6] и Лев Чёрный. При этом Бармаш вел еще и издательскую программу МФАГ, а Чёрный руководил дискуссионным клубом и, судя по известным воспоминаниям Нестора Махно[7], ведал всей организационно-хозяйственной частью федерации.
Многие члены МФАГ вдобавок участвовали в экспроприациях пустующих зданий и входили в состав Черной гвардии[8].
О деятельности анархистских групп в газету часто писали сами их участники. Стандартов газетных жанров (новость, комментарий, репортаж, интервью, очерк, расследование, фельетон и т. д.) придерживались только профессиональные журналисты, но их в «Анархии» было немного. И, как нам сейчас представляется, само понятие журналистского профессионализма могло быть сочтено тут буржуазным, т. е. вредным.
Редактором по вопросам культуры, а потом создателем раздела «Творчества» газеты «Анархия» был художник Алексей Ган, состоявший в анархистских группах более 10 лет, с 1907 г. Он участвовал в Московском вооруженном восстании, занимался в доме «Анархия» Пролетарским театром, устраивал «свиданья с поэтами», а также был одним из лекторов рамочных курсов по анархизму. Родченко с группой молодых художников-фронтовиков делал Пролетарский музей в захваченном МФАГ особняке Морозова. Малевич как солдат 56-го пехотного полка, расквартированного в Кремле, более чем вероятно также участвовал в Московском вооруженном восстании, а теперь вел в доме «Анархия» художественные курсы для любителей-рисовальщиков и лубочников, разрабатывал стратегии революционного культурного строительства и обеспечивал их текстами.
В газете они выступали под несколькими функциональными личинами, в зависимости от потребности во взаимопомощи: то как члены инициативной группы по созданию Музея современного искусства, то как преподаватели художественной мастерской, то как члены Совета Профессионального союза художников-живописцев Москвы (СОЖИВ).
Костяк авторов раздела «Творчество» газеты «Анархия» имел общий генеральный месседж: люди искусства в строительстве новой жизни призваны показать, что творчество не является отдыхом, развлечением, украшением или способом получить сексуальное или пищевое одобрение, но есть сама суть жизни человека, в отличие от животных. Ган, Малевич, Святогор и Родченко, помимо издания газеты, готовились «забросить в гущу масс» свою коллективную книгу, которая так и называлась «Анархия – Творчество». Она задумывалась как учебник для новой школы, где культурно угнетенные массы освобождались бы путем революционного творчества. Книга эта писалась новым, в образах и динамике, языком – языком мятежа, адекватным, как казалось авторам, освободительной революции культурно угнетенных. Таков был их план самоуправляемого Просвещения.
Все эти особенности первоисточника: программный отказ от журналистских стандартов; тесная связь текстов с «закадровыми» социальными активностями авторов; интенсивное говорение о будущем, которое всегда склоняет к абстрагированию; игра с социальными масками; ориентация текстов на узкую референтную группу и на «широкие угнетенные массы» одновременно; отношение к информационному тексту как к проповеди; языковые эксперименты и т. п. и т. д. – показывают, что раздел «Творчество» газеты «Анархия» был весьма герметичным образованием. Непосвященному читателю текстов не только сегодня, но и в момент их первого появления в печати требовалось погрузиться в контекст, чтобы понять, как эти материалы связаны с реалиями времени.
В самом общем виде мы попытались приблизиться к решению этой задачи, классифицировав тексты раздела «Творчество» газеты «Анархия» не по авторам или традиционным видам культурно-просветительской деятельности (театр, поэзия, искусство, музей, кино, школа), а по проектам культурного строительства, о которых писали в этом разделе.
Таких проектов оказалось много. Их инициаторами были как сами авторы, так и «другие группы», дружественно или недружественно входившие в зону интересов раздела «Творчество».
Все эти проекты по определению были временными и высокорисковыми, имели неясное будущее, так как разворачивались в ситуации колоссальной социальной неопределенности.
Событийная подоплека этих проектов в публикациях «Анархии» была затушевана по описанным выше личным, политическим и историческим причинам. Поэтому к каждому блоку текстов мы составили справку, проясняющую, говоря газетным языком, «инфоповоды». Мы также добавили в качестве приложений к некоторым главам выразительные материалы из других источников, на которых базировались наши справки.
Таким образом, главы книги состоят из следующих блоков: «Инфоповод» – погружение в контекст, в котором создавались рассматриваемые материалы «Анархии», «Тексты» – собственно сами републикации этих материалов и «Приложения» – блок с дополнительными текстами из независимых источников, позволяющими увидеть картину полнее.
Такая (трехчастная) структура глав больше всего напоминает журнальную. Следуя за логикой классификации, мы подчеркнули стилизацию под журнал и снабдили главки заголовками и подзаголовками журнального типа, оглядываясь как на саму газету «Анархия» с ее гротескной боевитостью, так и на современные деловые СМИ. Это, конечно, пародия на «профессионализм». Но мы надеемся, что такая стилизация облегчит читателю восприятие корпуса «тёмных» текстов-первоисточников.
Интересного вам чтения, друзья!
Будем благодарны за дельные уточнения и исправления, обсудим их и внесем в сетевой вариант публикации текстов раздела «Творчество» газеты «Анархия».
А еще в нашей книжке есть особый раздел – «Карта локаций анархистской Москвы», вы можете воспользоваться им для организации прогулок с соратниками.
С пролетарским приветом!
Ваша Анна Бражкина
Теоретики и практики русского художественного авангарда с марта 1918 г. стали тесно взаимодействовать с политическими анархистами. Этому предшествовали их периодические пересечения с середины нулевых и стремительное сближение, начавшееся после Февральской революции 1917 г. Без знания этой предыстории невозможно понять феномен анархизма в контексте искусства авангарда, чье плодотворное развитие прервалось насильственным образом в июне 1918 г.
Не будь на свете Абы (Аббы Лейбовича) Гордина, не было бы ни Московской федерации анархистских групп (МФАГ), ни ее органа – газеты «Анархия». Он не называл себя ни главным редактором, ни вождем федерации, но, когда в дни Красного Октября Абу ранили и избили до полусмерти юнкера[9], вся работа МФАГ провалилась, и газета «Анархия» не выходила четыре месяца, пока он выздоравливал.
