Моё имя – Вор бесплатное чтение
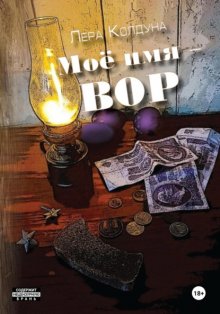
Глава 1. Детство
Вообще-то меня зовут Сергей. Такое имя дала мне матушка при рождении. Она сверилась со святцами (в этом ей помог настоятель храма, ныне разрушенного) и выбрала из нескольких предложенных имён.
Семья у нас была большая и бедная. Но всё относительно – и, возможно, в Москве мы считались бы многодетной, но не для деревни, где обитала наша семья. Я был младший, а кроме меня – два старших брата, Илья и Миша, и сестра Маша. Я не тешу себя иллюзиями, что был желанным ребёнком. Думаю, я стал следствием прощания матери с отцом перед его уходом на Великую войну1.
Мать работала горничной у зажиточной семьи. То ли они были князьями, то ли графьями – я уже и не помню. Илья и Миша работали на заводе, приезжая только на выходные, а Машка нянчилась со мной. Казалось бы, все при деле, должен быть достаток… Но нет. На заводе не платили месяцами, а даже, если и перепадала какая монеточка, то и её с трудом хватало на еду. В отличие от завода, господа платили исправно. К тому же мы жили в одной из комнат их особняка. Я плохо помню те дни, но помню, что из нашей комнаты можно было сразу попасть на кухню, а из неё – во двор. Входить в господские покои было категорически запрещено.
В комнате стояли только две узкие кровати. На них спали матушка и сестра, братья спали на полу, а я – в коробчонке. Через нашу комнату кухарка носила еду господам. Каких только запахов там не было! Эти дурманящие голову ароматы навсегда остались в моей памяти. От этих запахов хотелось есть ещё больше.
Отца я видел единственный раз, когда мне было чуть больше года, поэтому не помню его. Может быть, я помню темноволосого солдата, но, скорее всего, это моё воображение. Он вернулся с войны и ушёл снова, чтобы построить новый мир. Он возненавидел господ за наше жалкое жилище, за то, что они были то ли князья, то ли графья. И погиб. Его расстреляли «белые» – так нам сказали. А как было на самом деле – кто ж теперь знает? Я привык думать, что он погиб, как герой.
Это была поздняя осень 1921 года. Холодный дождливый ноябрь. Тусклые краски осени, дворов, улочек, революции, жизни. Именно в такой вечер мы и узнали о гибели отца. Мать собрала нас всех за столом в нашей комнатке. Я сидел на руках у Машки. Миша и Илья делили один стул на двоих. Мама стояла.
– Мне сегодня сообщили, что ваш отец погиб, – сказала она холодным голосом. Ни один мускул на её лице не дрогнул. Она была необычайно сильная духом женщина. – Его расстреляли «белые», – продолжила она.
Машка ахнула и заплакала, чуть не уронив меня. Братья тоже поёжились, будто от мороза. А я вздохнул. Я понимал, что так и не узнаю его по-настоящему.
На этом собрание было окончено.
Наступили действительно сложные времена. На заводе по-прежнему не платили, но Илья – наш старший брат, которому уже успело стукнуть девятнадцать лет, – открыл в себе удивительный талант: в пустых карманах находить деньги на водку. И хоть пил он не часто, но каждый раз до беспамятства.
Но и у господ складывалось не всё так гладко: теперь они платили едой, а не деньгами. Однако в качестве компенсации выделили нам ещё одну комнату, в которую переехали Илья и Миша.
Однажды к господам приехали племянник с другом. Машка помогала матушке накрывать на стол: сервировала фарфоровой посудой и серебряными приборами, выставляла хрустальные конфетницы с вкусным наполнением и вазу с последними осенними листьями. Я тогда был слишком мал, чтобы понять, почему она вдруг, ни с того ни с сего, занялась барским завтраком. Для меня она была тоже ребёнком, хоть и повзрослевшим. Я ведь помнил ещё, как мы с ней играли. А она уже стала девушкой: с красивой фигурой, с тёмно-русой косой, с янтарного цвета глазами. Она не была тщеславна, и, наверное, поэтому ей приглянулся не племянник господ, а его друг – статный, высокий, стройный бывший гимназист, а ныне совершенно бездарный актёр со звучным именем Ипполит. Симпатия оказалась взаимная, а потому через четыре дня Машку засватали. Ипполит пришёл в комнату матушки. Он принёс торт и леденцы. Всё в его движениях было как-то неестественно, по-театральному, наигранным. Он поцеловал руку матушки, потом Машке и произнёс:
– Вы станете моей женой?
– Мне шестнадцать лет… – замялась Машка.
– И что с того? – вмешалась мать, – в январе семнадцать будет. Ипполит, готовьтесь к свадьбе.
Особой подготовки не было – свадьбу сыграли на следующий день. По такому случаю братья взяли отгул. Праздничный стол накрыли в хозяйской столовой. Деликатесов не было. Куриный суп с домашней вермишелью, тушеная капуста, солёные огурцы, маринованные грибочки, а из напитков – компот из яблок и притащенная Ильёй невесть откуда бутылка водки. Приданое также было скудное: подушка и перина, на которой спала Машка, – вот и всё. А больше у нашей семьи ничего и не было. Те же ложки, вилки, которыми мы ели, – господские.
Молодожёны вернулись из загса к полудню. Это был самый счастливый день моего детства! Я объедался от пуза, не боясь, что на завтра не хватит еды. Я слушал, как играет на рояле дочь господ. Конечно, я слышал её игру и раньше, но приглушённо, через стенку. Праздник окончился с наступлением темноты. Перед уходом молодожёнов хозяйка дома сунула Машке в подарок резную деревянную шкатулку и сказала:
– Здесь немного, но, если случится беда, вы всегда сможете продать или обменять украшения. Золото всегда будет в цене.
Маша растерялась, поджала губы, не зная, благодарить или отказаться.
– Бери, – настаивала женщина, – мне они без надобности. Не ровен час, когда их могут и вовсе отобрать душегубы.
Маша поблагодарила её и протянула руки к шкатулке.
С отъездом Машки её кровать переходила ко мне. Я был счастлив, что мне больше не придётся спать в коробчонке, из которой я уже вырос.
Перед сном я пошёл на кухню, чтобы, как всегда, стащить кусочек хозяйского хлеба или чего другого вкусного. Неожиданно я услышал разговор. Я притаился за шкафом с посудой, чтобы лучше слышать, оставаясь незамеченным.
– Хорошо, что Машку замуж выдали, – говорила мама, пока мыла посуду, – это ж на один рот меньше. Да и пользы от неё никакой. Вон, только с младшим и сидела.
– Матушка, а сейчас с ним кто сидеть будет? – спросил Миша, похрустывая яблоком.
– А зачем с ним сидеть? Чай не маленький уже.
– На завод его отправите? – усмехнулся Миша, обращаясь к матери на «Вы», как было принято в те годы.
Мама вздохнула. Я убежал в комнату, прыгнул на кровать и влез под одеяло. Мне стало необъяснимо страшно.
Вечером следующего дня мама собрала мои вещи в узелок, одела меня в заношенный тулупчик с короткими рукавами, всунула мне в руки узелок и повела куда-то.
Мы долго шли по тёмным и холодным улицам. Я ловил ртом летящие снежинки. Наконец мы пришли к какому-то невысокому зданию из красного кирпича. Выглядело оно недружелюбно. Это оказался мой будущий дом. Детский дом. Так моему детству пришёл конец.
Глава 2. Детдом
– Как тебя зовут, малыш? – спросила воспитательница, худощавая женщина с близко посаженными к носу глазами.
– Серёжа, – тихо ответил я, а про себя подумал: «Никакой я не малыш!». Я не умел считать в ту пору и не знал, сколько мне лет, но знал точно, что я не малыш.
– А меня зовут Васса Матвеевна, – сказала женщина и улыбнулась. Около её глаз и губ появились морщинки. – Теперь ты будешь жить с нами.
Я округлил глаза и с непониманием смотрел то на воспитательницу, то на матушку. И вдруг понял: раз у мамы нет вещей, значит, я остаюсь совсем один.
– Мама! – крикнул я со слезами на глазах.
Она молчала, а Васса Матвеевна сказала:
– Иди, познакомься с ребятами, – и, открыв дверь, подтолкнула меня ко входу.
Это была большая комната с высоким потолком и множеством комнат. Её отапливал один-единственный камин, который не справлялся со своей задачей. На полу лежали матрацы, на них – мальчишки и девчонки. Все они были примерно одного возраста со мной. Старшие ребята, как я узнал позже, жили за стенкой, а малыши – на втором этаже. И обо всех детях заботилась Васса Матвеевна с мужем и родной дочерью. Новая Советская власть практически не помогала. Вся помощь – раз в месяц мешок картошки да мешок муки. И здесь мне предстояло теперь жить.
С моим приходом все оживились.
– Тебя как зовут? – спросил огненно-рыжий мальчишка с крупными веснушками, которые были видны даже в тусклом освещении лампады.
– Серёжа, – ответил я и шмыгнул носом.
– Будешь Шмыг, – окрестил меня белобрысый парень с подбитым глазом. Так я впервые потерял имя.
– А я Славка. Но все зовут меня Рыж. Ты тоже можешь так называть меня. А это Вова, Родя, Юра и Женя. А там девчонки: Света, Зина и Контра.
– Кто? – переспросил я.
– Оля-контра. Она из дворянских, – пояснил Рыж.
– Хватит знакомиться. Всё равно всех не запомнишь, – сказал белобрысый, который оказался Вовой, но все называли его Вождём. Не от любви к индейцам, о которых мы тогда и не знали, а в честь самого Ленина. Вова очень гордился тем, что был тёзкой Ильича, и потому считал себя главным в нашей шайке. К тому же из всех мальчишек он был старшим. Какие-то пару лет разница, но уже для нас – он авторитет.
После отбоя я заснул на жёстком матраце, укрывшись тёплым пуховым одеялом.
С первых дней мне понравился мой новый дом. Утром мы пили какао с хлебом, после завтрака нас обучали грамоте, чтению, счёту, пению и поэзии. После скудного обеда нас водили на прогулку. Вечером Васса Матвеевна читала нам Пушкина и Чехова, а незадолго до отбоя мы, шестеро мальчишек, сбегали в «самоволку» в поисках чего-нибудь интересного. Васса Матвеевна в это время возилась с малышами, что жили на этаж выше, поэтому не знала о наших вылазках.
Так шли дни, складываясь в месяцы, а затем в годы. В детдоме мальчишки были как семья-братья, а по факту – одна шайка. Девчонки сторонились нас. Света и Зина играли с соломенными куклами, сплетничали, делали причёски друг другу. Оля держалась особняком. Никто не принимал её к себе. А она не обижалась и, казалось, свыклась с этим. У неё были хрустально-голубые глаза, чистые, как небо. Тогда я уже знал, что мне девять лет, и я смотрел на неё, как все мальчишки смотрят на девочек в этом возрасте, когда вдруг понимают, зачем на самом деле дёргают их за косички. Оле было тринадцать, и я был для неё, как и все вокруг, ничем не примечательным. Но вскоре мы начали общаться, и она стала заботиться обо мне, как случается с женщинами в любом возрасте, когда рядом с ней появляется мужчина. Она укрывала меня по ночам, если я раскрывался, выравнивала на стуле мою одежду, в обед отдавала мне свой кусочек хлеба, приговаривая, что наелась постным супом. После отбоя мы подолгу говорили, и я всегда засыпал счастливым, а она повторяла:
– Ты мой самый лучший друг!
Хотя, по правде сказать, я был единственный её друг.
Спустя два года жизнь в детдоме стала совсем голодной, оттого невыносимой. Старшую группу в полном составе отправили учиться в ПТУ. Я боялся, что и Олю отправят, ведь она была их возраста, а жила в нашей комнате, потому что её там обижали, иногда даже били. Но Васса Матвеевна почему-то оставила Олю с нами. Новых детей в нашей обители не прибавлялось уже давно, а продпомощь стала меньше – муки не было теперь никогда, а картошку поставляли не каждый месяц. Если бы не огород, что был разбит у нас во дворе, неизвестно, что бы мы ели.
– Вот что, ребзя, – сказал наш Вождь, – вы как хотите, а я пойду у соседей излишки заберу. Жрать охота, сил нет!
Мы единогласно поддержали его. Каждый из нас знал все окрестные огороды как свои пять пальцев. Бывает, стащишь одно яблоко или горсть вишен – никто и не заметит.
– Девчонкам – ни слова! – продолжил Вовка и резонно заметил: – Сдадут.
И опять все согласились. Решили идти ночью. Всё, что найдём, – в общак. А утром поделим.
Ночи были тёплыми и душными. Дождя не было давно. Помню, как пересох язык, хотелось пить. Но, даже наткнувшись на колонку с водой, я не остановился. Я шёл к самому отдалённому дому. Я знал, что там, во дворе, растут самые густые плодовые сады во всей округе. Но там меня ждал неприятный сюрприз – сторожевой пёс. Он лаял на меня, а я драпал от него со всех ног. Эх, а я по дороге представлял, как объемся слив! А пришлось вернуться ни с чем. И всё же я заметил на соседнем от детдома дворе невысокое дерево сливы, усыпанное плодами. В прошлые годы оно было слишком юным и плоды не давало. Я перелез через забор, забрался на дерево, съел огромную сливу и набил полные карманы фруктами. Спрыгнул сразу на другую сторону забора. Не удержав баланс, шмякнулся на колени, разодрав их в кровь, но быстро встал и, счастливый, побежал в детдом. Через окно забрался в тёмную комнату, спрятал сливы в зимние сапожки – единственную обувь, что у меня была, – и сладко заснул. Засыпая, я твёрдо решил, что угощу сливами Олю.
После завтрака, который состоял из чая с молоком, мы вшестером спрятались в пустой комнате старших ребят. Там мы сложили наши находки. Самой удачной оказалась именно моя – сливы. Славка Рыж принёс одну морковь на всех, Вождь – горсть малины, Родя – пучок петрушки, Юрка – свеклу (зачем вообще она нам?), а Женя, отличившись ещё больше, – репчатый лук.
– Не дурно, но и не густо, – заключил Вова.
И опять все с ним согласились. Мы вообще всегда с ним соглашались. Ведь он старше, он – вождь.
Мы съели всё, даже сырую свеклу и лук, от которого текли тёплые слёзы.
После плотного завтрака я пошёл прямиком к Оле. Летом занятий не было, так как Васса Матвеевна с мужем трудились в огороде, а их дочь уехала поступать в какой-то художественный институт в Ленинграде. Я отвёл Олю в сторону и прошептал, доставая из кармана две замученные сливы:
– Это тебе.
– Я такое не ем, – сказала она и отвернулась.
– Ты даже не попробовала! Это сливы.
– Я такое не ем, – повторила она и всхлипнула.
Я был готов поклясться, что она очень хотела их съесть, но почему-то упиралась.
– Такое – это какое? – воскликнул я.
– Ворованное.
Я помолчал.
– И что прикажешь с ними делать? – наконец спросил я.
– Не знаю. Что хочешь.
– Я хочу отдать их тебе!
– Я такое не ем. Ешь сам, если хочешь.
– Не хочу, – насупился я, – я тебе принёс, а ты брать не хочешь! Может, мне их выбросить?
– Выбрось, – равнодушно отозвалась Оля.
Я подвёл её к окну, из которого был виден тот самый двор, и бросил первую сливу. Она упала, не долетев до забора. Следом я бросил вторую, которая успешно приземлилась во двор.
– Можно считать, что я их вернул, – весело сказал я.
Оля не ответила, а только пожала плечами и ушла к своему матрацу. Я рассердился, топнул ногой, обернулся и увидел, как на меня смотрит курчавый Родя. У него уже начал пробиваться первый пушок на лице, и потому мы стали называть его Ус, а не Гвоздь, как раньше, так как у него фамилия Гвоздёв. В классном журнале мы были записаны рядом: он – Гвоздёв, я – Гончаров. Нас всегда ставили в пару. Наверное, поэтому я с ним дружил больше, чем с остальными.
– Нехорошо, – сказал Ус, – Вождь злиться будет.
– Но ты же ему не скажешь?
– О чём? О том, что с Контрой общаешься, или что сливы для неё припрятал?
– Обо всём, – понуро ответил я и опустил голову.
Но Вовка всё же как-то узнал. Запел дразнилку: «Тили-тили тесто, жених и невеста». Я не стерпел и врезал ему со всей дури. Мы вцепились друг в друга, катались по полу. А потом резко прекратили.
– Нет, девчонок сливами не удивишь, – заключил Вова после драки, – тем более Контру. Она у себя в хоромах, небось, крем-брюле кушала большой ложкой. А ты к ней со сливами. Эх, ты!
– Где ж его взять-то? И знать бы ещё, что это… – пробубнил я.
– Через две улицы от нас есть продсклад. Предлагаю влезть туда сегодня ночью.
Мы растерялись. Воровать сливы у соседей и влезть на склад – разные вещи.
– И чего притихли? – сурово спросил Вождь и сдвинул брови.
– Ты, Вовка, извини, – ответил за всех нас Ус, – но склад – дело серьёзное.
– Испугались?
Мы молчали.
– Понятно всё с вами! А ты, жених, чего молчишь?
– Далеко идти. А если Васса заметит, что нас нет? – пробурчал я.
– Ты, Шмыг, что, Вассу испугался? Сторожей с дробью бояться надо. И то не сильно. Вот ты, к примеру, шоколад ел?
– Нет.
– А хочешь?
– Не знаю…
– А я ел однажды. Очень вкусно было. А где его взять, как не на продскладе? Мы просто конфискуем излишки.
И всё же мы согласились. Пошли все шестеро, пробираясь сквозь летнюю жаркую ночь.
Я не признался Вовке тогда, но я действительно боялся: боялся Вассу, боялся сторожа, боялся и того, что Оля не примет подарок, как было со сливами.
– Мы пришли, – объявил Вова.
Перед нами стояло посеревшее в ночи здание с одним крохотным окном. Возле двери дремал сторож, опираясь на двустволку.
– Как всегда спит, – сказал Вова, и мы поняли, что он уже бывал здесь, и не раз. – Юрка-Косой, будешь на стрёме, остальные – через окно за мной.
Вова встал на спину Жени и влез в окно, потом Женя встал на спину Роди и тоже нырнул в окно. Так, друг за другом, мальчишки забрались на склад. Я был последним. Меня подсадил Косой.
Славка-Рыж зажёг свет. И сладости, и лимонад, и сыр, и колбаса, и много-много всего! Запахи вскружили голову…
– Ви-но, – прочитал Рыж по слогам, – попробуем?
Он отбил горлышко у бутылки с помощью ножа и разлил лиловый напиток в наши ладони. Мы дружно хлебнули. Я и Женя тут же выплюнули. Вино как будто обожгло рот.
– Я лучше лимонада выпью, – проворчал Женя, и тут же к его руке полетела стеклянная бутылка лимонада.
– Лови! – воскликнул Родя.
Женька удачно поймал бутылку и, откупорив пробку, сразу выпил половину.
– Эх, хорошо! – протянул он.
Я взял горсть мармеладных конфет в шелестящей обёртке и сунул их в карман.
– Надо бы Косому что-нибудь сбросить, – предложил Рыж, – а то нечестно получается.
– И то верно, – согласился Вождь, жуя колбасу. Он схватил такой же батон варёной колбасы и лимонад и, выглянув в окно, крикнул шёпотом: – Косой, лови!
Косой поймал колбасу и сразу начал с усердием жевать, а бутылка лимонада упала с глухим звуком в траву. Этот звук разбудил дремавшего сторожа. Он с грохотом открыл дверь склада.
– Бежим! – скомандовал Вождь и кинулся к окну.
Около маленького высокого окошка лежали аккуратно сложенные мешки с мукой. Когда мы влезли на склад, они пришлись очень кстати. Но обратного пути не дали: верхний мешок под тяжестью Вовкиного прыжка лопнул, и содержимое высыпалось на пол, а Вождь упал, измазавшись в муке.
Родя сообразил, что горит свет, и нас видно – дворник мог запомнить всех или хотя бы посчитать. Одним рывком – недаром был самый высокий из нас – он треснул бутылкой вина по лампочке. Свет моментально погас. Бутылка же осталась целой.
Сторож был не промах, сразу сообразил, что к чему, и протяжно засвистел в вверенный ему свисток.
– Шаг – стреляю на поражение! – предупредил он и снова засвистел.
На его сигнал прибежали представители комиссии общественного порядка, дежурившие этой ночью, – двое мужчин и женщина в красной косынке. Женщина втащила на склад ревущего и причитающего Юрку-Косого.
– Тётенька! Пустите меня! – вопил он.
Мы отчаянно и безуспешно метались по складу, роняя коробки, попадавшиеся у нас на пути. Вовку схватил сторож сразу после его падения. Затем попались Женька и я, а уж потом Родя и Слава.
– Попались, голубчики! – воскликнул сторож, а мы продолжали брыкаться.
– Эй, вы! Полегче ногами-руками машите! – рявкнул мужчина, державший меня и Женьку.
– Сейчас ГПУ2 позовём – вмиг успокоятся, – сказала женщина, – вы откуда взялись, беспризорники?
– Мы не эти… мы призорные, – всхлипнул Юра.
– Ах, призорные! – засмеялась женщина, а следом за ней молодые мужчины и пожилой сторож.
– Где же вы живёте? – с иронией спросил мужчина, державший Родю и Славу.
Мы наперебой назвали адрес.
– Приют, – сказала женщина.
И нас повели по названному адресу к зданию из красного кирпича. Тяжёлый стук в дверь разбудил всех жильцов. К нам вышла Васса Матвеевна, заспанная и удивлённая. Поверх ситцевой сорочки был накинут махровый потёртый халат.
– Ваши? – спросила женщина. Теперь она держала не только Юрку, но и Вовку, так как сторож остался на складе.
– Мои, – почти шёпотом ответила Васса Матвеевна.
– Плохо ж вы, гражданка, за ними смотрите. Пока вы спите, эта малолетняя шпана продсклад обчистила!
Васса Матвеевна ахнула.
– Они же просто дети!
– Не дети, а преступная шайка!
– И что же украла эта шайка? – строго спросила Васса Матвеевна, поставив руки в боки.
Нам вывернули карманы. Из них разноцветной шелестящей россыпью выпали конфеты и мармелад, а из кармана Роди со звоном упала металлическая банка с леденцами. Стукнувшись о землю, она раскрылась, показав содержимое. Только у Юрки карманы были пусты, что и понятно: колбасу и лимонад он сразу же выбросил при облаве.
– Поймите: они же голодные, – оправдывала нас воспитатель, – а сладкого сроду не видели. Обеспечение у нас слабое…
– Вы смеете роптать на Советскую власть? – повысив голос, спросила женщина. В тусклом свете уличного фонаря, висевшего над крыльцом, был виден её недобрый прищур.
– Нет, нет! Что вы! Власть у нас самая замечательная! – затараторила Васса Матвеевна, ведь она не была той женщиной, которая стала бы роптать ни на власть, ни на недостаток чего-либо, – спасибо ей за всё, но на всех… хм… сладостей не хватает. У нас большая страна, нуждающихся много, но я верю, что и мы однажды получим сладости для них. Они дети, которые хотят сейчас. Да и к тому же сироты…
– Сироты? – переспросила женщина, не меняя прищур.
– Да, пострадали от белого террора.
Эти слова возымели успех: я вдруг почувствовал, что держащая меня рука ослабила хватку, а затем и вовсе отпустила.
– Идите в дом! – скомандовала Васса Матвеевна, а приведшим нас сказала: – Я проведу с ними воспитательную беседу. Этого больше не повторится.
Мы вбежали в дом. Васса Матвеевна крикнула нам вдогонку:
– С этого дня вы все наказаны!
– Пронесло, – выдохнул Родя, когда мы вошли в общую комнату. Никто не воспринял всерьёз угрозу нашей добродушной воспитательницы. А тех посторонних мы испугались по-настоящему. Мало ли что они сделали бы с нами, сорванцами.
Девчонки не спали. Когда мы вошли, они уставились на нас, как будто мы были какой-то диковинкой.
– Чего смотрите? Спите! – рявкнул Вовка и улёгся на свой матрац. Все беспрекословно подчинились ему. Не зря его называли вождём.
Но всё же не все.
Она сидела на подоконнике, прижав колени к груди, и неслышно плакала. Я подошёл к ней, и она тут же смахнула слёзы.
– Зачем? Зачем ты это сделал? – спросила Оля с грустью в голосе.
– Я хотел порадовать тебя, – честно признался я.
– Чем? – удивилась она.
– Мармеладом.
– Да не нужен мне этот проклятый мармелад! – воскликнула она, – мне ты нужен! А если бы тебя посадили? Что бы я делала без тебя?
– Мне одиннадцать. Никто меня не посадит.
Она как будто не слушала.
– Не воруй, пожалуйста! Не воруй! Слышишь? У вора одна дорога – тюрьма.
– Я и не ворую! – огрызнулся я, почему-то разозлившись на её слова.
– А что ты делаешь?
– Забираю излишки. Вот что!
– Ах, излишки…
Она неожиданно успокоилась, но в её глазах что-то переменилось. Как будто в них потух внутренний огонёк. Она встала и побрела к своему матрацу.
– Оля! – окликнул я её, но она не повернулась. – А и ладно! Иди! Гордячка!
Я знал, почему эту белокурую голубоглазую, похожую на ангела девушку обидели мои слова. За эти самые «излишки» пятеро человек в кожанках и фуражках с красными звёздами выволокли её родителей во двор и расстреляли. А она, маленький пятилетний ребёнок, всё это видела, спрятавшись за густым пожелтевшим кустом смородины. Дождь лил как из ведра, капли стекали по её лицу, перемешиваясь с солёными слезами. Она пряталась за кустом три дня, пока её, обессиленную, не нашли соседи и не привели в детский дом. Васса не хотела брать Олю, боялась. В сердцах назвала девочку «контрой». Дети услышали, стали обзывать так невинного ребёнка, обижать и травить. И только я знал, что случилось с её родителями, как и почему. Я не просто обидел её в тот день. Я её предал.
Утром она подошла к Вассе Матвеевне и попросилась в швейное училище. Ей уже было четырнадцать лет, а туда принимали с тринадцати, поэтому воспитатель согласилась с её решением. Через две недели и два дня за Олей приехал экипаж. Вещей у неё было немного, всё поместилось в крохотный узелок. Провожал её до вокзала муж Вассы, а дальше, до училища, Оле предстояло ехать самой.
Я смотрел в окно, как она уезжает от меня во взрослую жизнь. А вместе с ней уезжала часть моего сердца, наполненная первой самой чистой любовью. Мы не попрощались. Мы вообще с той ночи больше не говорили. Я стоял у окна, надеясь, что она обернётся. Но она не обернулась.
– Но! Пошла! – крикнул извозчик, хлопнув вожжами.
Экипаж тронулся. Оля уехала. И я больше никогда её не видел.
Глава 3. Кривая дорожка
В июле 1930 года мы узнали, что наш детский дом, ставший нам родным, закрывают. Причина была не в нас и не во власти. Из-за недоедания Васса Матвеевна тяжело заболела желудком, а помимо того у неё часто случались голодные обмороки. Это было закономерно: всё, что она имела, отдавала нам. После того случая она старалась выделить хоть немного денег, чтобы купить нам карамелек, которые, по правде сказать, нам в тот период были и даром не нужны. Ей стоило заботиться о себе, а не о нас, ведь здоровье немолодой женщины было уже слабым. Муж и врачи уговаривали её уехать в Минводы. А это означало закрытие приюта. Так в свои едва исполнившиеся тринадцать лет я остался без родного дома. И не я один. Вся наша тогда уже старшая группа потеряла его в одночасье. Подросшим малышам было проще – они переходили в другой детский дом. Нам же – шестерым юношам и двум девушкам – предстояло выбрать профессиональное училище. Света и Зина выбрали то самое швейное, которое находилось в соседнем районе. Юра, Слава и Женя решили ехать в областной центр учиться на электриков, а я и Родя определились, что останемся в своём городишке, выбрав специальность «слесарь». Это мы между собой называли нашу местность городишко. Но в те годы он не был таковым, а представлял собой поселение из множества дворов. Одних только улиц у нас было двенадцать. И всё же городом он стал, но на много десятилетий позже.
– Не поеду я учиться! – заявил Вова, – хватит! Столько лет учился, учился. А что толку? Сам кого хочешь научу!
Мы, как и всегда, не спорили с ним. В итоге он объявил Вассе Матвеевне, что поедет покорять Москву, и что хлопотать за него не надо, но потребовал полагающиеся ему сто рублей. С чего Вова взял, что они ему полагались, никто не понял, но Васса Матвеевна дала их ему. Эти деньги предназначались её дочери на свадьбу, но свадьба расстроилась, поэтому воспитатель смогла отдать их наглому сорванцу. Получив названную сумму, Вова подмигнул нам:
– Учитесь, как надо делать.
В августе нас зачислили, и мы разъехались, кто куда. Прощаясь, обещали писать письма. Все, кроме Вовки.
Учёба начиналась в сентябре, но уже в августе можно было заселиться в общежитие, в котором предоставлялось койка-место. Это была моя первая настоящая кровать! Если не считать ту ночь, когда я спал на Машкиной. Каждому, опять-таки кроме Вовы, Васса Матвеевна дала напоследок по пять рублей и по кочану капусты с приусадебного огорода. Как она сказала: на первое время.
С Родей мы сразу решили, что деньги будут общие. Ведь десять рублей больше, чем пять. Мы сразу купили гречку, перловку, хлеб и чай, чтобы не сойти с ума от одной капусты каждый день. Купили кусок хозяйственного мыла, зубной порошок, кое-какую посуду на барахолке, в том числе две чашки, и одну пару галош, которую решили носить по очереди. Другой обуви у нас не было. Даже моих сапожек, в которых я когда-то прятал сливы. Те сапожки купила мне мама и передала в детдом. Но я их не носил. Сначала – потому что злился на маму, а позже – потому что выросла нога, и они стали малы. С покупкой галош деньги кончились.
К зиме галош было уже две пары. Нам выплачивали стипендию и кормили в столовой за копеечную цену. Родя учился слабо, а я был отличником, и потому получал повышенную выплату, но мы складывали их в привычный нам общак. Одежда у нас тоже появилась, в том числе и тёплая, но всё было куплено с рук, заношенное, иногда с заплатками. Зато теперь у меня было что-то своё, личное.
Решили мы как-то по весне навестить наших друзей. Поначалу мы часто писали письма друг другу, а потом всё сошло на нет. Телеграфировали им, что приедем в следующие выходные, как только получим стипендию.
В назначенный день мы отправились в дорогу на автобусе. Дорога была не близкая, но добрались мы быстро. На автовокзале нас уже ждала наша шайка. Встретились, обнялись.
– У вас деньги есть? – с ходу спросил Юрка. Он как-то резко повзрослел, вытянулся. Даже казалось, что его глаз не так сильно косил, как раньше.
– Есть, – опешили мы. Мы ожидали любого вопроса, но точно не этого.
– Тогда за мной! – Юра махнул рукой.
– Где это мы? – спросил я, входя в странное помещение. Внешне это было непримечательное, обычное многоквартирное здание. Вся его особенность располагалась на первом этаже в виде рюмочной.
– Да так. Местная забегаловка, – ответил Юра, – их грозятся закрыть со дня на день, поэтому они наливают всем, у кого есть деньги.
В рюмочной толпились люди, в основном это были мужчины разных возрастов, но абсолютно все – пьяные. Одежда многих была засалена от долгой носки, с заплатками на локтях и коленях. Воздух в этом душном помещении стоял затхлый пропитанный алкогольными парами и потом.
Я инстинктивно протёр рукавом под носом и шмыгнул.
– Шмыг, ты не изменился! – засмеялся Женька.
Мы стояли вокруг круглого столика, который возвышался на одной-единственной ножке, и упирались в него животами. Юра купил литр водки, полную тарелку солений: огурцов, помидоров, чеснока, перца, и одну сосиску. Её мы разрезали на пять частей. Юра плеснул водку в пять рюмок. Себе при этом налил чуть больше. Мы взяли по рюмке и по вилке с кусочком причитающейся сосиски. Чокнулись, выпили, закусили. Водка резко обожгла горло, и я поморщился от непривычки, отметив, что вино на продскладе было вкуснее. Родя тоже поморщился и глухо закашлял. Юра, Женя и Слава выпили, не дрогнув ни одним мускулом. Про Юру стоит добавить, что он выпил с особенным удовольствием.
– Эх, нет с нами нашего Вождя, – вздохнул Слава, – и не пишет, гад. Что с ним, где он – чёрт его знает.
Мы снова выпили, закусили соленьями.
– Вот это – вещь! – произнёс Юра, похрустывая огурцом, – пол-литровая банка солений стоит рупь двадцать и сосиска – рупь двадцать, – он показал на опустевшую тарелку, – но что взять с одной сосиски? Ни поесть, ни закусить.
Мне стало всё понятно: стипендию они оставляют в этой рюмочной, поэтому обрадовались нашему приезду.
Третью рюмку я цедил долго, пил по полглотка. Голова стала тяжелее, в глазах помутнело, словно их заволокла слеза, желудок ныл и будто рвался наружу. Я отлучился в уборную и, возвращаясь обратно, заметил то, что круто изменило мою жизнь раз и навсегда. За одиноким столиком сидел, а точнее лежал на нём, мужчина средних лет. Выпитая бутылка водки валялась под столом. Мужчина крепко держал гранёный стакан одной рукой, другую он положил под голову. В стакане на дне оставалась прозрачная жидкость. На столе не было тарелок и какой-либо закуски. Он спал. И спал крепко. Из кармана тёмно-синих рабочих брюк виднелось что-то непонятное. Любопытство взяло верх, и я аккуратно вытащил загадочный предмет. Маузер! Вот это находка! Я поспешил сунуть его под ремень, прикрыв сверху рубахой.
Вернувшись к столику, я подёргал Родю за рукав.
– Нам пора, – сказал я почти шёпотом. Ко мне вдруг вернулась ясность ума.
– Но почему? – удивился Родя, – автобус уезжает только вечером.
– Нам пора, – ещё тише, но твёрже сказал я.
– Тебе что, надо штаны сменить? – загоготал Женя.
– Может и надо, – буркнул я.
– Допьём, и идите, куда хотите, – сквозь смех сказал Славка.
Но Родя явно не был готов пить. В моё отсутствие появилась новая «литрушка».
– Шмыг прав, нам действительно пора, – вздохнул Родя, – я совсем забыл.
Ребята недовольно посмотрели на меня.
– Вы оставайтесь, мы не заблудимся, – заверил я.
– Как хотите, – пожал плечами Юра, – нам больше достанется.
Мы обнялись на прощание, пожали руки, и наконец-то я и Родя оказались на свежем воздухе.
– И горазды же они пить! – сказал Родя по пути на автостанцию, – я с трудом могу идти, а им хоть бы что! Вовремя ты сообразил удрать.
Он шёл, пошатываясь, то и дело опираясь на меня.
– Дело не в водке, – сказал я ему на ухо и задрал рубашку.
– Это же… – Родя не договорил. Договорили его удивлённые глаза. Он обомлел, это я понял, но на всякий случай я поднёс палец к губам и зашипел. Родя закивал. Он точно протрезвел от увиденного.
– Откуда? – шёпотом, почти одними губами, спросил он.
– Подрезал у одного пьянчуги. Никто вроде и не заметил, но уйти следовало.
Родя опять закивал.
– Нам бы этот… хм… эту штуку тогда, на продскладе, – мечтательно сказал он.
– А ты умеешь пользоваться этой штукой?
– Нет.
– В том-то и дело. И я тоже нет.
– Зачем же ты взял его, раз не умеешь?
– Не знаю. Рука сама потянулась.
После той поездки мы жили впроголодь. Питались хлебом, запивали водой. Всё чаще посещала мысль о продскладе. В маузере оказалось восемь патронов. Я и Родя выстрелили по одному разу в образовательных целях. Ни он, ни я не попали по пустой бутылке молока, которая послужила нам мишенью. Из чего мы сделали вывод, что отстреливаться не сможем, тем более осталось всего шесть патронов. Про продсклад думали, конечно, с голодухи, но там по-прежнему нёс караул старик с двустволкой.
– Столовая колхоза! – однажды предложил Родя, – там нет сторожей, стоит она поодаль от основного здания администрации колхоза. И окна низко.
– И что же мы там возьмём?
– Да хоть в ведре кожуру от картошки!
– Кожуру мы и без таких сложностей можем достать.
После долгих споров и уговоров я согласился с другом.
Столовую действительно никто не охранял. Никому в голову не могло прийти, что там можно было что-то взять. Мы крались в ночи к белому невысокому зданию. Его окна были настолько низко, что почти касались земли. На двери висел амбарный замок. Мы обошли здание. Нигде не было открытых форточек и окон.
– И как мы влезем? – шептал я.
Родя подошёл к одному из окон и толкнул стекло. Стекло со звоном упало на пол, разбившись на три крупных осколка.
– Что ты наделал?! – воскликнул я.
– Ты со мной? – спокойно спросил Родя, как будто ничего не произошло. Я нахмурился, но влез следом за ним.
В столовой было тихо и сумрачно. Её освещали уличные фонари, глядящие через окно. Мы очутились посреди обеденного зала меж бесчисленных столов и стульев.
– Надо стекло выбросить из окна, чтобы решили, что это посетители разбили, – смекнул Родя.
Так мы и сделали, а после этого пошли на кухню. Там на столе стояли таз с квашеной капустой с клюквой и натёртой морковкой, накрытый марлей, таз яблок, кастрюля с куриными яйцами и ведро с картошкой в мундире. Под столом – начатые мешки с мукой и сахаром.
– Не густо, – разочарованно сказал Родя.
– Давай хоть капусту поедим, – предложил я.
– Давай.
Я снял марлю, и мы запустили пальцы в хрустящую массу. Мы интенсивно жевали, а хруст был такой громкий, что я боялся, как бы нас кто-нибудь не услышал. Рассол стекал по рукам, а мы расплывались в улыбке от удовольствия. Мне казалось тогда, что ничего не может быть вкуснее. Наевшись капусты досыта, мы набили полные карманы картошкой. Яйца не брали, подумав, что они могут быть сырыми, а сырые разобьются в карманах. Я предложил взять яблоки, но Родя не согласился со мной:
– Яблоки в любом дворе висят. Для них маузер не нужен.
Он никак не мог смириться, что мы зря его не применяем. Вот был бы сторож, перестрелка… А это у нас так, баловство.
Родя прошёл к прилавку. На видном месте, между массивными весами и деревянными счётами, стояло голубое блюдце с мелочью. Видать, для сдачи.
– Серёга, смотри! – воскликнул он, указывая на блюдце.
– Деньги брать не будем, – возразил я, – а вдруг работники напишут заявление в милицию? Будут искать воров по всей округе, а мы-то в общежитии не ночевали и…
– Что ты выдумываешь? Да тут в лучшем случае червонец наберётся. Кто из этого будет шум поднимать?
– А окно?
Родя вздохнул. Мне не понравился этот вздох, хотя я сам всё прекрасно понимал. Конечно, картошки мы набрали полные карманы, но это дня на два или три. А что потом?
– Хорошо, давай возьмём. Но не всё. Чтобы было незаметно, но и нам хватило.
Я высыпал мелочь на прилавок, поделил примерно на две части. Одну смёл в блюдце, а оставшуюся снова поделил и опять половину смёл.
– Вот это мы возьмём.
Посчитали.
– Рупь пятнадцать, – сказал Родя, – мало.
– На хлеб хватит. Даже останется.
– Опять хлеб, – заныл Родя.
Мы вернулись к общежитию тем же путём. Ждали, сидя на его пороге, наступления утра и ели картошку.
До последней стипендии оставалась неделя, до выпускных экзаменов – месяц. Случай со столовой не стал достоянием общественности. Даже сторож не появился. Но больше нас туда не манило – взять нечего.
– Надо брать продмаг, – рассудил Родя.
И мы решили брать.
На пороге продмага сидел молодой сторож. Отложив двустволку, он играл с ножом – бросал его в землю так, чтобы остриё как можно глубже вошло.
– Такой не заметит, даже если весь магазин вынесем, – подметил я. С тоскою вспомнился продсклад.
Входная дверь была не заперта, и мы тенью, бесшумно пробрались внутрь. Но магазин был почти пуст: завоз был по понедельникам, а мы влезли в ночь на воскресенье. Взяли пачку перловой крупы и пачку риса, чтобы не уходить с пустыми руками. На прилавке стояло такое же блюдце, как и в столовой. Я проделал те же действия, что и в прошлый раз.
– Почти пять рублей! – шёпотом воскликнул Родя.
Мы выскользнули тенью и удрали.
В мае прошли выпускные экзамены: для меня – успешно, для Роди – просто прошли. На заводе нас ждали только в сентябре, так как не было рабочих мест, даже для меня, отличника. А новые места как раз и открывались в сентябре.
Однокашники не унывали: кто разгружал вагоны, кто в поломойки ушёл. А мы – за старое. И снова в тот продмаг. На пороге сидел тот же паренёк, в этот раз хмурый, с двустволкой в руках. Мы проникли в здание, но каким-то шестым чувством я почувствовал, что он нас заметил.
– Родя, драпать надо, – сказал я сквозь зубы.
– Не паникуй. У нас же есть маузер, – спокойно ответил он, по-хозяйски деля мелочь из блюдца, но выбирая номинал покрупнее.
Помню, я успел схватить пачку печенья и чая, когда дверь распахнулась и кто-то включил свет.
– Руки вверх! – приказал молодой сторож, наставив на нас двустволку. Видать, ему крепко досталось от начальства в прошлый раз. – Я не шучу!
Я выхватил из-за пояса маузер, взвёл затвор и нажал на курок. Я стрелял, не целясь, как в тумане. И попал. Я попал ему в плечо. Он опустился на пол, прикрывая рану, а я крикнул Роде:
– Беги!
И он, разбив окно, побежал. Я бежал следом, не бросив ни чай, ни печенье.
В ту ночь нас не поймали, и мы решили, что пронесло.
Арестовали нас днём, через восемь часов после случившегося.
Глава 4. Белогвардеец
Мы проходили по двум эпизодам, и они оба относились к продмагу. Случай со столовой нам действительно сошёл с рук.
Да, был суд. И нас судили по всей строгости закона.
Дело было пустяковым: украли мы за два раза девять рублей и тридцать копеек да продуктов на грош. Потому Родиону Гвоздёву назначили ни больше, н и меньше, а год трудовых лагерей, трудиться на благо обществу. Отбывать срок предстояло в нашем же городе.
Со мной всё оказалось сложнее. Первым отягчающим обстоятельством был мой выстрел в молодого сторожа. И хоть я попал ему в плечо, моё действие расценивалось как вооружённое нападение и угроза жизни. И если к этому обвинению я был морально готов, то второе обстоятельство обрушилось на меня как гром среди ясного неба: маузер К96 оказался табельным! Я до сих пор не знаю, был ли тот пьянчуга чекистом, или же я «подрезал» уже ворованный пистолет, да только значения это теперь не имело. Я подробно рассказал суду, как маузер оказался у меня, сколько было патронов и на что я их потратил.
Мне дали шесть лет. Оставили меня в той же области, но перевезли в какое-то село.
По пути к моему новому пристанищу я думал: «Зачем я взял тогда этот проклятый маузер? Зачем согласился на уговоры Роди? Зачем выстрелил? И хорошо, что попал только в плечо, а не убил».
Меня ввели в камеру, сунув перед этим мне в руки казённые шмотки – сменную одежду да застиранное постельное бельё.
В камере на нарах кто-то спал. Когда дверь с грохотом открылась, он проснулся, но не встал. Я вошёл. Дверь точно так же с грохотом закрылась.
Помню, было сыро, как и всегда в тюрьмах. Единственное окошко с решёткой почти под потолком, четыре койки, стол, два табурета, дырка в полу и умывальник над ней. И запах. Пахло болотом, смрадом и пионами, что росли там, на свободе.
Человек, лежавший на нарах, встал, оправил одежду и протянул мне руку со словами:
– Алексей. Будем знакомы!
– Серёжа… хм… Сергей.
Я кое-как пожал ему руку. Это был необычайно красивый молодой человек, точно сошедший с портрета именитого художника. Как выяснилось позже, ему было двадцать восемь лет, был он белогвардейским офицером. Но возраст был будто не его: моложавое, почти юное лицо с серыми глазами не позволяло дать ему больше двадцати лет, а кучерявые русые волосы с густой сединой на висках могли убедить любого, что пареньку лет сорок.
Я сказал ему об этом. Алексей только заулыбался.
– Так и выходит – среднеарифметическое.
Мы много разговаривали в те дни, что провели вместе в той сырой камере с запахом болота и пионов. Но в первый день и ночь за ним мы говорили намного дольше, чем потом. Я рассказал ему всё, без утайки. Даже о том, что моего отца, Николая Трофимовича Гончарова, убили «белые». А он сказал на это:
– Война.
Я рассказал о матушке и братьях с сестрой, о детдоме, об Оле, про сливы и мармелад. А он нахмурился.
– Правильно тебе Оля сказала. Воровство – последнее дело. Потому тебе в тюрьме теперь и сидеть. Впредь – наука.
– А ничего, посижу, – ощетинился я, – Ленин вон тоже в тюрьме сидел. А он, между прочим, не кто-нибудь, а вождь мирового пролетариата!
Алексей улыбнулся.
– Так ведь он не за воровство сидел, а за идею.
Я сник. Прав, гад. Я еле слышно произнёс:
– Ты же… это… понимаешь…
– «Белый»? – в лоб спросил Алексей.
Я покраснел до самых кончиков ушей.
– Ну «белый», и что с того? – продолжал он, – да, я не разделяю его убеждений и не говорю, что он был прав, ваш Ленин – вождь мирового пролетариата. Я говорю только о том, что он не был вором. Можно развести демагогию, что он украл страну у законных властителей. Но мы же сейчас не об этом. Скажи, сколько тебе дали сейчас?
– Шесть лет.
– Сколько тебе будет, когда выйдешь?
– Двадцать.
– Вот и подготовь себя к этому. Вырасти духовно и морально. Здесь есть книги, их дают читать. Ты читал Пушкина? Лермонтова? Толстого?
– Что-то читал, – промямлил я.
– А ты прочитай всё, что сможешь за это время. Шесть лет – это как годы университета и даже больше. Учи стихи, тренируй память. Здесь есть учебники. Их немного: ботаника, астрология и история Древнего Рима. Но они есть! Попроси листок и перо и конспектируй. Выйди отсюда светлым душой и с просветлённым умом. И больше не воруй.
– Когда живот урчит, стихи не помогут. Да и знаю я их, между прочим. «Белеет парус одинокой в тумане моря голубом!..»
– «Что ищет он в стране далёкой? Что бросил он в краю родном?» – закончил Алексей.
– Лермонтов.
– Да, да. Совершенно верно. Михаил Юрьевич Лермонтов. Тоже был в ссылке, как и мы сейчас, но за убеждения, а не за воровство. А то, что есть хочется, так на работу иди или на службу. Семью заведи. Будь примером для своих детей. Потому как не их надо воспитывать, а себя. Тогда они, глядя на тебя, будут воспитанными. А коли ты сам не образован, то не с кого им будет пример брать.
– А у тебя дети есть?
– Да. Две дочери. Одной – пять лет, другой – три года. Их теперь жена и моя мать воспитывать будут.
– У тебя тоже отца нет?
– Да.
Я заметил, что он горько усмехнулся. Я ждал, что он продолжит, но Алексей молчал.
– Болел? – всё же спросил я.
Алексей помотал головой.
– Его «красные» убили в тот день, когда меня в полк приняли. Слабину он дал – водки выпил. Потому в атаке бдительность и потерял.
Он смотрел на меня странным взглядом.
– Ты чего так смотришь? – ощетинился я.
– Видишь, как получается: твой отец убил моего отца, а я убил – твоего.
Я вскочил.
– Ты убил моего отца?!
– Серёжа, это иносказательно, условно.
– А-а-а, – протянул я, хотя всё равно ничего не понял.
Я решил сменить тему:
– А тебе сколько сидеть?
– Пока не уведут. С февраля жду, но говорят, что скоро.
– Куда уведут? – не понял я.
– На расстрел, Серёжа, на расстрел.
– Но почему?
– Потому что я «белый», – усмехнулся он.
– Разве это преступление? Преступление – это когда убивают, ну или воруют, или что-то делают плохое. А ты вон какой умный, образованный, Лермонтова даже знаешь. Я тоже, конечно, знаю, но я воровал, стрелял…
– И я стрелял. Чьего-то отца убил. И не одного, а сотни. Нет хуже горя, чем война. Но самая горькая война – братоубийственная, гражданская. А за это только расстрел, Серёженька. По законам военного времени.
– Но ведь нет уже никакой войны!
– Войны нет. А я есть. Непорядок.
Он говорил так спокойно, так просто, будто говорил не о себе, а ком-то другом.
– Знаешь, а я себе по-другому представлял вас… ну… в смысле… в общем, «белых».
Алексей рассмеялся.
– Как?
– Думал, что вы заносчивые, горделивые, с большими крестами на шее.
– А вот тут ты угадал.
Алексей вытащил нательный крестик, что прятался под тюремной робой, и сразу спрятал.
– Спаситель всегда со мной.
Он рассказывал мне о Боге, про десять заповедей, по памяти читал молитвы и псалмы. И говорил про войну, про ведение боя, о том, какие бывают ранения, рассказывал про Великую войну, которую его отец прошёл от начала и до конца, про едкий газ и противогазы, про то, как и он сам чуть не угадил под пули в Гражданскую и как поседел раньше срока. И балах. Как впервые попал на бал, когда он был в моём возрасте, и как бывал на них потом.
Его жизнь была яркой, красочной. Она горела, как свеча, но фитиль был короток и вот-вот грозился погаснуть навсегда.
«Войну и мир» Толстого мы читали вместе. Алексей учил меня французскому и немецкому. Я обещал выучить всё, что он успеет записать.
Он учил меня, какое бывает оружие, как правильно целиться (показывал буквально на пальцах!); учил оказывать первую медицинскую помощь; как определить, где север, а где юг, как искать воду в лесу.
А ночью мы сквозь решётку смотрели в единственное окно на небо, и я учил расположение звёзд, сравнивал созвездия с учебником по астрологии.
Он говорил мне о женщинах: о распутных и верных, о том, что непременно надо жениться, коль решился обесчестить. И лучше, если удастся повенчаться, чтобы не жить во грехе. О том, что женщины любят комплименты и цветы, и обязательно смелых и отважных мужчин.
Он говорил об офицерских традициях и гуляньях, об орденах и званиях. О том, как пить водку из полного стакана и не захмелеть, как казаки научили его шашкой открывать шампанское, а я вспомнил, как впервые попробовал вино на продскладе.
Он говорил о лошадях. Как ездить на них, и какую выбрать для скачек, а какую для боя. О подковах и сбруе, о скрипучих сёдлах и густых гривах. Об уходе за верным другом и помощником.
Нет. Говорил я, а он делился опытом, учил жизни. И до дождливого октября поистине заменил мне отца. Я полюбил его, как сыновья любят отцов, как младший брат любит старшего.
Но за ним пришли. 2 октября 1931 года, перед ужином, сразу после дождя.
– Будет легче землю копать, – весело отшутился Алексей, а у самого задрожала нижняя губа и потеряла цвет.
Мы попрощались у металлической двери.
– Сергей! Не забывай о том, чему я успел тебя научить. И заклинаю тебя: не воруй.
– Не буду, – цедил я сквозь зубы. Я боялся заплакать. Понимал: ему во сто крат тяжелее, чем мне.
– Что ж, прощай, Сергей Николаевич! Не поминай лихом! Встречусь на небесах с твоим батюшкой, Николаем Трофимовичем, прощения попрошу, что оставил его сына сиротой. И привет от тебя передам.
– Прощай, Алексей Григорьевич! Друг, брат и советчик!
Мы крепко обнялись.
– Скоро вы там напрощаетесь? – рявкнули за дверью, – точно бабы на вокзале!
– Я готов, – произнёс Алексей.
Его увели. Через полчаса прозвучал выстрел. Глухо, вдалеке.
Я плакал, уткнувшись в подушку. Я никогда не плакал до этого.
«Но ведь он преступник, – я пытался убедить самого себя, – он мог убить моего отца. Отец тоже был молод, как он сейчас, тоже мог жить и жить. А я рос бы дома. Я бы не воровал».
Но слёзы предательски текли. Я всхлипывал, задыхаясь от невыносимой боли в груди. Только под утро я смог уснуть.
Глава 5. Первый срок
Он часто мне снился потом – сероглазый белогвардеец Алексей, с молодым лицом и седыми висками.
Я снова взял «Войну и мир», стараясь читать французский текст, не подглядывая в перевод. Книжек с текстом на немецком в тюрьме не было, поэтому я учил то немногое, что успел записать для меня Алексей. Языки мне давались плохо. Ботаника и астрология были немного проще. А история Древнего Рима абсолютно непонятна. И всё же я читал и учил наизусть прочитанное.
Конечно, кроме книг у меня были и другие «дела». Мы не были трудовым лагерем, а всё же вытачивали пряжки для ремней, которые изготавливали в соседней женской колонии. Нормы у нас не было. Можно было возиться хоть с одной-единственной пряжкой целый день. А мне определили дополнительное задание – следить за работой оборудования. Всё дело в том, что я был чуть ли не единственный с образованием, и поэтому именно мне приходилось ремонтировать в случае поломки. А они случались часто: отпетые уголовники наглым образом вредили, чтобы не работать.
Осенью убирали со двора опавшие листья, зимой – снег, весной и летом ухаживали за клумбой с цветами. Их посадили, чтобы воспитывать в нас тягу к красоте, как объясняли надзиратели. Делали и другую грязную работу, например, белили кабинеты работников тюрьмы.
Были у нас часовые прогулки, трёхразовое питание, но еду было совершенно невозможно есть. Была и баня раз в неделю.
И всё это делалось под конвоем.
Прошла моя первая тюремная осень. В начале декабря ко мне «подселили» двоих: Лешего и Горбуна. Их имён я так никогда и не узнал. А приведший их «гражданин начальник», как назвал его Леший, обозначил моих новых соседей, как Прохоренко и Кутепова, соответственно. Они были неприятного вида: грязь впиталась в их волосы и кожу, от них воняло, как от помойки. Говорили они на жаргоне, сплёвывали прямо в камере. У Лешего это была уже третья ходка, как он выразился, а у его «ученика» – вторая. Промышляли они в лесу: Леший-Прохоренко заводил в назначенное место заблудившихся грибников, выдавая себя за местного лесничего, там их ждал Горбун-Кутепов, оглушал грибников ударом дубинки по голове. У пострадавших забирали всё, что можно было утащить, даже грибы. Но однажды Кутепов, который был горбуном не только по прозвищу, но и по природе, не рассчитал свои силы и не оглушил, а убил.
– Вот и впаяли срок: мне – восемь, горбуну – десятку, – Прохоренко закончил рассказ.
Глядя на этих двоих, я отчётливо осознал, что воровать не хочу ни за что и никогда. Я испугался, что опущусь до их уровня или даже ниже.
Шли дни. Я постоянно читал, чем вызывал гогот у сокамерников. Горбун оголял свой наполовину беззубый, а на другую половину сгнивший рот. Из-за проблем с зубами он плохо говорил, а чаще мычал.
– Что ты там всё бормочешь себе под нос? – как-то спросил у меня Леший, – никак ты молитву читать удумал?
– Я книгу читаю, – ответил я, не уточнив, что прочитанное учу и пересказываю сам себе, и оттого бормочу.
– Врёшь! – взревел Леший, – ты тихо читаешь, а сейчас бормочешь! Сейчас научу тебя, как врать старшим!
И отвесил мне оплеуху. Я стерпел. Как терпел и потом.
Принесли мне как-то «Капитал» Карла Маркса. Увесистая книжка – ничего не скажешь. Я не просил именно её, но почему-то принесли.
– Убить нас вздумал?! – завопил Леший, – гражданин начальник! Гражданин начальник! Убивают! Убивают!
Прибежал растерянный конвой. К тому времени я сидел уже десять месяцев, и нареканий на меня не было. Всё же увели в «одиночку» на две недели, посадив на хлеб и воду. Я не работал, не гулял, не ходил в баню, а только читал и учил прочитанное.
Две недели кончились, меня повели назад.
Через несколько дней Леший затеял со мной драку. И опять начал кричать:
– Убивают!
Меня – опять в одиночку на две недели. Я был абсолютно один. И стопка книг.
Как-то спросил у меня конвоир:
– Ты сел в тюрьму, чтобы книжки читать?
Метался я из своей камеры в «одиночку» до середины лета. А однажды привели меня в мою камеру, а там – никого. Я удивился этому, но в душе был рад.
– А где эти? – спросил я у конвоира, махнув головой в сторону камеры.
– Так расстреляли их на днях.
– За что?
– Они побег устроили. Решётку на окне спилили, гады. Мы новую поставили, крепкую, – сказал он и потряс кулаком. И ушёл.
«Мешал я им, значит», – подумал я и вздохнул с облегчением. Не жаль мне их было.
Я снова был один, но недолго. Через неделю «поселили» врача по имени Вениамин Ильич – старенького, седого, с заострённой бородкой, мелкими, но добрыми глазами, глядящими на мир через призму очков. Он делал подпольные аборты. Делал успешно: пациентки оставались здоровыми, могли беременеть вновь, если хотели. Но об этом узнал один большой партийный деятель, когда его семнадцатилетняя дочь призналась об аборте. Два года дали Вениамину Ильичу, памятуя прошлые заслуги и научную деятельность. Да и просто сжалились над старостью. К тому же о других абортах информации выявлено не было. Кто ж пойдёт в этом признаваться?
Я обрадовался такому удачному соседству. Я был молод, горяч и тянулся к знаниям. И немолодой врач не отказал мне.
Я с новым рвением начал обучаться иностранным языкам. К немецкому и французскому прибавилась латынь. Она тоже давалась мне тяжело, но я зубрил и в конце концов за те два года неплохо её освоил.
И снова я учился оказывать первую медицинскую помощь.
– С насморком прожить можно, голубчик, хоть и затруднительно, конечно, бывают осложнения, но я не об этом, – говорил Вениамин Ильич. – Другое дело – глубокое ранение, скажем, от капкана. Если вовремя кровь не остановить, долго можно не протянуть.
В тюрьме я начал писать стихи. Безграмотные и нескладные. Но врач меня подбадривал, говорил, что не всегда всё удаётся сразу.
За весь срок, что я отсидел, мне встречались разные люди. Были и запутавшиеся, как я, мальчишки, и ярые уголовники, проповедовавшие воровской закон, и мелкие жулики. Но чем ближе было моё освобождение, тем интеллигентнее становились заключённые. Среди них были актёры, композиторы, режиссёры. И были они «политическими». Моя судьба была похожа на судьбы их всех лишь этой камерой.
Так прошли шесть лет моей жизни. Долгие, мрачные, сырые, с запахом гнили, смрада и пионов.
Глава 6. С чистого листа
Долгожданный вкус свободы! Я шёл без конвоя по летним улочкам моего родного края, шёл медленно, вдыхал аромат цветущих садов.
У меня не было ровным счётом ничего. В нагрудном кармане рубахи, той самой, в которой меня увезли в колонию, и которая мне стала изрядно мала, лежали новенький паспорт на моё имя, двенадцать червонцев – по два червонца за каждый год работы в тюрьме – и справка о том, что я, такой-то, такой-то, с 1 июля 1931 года по 1 июля 1937 года отбывал наказание в указанном месте за разбой.
Первым делом я отправился на рынок. Купил рубаху, брюки и туфли. Все вещи были поношенные, но в отличном состоянии. Я сразу переоделся в купленное, а всё, что снял с себя, тут же продал.
Затем я отправился в своё училище, чтобы забрать диплом. Выдали мне его с брезгливостью и хамством.
Далее мой путь лежал в райцентр. Я был согласен на абсолютно любую работу, даже несмотря на то, что у меня было образование.
Тучный лысый мужчина с красным лицом и глубокой морщиной на лбу внимательно рассматривал мой паспорт и диплом.
– Позвольте узнать, а где вы работали шесть лет? – наконец спросил он.
– Нигде, – честно ответил я.
– Как это «нигде»? Чем же вы занимались? Тунеядствовали?
Я нехотя достал справку об освобождении.
– Вон! – закричал мужчина и указал на дверь.
– Не прогоняйте! Умоляю! – взмолился я, – я всё осознал! Я исправился! Работать хочу! Во благо нашей Родины, во благо общества! Я многое умею. Даже языки знаю: французский, немецкий и латынь.
– И где же вы языкам обучались? – спросил он с усмешкой, глядя на мой диплом, – уж не в тюрьме ли?
– Да, там.
– Что я могу сказать: работники-языковеды мне ни к чему. Прощайте!
– Возьмите меня к себе, пожалуйста!
– А как я буду смотреть в глаза подчинённым, когда представлю им уголовника – нашего будущего работника? Да и кем, кем я вас возьму? У вас совершенно нет опыта работы.
– Хоть пастухом! Овцам и козам не надо объяснять, что я сидел в тюрьме.
– Им и языки ваши без надобности. Вот что, Сергей Николаевич, – сказал мужчина, ещё раз взглянув в паспорт, и запнулся.
– Да, да, – с надеждой произнёс я.
Мужчина о чём-то напряжённо думал. Смотрел то в паспорт, то на меня. Так продолжалось несколько минут, а я весь вытянулся от напряжения, будто вырос. Наконец он нарушил молчание:
