Контуры философии социальных инфекций: эвтанизация, биочипизация бесплатное чтение
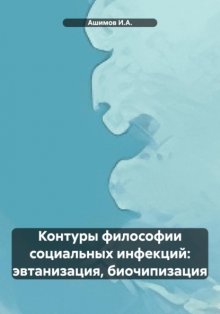
Обоснование необходимости издания
трилогии «Философия социальных инфекций»
Как известно, история всегда демонстрировало постоянное продвижение развития человечества в сторону улучшения. Сменяя друг друга, цивилизации оставляли свое неповторимые наследия во всех сферах деятельности, которые становились фундаментом для дальнейшего развития человечества. Сможет ли нынешний социум, в сравнении с прошлыми выступить гарантом прогрессивного развития цивилизации? Дело в том, что великое множеством социальных болезней, которыми человечество сейчас болеет, оставляет ему немного шансов для такого прогрессивного развития. Социальные болезни – это объективные, наблюдаемые и распознаваемые по внешним признакам социально доминированные явления, отражающие дисфункциональное состояние общественных элементов или всего общества в целом. В свое время К.Ясперс писал: «Нельзя постичь природу общества и сопутствующих ему недугов без рассмотрения их сквозь призму существующей в то время исторической изменчивости и обусловленности». Нужно отметить, что одним из авторов специальных исследований по установлению сходства и различия между биологическими и социальными болезнями является И.В.Рывкин (2011). Он утверждает, что социальные болезни – это не только болезни тела (туберкулез, сифилис, гонорея, алкоголизм, наркомания и пр.), но и дефекты общественных отношений (аморализм, авторитаризм, коррупция, криминализм, национализм, геноцид и пр.). «Социальные болезни российского общества – это результат дефектов управления страной», – категорично заявляет он, полагая, что социальные болезни общества и его социальные проблемы – это одно и то же. Такие явления как деполитизация, дегражданизация, ослабление нравственности, рост гражданских правонарушений, ксенофобии, национальной нетерпимости, отчуждения населения от актуальных проблем страны – вот те социальные болезни, составляющие «социальный рельеф» российского общества переходного периода», – пишет автор.
Какова же современная специфика и структура? Структура социальных болезней выглядит несколько иной, но, однозначно, по степени охвата населения более масштабны и глубоки, начиная от психологических и социально-экономических (ослабление роли семьи, школы, государства; алкоголизма и наркомании; равнодушия общества к ситуации в стране; нарастания преступности и правонарушений и пр.) до сугубо политических (неэффективность управления страной; некомпетентность власти; доминирование групповых интересов; кризис лидерства; дефицит мыслящих политиков и пр.). Автор считает, что общество должно осознать опасности и последствия социальных болезней, что нужно осмыслить суть этих болезней – диагнозы, локализации, причины, масштабы распространения, пути оздоровления, то есть аналогично практики медицинской инфекции. Произошли кардинальные изменения в мировой структуре социальных болезней, обусловленные эпохой гипертехнократического развития человечества: глобализация, экстропия, техногнозис, постмодернизм, тотальное переформатирование мира. Появились характерные для них глобальные социальные болезни, которых отличает заразительность: цифровизация, автоматизация, алгоритмизация, кибернетизация, информатизация, биочипизация, виртуализация, роботизация, киборгизация, аватаризация, эвтанизация, деперсонализация, дереализация и пр. Под влиянием этих недугов, проявляемых также как и биологические инфекции, в виде вспышки, эндемии, эпидемии, пандемии, социальные структуры и человеческое общество во всем мире подверглись переплавке и мутируют практически на каждом шагу. В этой связи, полагаем, что классификация И.В.Рывкина (2011), наряду с психологическими, политическими, экономическими социальными болезнями, должна быть дополнена технократическими социальными инфекциями: цифровизация, автоматизация, алгоритмизация, кибернетизация, информатизация, биочипизация, виртуализация, роботизация, киборгизация, аватаризация, эвтанизация, деперсонализация, дереализация. Причем, каждую из них можно трактовать как социальные инфекции с потенциалами либо эндемии, либо эпидемии, либо пандемии. Нужно понимание того, что социальная инфекция в социокультурном аспекте – это, прежде всего, моральное потрясение, социальная драма и трагедия, зло и несправедливость. Вот почему необходимо философское осмысление их как в ракурсе социальных инфекций (эндемия, эпидемия, пандемия), так и в ракурсе социального исключения человека и духовной реинтеграции человеческого сообщества.
Приступая к серии изданий под названием «Философия социальных инфекций», в предметное поле философии мы внесли вышеуказанные болезни в порядке уже опасных социальных инфекций, в силу не столько того, что они, несомненно, обладают потенциалом быстрого распространения по всему миру, но и в силу серьезных последствий в виде переформатирования сознания человека, трансформация его сути. На сегодняшний день завершена трилогия: «Философия социальных инфекций: кибернетизация, виртуализация» (I том); «Философия социальных инфекций: эвтанизация, биочипизация» (II том); «Философия социальных инфекций: «роботизация, деперсонализация» (III том), которую выносим на суд читателей. Подчеркиваем, что в этих трудах рассмотрены шесть социальных инфекций технократического и социально-психологического характера: во-первых, кибернетизация и виртуализация; во-вторых, эвтанизация и биочипизация; в-третьих, роботизация и деперсонализация. Что значит технократическая парадигма? Это одна из трех парадигм компьютерной науки, утверждающая зависимость общества от способности технологий решать все проблемы. Также подчеркиваем, что, мы, будучи учеными и специалистами в области медицины (хирургия) и здравоохранения, а уже потом специалистами в сфере гуманитарных наук (философия, социология, психология), нам было интересно провести некоторую параллель между медицинскими и социальными болезнями при изложении специфики вышеуказанных социальных инфекций. В этом аспекте, вышеуказанные социальные инфекции с эндемическим, эпидемическим или пандемическим потенциалами являются, по сути, продуктом этой тенденции, а потому мы акцентировали свое исследовательское внимание именно на них, будучи уверенными в том, что в будущем каждой социальной инфекции вышеприведенного характера логически правильно будет придать уникальную конфигурацию социальных характеристик. Лишь после того, как они названы и приняты, эти заболевания становятся акторами сложной системы общественных, научно-исследовательских, культурологических взаимодействий. Восприятие вышеприведенных социальных болезней в форме инфекции не только определяется контекстом, но и определяет его, а потому только после установления философского смысла этих инфекций можно говорить о вероятной регуляции их институциональными программами, социально-психологическими, политико-экономическими мерами.
Сама по себе идея о научном исследовании тех или иных современных социальных инфекций, проведение анализа их по лекалам медицинских инфекций, усилилась после ковидной пандемии, когда почти каждый разумный человек на планеты, возможно, на себя и на своем опыте ощутил, что значит пандемия опасной инфекции, что значит инфекционный и пандемический процессы. На таком фоне писать и говорить о социальных инфекциях по аналогии со вспышками медико-биологических инфекций либо в виде эндемии, эпидемии или пандемии стало проще, ибо, люди уже в той или иной степени все же понимают суть заразной патологии. Речь идет о следующих понятиях: во-первых, понятия «возбудитель – переносчик», «источники – механизмы – пути заражения» (этиология, патогенез); во-вторых, понятия «контагиозность – вирулентность» (морфогенез); в-третьих, «вспышка – ремиссия – реконваленсция – реинфекция»); в-четвертых, «мониторинг распространения – изоляция – карантинизация – вакцинация». По сути, некоторые из вышеперечисленных социальных инфекций, в частности кибернетизация и виртуализация, по вышеприведенным признакам – это тот же «ковид», но в новой, так называемой технократической фармации, а социальные инфекции в виде эвтанизации и биочипизации – это пока эндемические инфекции, имеющие социально-психологический характер. Что касается социальных инфекций в виде роботизации и депресонализации, то они имеют, соответственно, технократический и социальный характеры, но уже с потенциалом эпидемического распространения.
Итак, люди на нашей планете сейчас не только знают и понимают, что значит на самом деле биологический инфекционный и эпидемический процессы, в чем заключается причины и механизмы заражения, а также особенности вспышки, но и осознали, что в случаях невозможности отграничить ареалы заразы возникает вероятность манифестации социальной инфекции в виде эндемии, эпидемии или даже пандемии, а также осознают возможности тех или иных превентивных мер. Однако, большинство людей совершенно не осведомлены о специфике социальных инфекций, возможно, задаваясь как можно трактовать цифровизацию (искусственный интеллект, генеративная нейросеть), автоматизацию, алгоритмизацию, кибернетизацию, информатизацию, биочипизацию, виртуализацию, роботизацию, киборгизацию, аватаризацию, эвтанизацию, деперсонализацию, дереализацию как разновидностей социальной инфекции. В этой связи, мы надеемся на то, что наше объяснение всей цепочки развития и проявления тех или иных социальных инфекций, преимущественно технократического характера, а также их последствий, по аналогии их представлений о биологическом инфекционном и эпидемическом процессах на примере недавней ковидной пандемии, для людей будет более понятным, доступным.
Нужно понимать, что такие социальные инфекции современности, как тотальная цифровизация, кибернетизация, виртуализация, аватаризация, биочипизация, роботизация, имеющие явный потенциал перерастании в социальную эпидемию и пандемию, а также такие социальные инфекции, как эвтанизация, деперсонализация, имеющие потенциал перерастания в социальную эндемию требуют философского осмысления, так как они обладают особой сущностью, во-первых, ведут к дереализации мира и деперсонализации человека; во-вторых, к глобальной и негативной перезагрузке стратегий и трендов развития всех сфер деятельности человека; в-третьих, к негативной трансформации самой сути человека и человеческой цивилизации. Между тем, масштабы их распространения в виде эндемии, эпидемии и пандемии подчеркивают необходимость объективного раскрытия их сущности, осмысления механизмов их «заражения» и распространения и, на этой основе выработать общую стратегию адаптации человека и общества к таким социальным инфекциям, а также выстроить более надежную борьбу за человека и человечества в целом. Кто знает, может быть самым целесообразным приемом, возможно, станет всемерное способствование человека встроится в сеть разума и виртуального света. Ведь привычного для банальной инфекции выработка естественного иммунитета, в том числе путем применения методов вакцинации для социальных болезней неочевидна. Кто знает, насколько в такой ситуации сыграет роль достаточный уровень научно-мировоззренческой культуры не только каждого индивида, но и всего человеческого сообщества, как своеобразная вакцина для выработки должного иммунитета против социальных инфекций. Однозначно то, что в настоящее время социальные инфекции в форме эндемии, эпидемии и пандемии, представляют собой фундаментальную сущностную проблему, разрешение которых кроется в предметном поле философии.
Введение
Следует заметить, что в условиях глобализма, технократии и экстропии, на фоне общего упадка нравственности и морали появились ряд специфических социальных инфекций. К таким социальным инфекциям можно отнести эвтанизацию, деэтизацию феномена «смерти мозга», танатотерпаии, биочипизацию, биоинформатизация, видеонадзор, биометрия, биопаспортизация, создание предпосылок к электронной биовласти, которые могут осложнить мироощущение людей нашей планеты, привести человеческое сообщество не только к деперсонализации мира, но и к капитальной трансформацией человека и человеческого сообщества. Эвтанизация – это практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимыми заболеваниями, испытывающего невыносимыми страданиями, это предпочтение немедленной добровольной смерти продолжительным страданиям, практикуемым в обществе среди тяжелобольных, беспомощных страданиях, это реализация права человека на смерть. Нужно отметить, что в современном эсхатологическом и кризисном мире концепт эвтанизации сильно искажается. Биочипизация – это технология чипирования людей с подключением их к Всемирной сети и возможность обретения персонального помощника – искусственного интеллекта без осмысления возможности экспансии последнего и возможности самостоятельного принятия жизнеутверждающих решений. Мы условно обобщили эти социальные инфекции в явления «эвтанизация» (унификация смертообеспечения, деэтизация феномена «смерть мозга», допуск концепции танатотерапии) и «биочипизация» (биоинформатизация, видеонадзор, тотальный биометрия, биопаспортизация, создание предпосылок к электронной биовласти). Важно осознать, что указанные категории социальных инфекций при соответствующих условиях имеют явный потенциал социальной эндемии, перерастающий в социальную эпидемию. Что означает термин «социальные действия»? Социальные действия – это определенная система поступков, средств и методов, используя которые, индивид или социальные группы стремятся изменить поведение, взгляды, мнения и суждения других индивидов или социальных групп. Действия по смертообеспечению входят именно в такую категорию общественного содействия. Своеобразными «возбудителями» таких инфекций как эвтанизация и бичипизации являются не только взгляды, мнения, идеи, эмоции, поведения, но и социальные феномены, обладающие свойствами «повторяемости, массовости, типичности, общественной значимости, социального договора». Речь идет о явлениях, обусловленных не только постмодернистским технократическим развитием человеческого сообщества, но и современной идеологией формирования постмодернистского общества с тенденцией развития мировой экономики в режиме «моносервиса» и «суперсервиса». Можно лишь представить – эвтаназия по заказу как реализация добровольной заявки индивидуума на прекращение жизни, то есть общество исполняет заветы определенной категории людей в режиме, главным образом, «суперсервиса». Важно осознать, что указанные категории социальных инфекций сейчас характеризуются спорадическими вспышками и имеют ареал распространения типа «эндемия». Однако, при соответствующих условиях такая инфекция имеют явный ресурс перерастания в социальную эпидемию. На наш взгляд, указанные феномены (эвтанизация, биочипизация) в своей сумме, возможно рассматривать как двуединую социальную эпидемию, которые в единстве своем заражении, развитии и проявлении могут так же привести к дереализации мира, к глобальной и негативной перезагрузке сознания людей, к трансформации сущности самого человека и человеческой цивилизации. Между тем, до сих пор не очерчены контуры философии социальных эпидемий. А ведь любую эпидемию, будь то биологическая или будь то социальная, следует воспринимать как серьезную драму всего человечества. Причем, не столь важно то, что они обостряют социальное неравенство и несправедливость, сколько вызывают кардинальное расстройство социальной экосистемы, а также переформатирование сути человека и человеческого сообщества. В этом аспекте, эвтанизация, биочипизация, как не крути, являются социальным злом, если учесть непосредственные и отдаленные социальные их последствия.
Монография «Философия социальных инфекций: эвтанизация, биочипизация» посвящена биоэтическим и философским аспектам двух социальных инфекций – эвтанизация и биочипизация, которые вселяют тревогу в душу людей, так как несут с собой опасность деморализации, деэтизации и деперсонализации мира, человека и человеческого сообщества. Здесь также представлены все звенья заразного процесса: «зараза – прилипчивость – объединители – обстоятельства». Если заразой является не только идея добровольного смертообеспечения, но и идея тотального цифрового контроля над человеческим сообществом. Прилипчивость этого вида заразы подразумевает иллюзию легкой смерти не только для безнадежных тяжелых больных по прогнозу, но и для старых людей, страдающих немощью, а также детей, страдающих от неизлечимых врожденных или приобретенных заболеваний. В роли объединителей выступают огромный корпус специализированных клиник, предназначенных именно для эвтанизации людей и действующих в качестве бизнес-структур, реализующих услуги в режиме «суперсервис». Причем, эти компании на законодательной основе могут оказать услуги по добровольной смерти (юридические, медицинские, экономические) всем, кто желает уйти в мир иной по тем или иным обстоятельствам.
Нужно признать тот факт, что уже давно тема эвтаназии стала одной из самых обсуждаемых, еще в 90-е годы прошлого столетия проблема эвтанизации тяжелых по состоянию больных, признанных безнадежными по прогнозу, включая детей (детская эвтаназия) набрал обороты спор между ее сторонниками и противниками. Несмотря на эти споры и дискуссии, нерешенность многих морально-этических проблем, связанных с эвтанизацией определенной категории людей, признанных безнадежными к продолжению жизни, в странах Европы, а затем стран Индокитая начала распространятся практика не только узаконивания, но и процедуры медицинской эвтанизации. До сих пор вопросы законодательного, юридического, морально-этического и процедурного характера во многом остаются открытым, спорными. В обществе жаркие дискуссии не утихают, потому что не найдено отчетной грани между «за» и «против». Следует ли эвтаназию легализовать или пусть все остается, так как есть?! Наверняка, кто-то боится, что легализация может привести к злоупотреблениям и новым преступлениям. Многим это покажется новым способом обогатится, ведь эвтаназия может и уже развязала руки мошенникам и преступникам. Если правила эвтаназии будут прописаны в законе, каждый случай эвтаназии будет задокументирован, и нарушение правил будет наказуемо. Сейчас же отсутствие правил указывает на отсутствие ответственности за их нарушение. Возникает вопрос: а как бороться с тем, что не установлено законом, но присутствует в реальной жизни? Притворятся, что этого не существует? Или может давать одному и тому же явлению разные названия и обманываться относительно различности последствий и ответственности за это?! Очевидно то, что легализация эвтаназии может привести к переориентации медицины, которая в этом случае превращается в отрасль смертеобеспечения. Так, что принятие смерти как вида медицинского лечения окажется «мощным препятствием на пути медицинского прогресса».
В целом, эвтаназия может стать одним из примеров нравственно-допустимого поведения, проявить себя в виде социальной инфекции с потенциалом перерасти в эндемию, а далее и в эпидемию. С позиции философии основным критерием нравственной допустимости является интегративная ценность действий для всех затронутых ими субъектов всего временного промежутка, для которого они имеют значение. В целом, самым гуманным решением проблемы эвтаназии будет не запрещение или разрешение какой-либо ее формы, а активная борьба против любых проявлений пассивности во всем, что касается человека, активная помощь делу жизни и противостояние смерти. Как известно, общество относится к категории сложных систем. Взаимодействия его составляющих порождают громадную сложность в виде комбинации индивидуальных выборов, социальных ограничений, мотивов, внешних стимулов и пр. Тем не менее, общество имеет возможность добиться консенсуса и выстроить «общественный договор» по любому сложному вопросу. Следует заметить, что при обсуждении таких масштабных проектов, как эвтаназия, «смерть мозга», танатотерапия, биочипизация и пр., несмотря на колоссальные преимущества рассуждений с позиций здравого смысла, совершается ряд ошибок: во-первых, сосредотачиваясь на мотивах, стимулах, убеждениях, которые осознаем непосредственно, не всегда можем правильно спрогнозировать ход событий; во-вторых, взаимодействуя друг с другом, нагромождаем мнения и суждения, создавая неправильную коллективную стратегию; в-третьих, не учитывая опыт прошлого, формируем ошибочное восприятие настоящего, что, в свою очередь, искажает восприятие будущего.
На наш взгляд, эвтанизацию плюс биочипизацию следует рассматривать как двуединую социальную инфекцию, имеющую ресурсы перерасти в социальную эпидемию. В аспекте сказанного выше, во-первых, неопределенность в вопросах эвтаназии, «смерти мозга», танатотерапии, биочипизации, случаются не потому, что мы забываем о здравом смысле, а потому, что потрясающая эффективность здравого смысла в решении повседневных проблем заставляет верить в него больше, чем он того заслуживает при решении масштабных и судьбоносных для человечества вопросов; во-вторых, видеонадзор, биометрия, биочипизация, биопаспортизация направлены на превращение людей в сетевые личности, уже имплантированный биочип может в любое время быть перепрограммирован в соответствии с новыми задачами. Речь идет о тотальной биовласти на базе управляемой эвтанизации. Кто будет управлять новым миром? Кто окажется системным администратором человечества? В целом, так или иначе, здравый смысл препятствует пониманию логики решения важнейших проблем, касающихся миллионов людей. В этой ситуации, нужен системный научный анализ проблем, с помощью которого можно не только «отмотать пленку назад», но и путем тщательной выверки научных данных, выявления и стирания противоречий в теориях, «дойти» до истин с последующим решением соответствующих вопросов. Примером научного решения не менее сложной проблемы, чем эвтаназия, является мировой консенсус в вопросах «смерти мозга». Уверяем, что траектория достижения «общественного договора» в отношении приемлемости понятия «смерть мозга» может послужить аналогом соответствующего решения, как вопросов легализации эвтаназии, так и вопросов тотальной биочипизации населения планеты.
Особенностью наших исследований заключается и в том, что мы пытались использовать принципы эпидемиологии – «Пять W, Epidemiоlogy» – мнемоническое обозначение фундаментальных вопросов эпидемиологии: 1) Что (определение явления, феномена); 2) Кто? (человек, общество); 3) Где? (место, очаг, ареол распространения); 4) Когда? (время вспышки, заражения, распространения); 5) Почему? (причины, факторы, предпосылки, пути передачи). На наш взгляд, они помогут нам запомнить ключевую методологическую информации, необходимую для сравнительного осмысления и оценки результатов. Итак, в нашем случае «Что?» – это «эвтанизация» и «биочипизация» как разновидность глобализирующейся социальной инфекции современности. Именно идеи и соответствующие концепции являются первым звеном эпидемического процесса и составляют суть I фазы – резервации. «Кто?» – это человек, человеческая популяция, которые являются, с одной стороны, потребителями информационно-технологической продукции указанных двуединых социальных инфекций, а с другой стороны, их жертвами. Человек и общество являются вторым звеном эпидемического процесса, именно они представляют собой II фазу – фазу эпидемического преобразования. «Где?» – это место, очаг, ареол распространения «кибернетизации», «виртуализации» в единстве развития. Вначале это пределы отдельного лечебного учреждения, далее пределы одного населенного пункта, области, региона, страны. Они составляют суть III фазы – фазы распространения. Ответы на вопросы «Кто?», «Кто?», «Где?» представляют собой первые оценочные выводы о масштабах распространения вышеуказанных социальных инфекций. Немаловажными являются ответы на вопрос «Когда?», так как они характеризуют тенденцию заражения, темпы распространения, охват населения эпидемическим процессом. Самым сложным, но критически важным является поиск ответов на вопрос «Почему?». Речь идет об установлении причинно-следственной связи (этиопатогенез) и механизмов заражения, распространения социальной инфекции (IV фаза). В целом «Пять W» можно рассматривать как инструмент для сравнительного описания и интерпретации результатов «анализ-синтеза» конкретного вида социальной инфекции.
Многих современных исследователей волнует вопрос компромиссного разрешения проблемы эвтанизации. В первых рядах, разумеется, сами медики, которые страшатся того, что при легализации эвтаназии, они станут клятвопреступниками, так как их обяжут обеспечить смерть практически. Возможно ли такое вообще? Где выход? Как разрешить такую дилемму? Вот почему, современные исследователи переключили свое внимание на поиск компромиссных вариантов реализации смертобеспечения. В эпоху глобализма и экстропии в мире происходит глобальная трансформация человека и социума, обусловленная не только тотальной цифровизацией, кибернетизацией, виртуализацией, аватаризацией, но и тотальной биотехнологизацией. Все эти явления в сумме могут привести к тотальному «растворению» человека в Сети, когда в условиях применением нейросетей, нанотехнологий и киборгизации человек перерождается в буквальном и переносном смыслах в новое сетевое существо – «Сетьмен». К сожалению, этот процесс может привести не только к качественному рывку в жизни общества, но и, наоборот, к отрицательному эффекту – расчеловечиванию людей, к их деморализации, деэтизации. То есть к потере, прежде всего, аксиологичности человеческого сообщества. Человек становится элементом кибернетической системы, и его идентичность (киберидентичность) наполняется смыслами, непосредственно связанными с тем, что мы называем «бытием-в-сети». Именно это, как ни странно, может послужить упрощенному решению проблемы эвтанизации.
Нужно отметить, что идейной основой книги «Философия социальных эпидемий» являются научно-фантастические романы И.А.Ашимова: «Биовлом» (2018), «Смерть! Прошу не опоздай!» (2023), «Как умирать? По старинке или по новому? (2024). Хотелось бы подчеркнуть, что они одновременно служат формой аргументации идеи, в качестве литературного нарратива для последующего установления самого «философского факта» и его «анализ-синтеза». В этом аспекте, как авторы выступаем одновременно в двух ипостасях – как ученые и как писатели. В ипостаси ученых выносим на суд свое понимание философских аспектов социальных пандемий – кибернетизация, виртуализация. При этом вполне допускам, что читатель после прочтения скажет о том, что книга написана «двумя голосами» (писатель плюс философ) и между ними общение получилось слабым или даже неадекватным. В этой связи, призываем читателей обсуждать в основном саму идею и проблемное содержание жанра, а не допущенные огрехи словесных формул. Самый предвзятый читатель убедится в том, что нами все же использован в той или иной мере адекватный риторический прием: обобщить сказанное авторами, сопроводить их цитаты, как ссылкой, так и своим авторским текстом, представляющим уже собственную позицию и точку зрения, а также привести определенные доводы в их пользу. В процессе написания книги не раз и не два задумывались, что выражение плохо продуманных субъективных мыслей – не самая страшная ошибка. Ошибка, когда из формулы «я говорю / они говорят» выпадает именно вторая часть. Это к тому, что мы не стали приводить обширный список использованных литературных источников и мало ссылаемся на авторов, за что приносим свои извинения в их адрес. Возможно, наш текст читается и понимается нелегко, ведь книга отличается от других тем, что в ней нет бытовой приземленности, а посвящены она непростой идее – осмыслить известные социальные явления и тенденции как своего рода социальных эпидемий или пандемии, аналогично медицинским инфекциям таких же форматов заразности и распространения. Признаться, нам это было проще, потому, что мы является, прежде всего, медиками, а потом уже философами, социологами и психологами. А с другой стороны, мы полагаемся на то, что большинство людей, испытавшие сложности ковидной пандемии и постпандемии хорошо осведомлены о специфике эпидемического и пандемического процесса. Весь текст – это попытка прислушаться и понять позицию тех, кто мыслить так или иначе. Такой подход, как нам кажется, помогает читателям понять не только то, что побудило нас поднять эту тему, но и то, что мы вносим на рассмотрение широкого круга читателей и специалистов соответствующего профиля.
В романе «Биозвлом» (2018) словами одного из персонажей – Усена Темирова – профессора, признанного научного метра в области новой научной специальности «Биокибернетика» говорится: – «… до недавней поры все живое в природе, в том числе и мир человеческий, подчинялась законам эволюции. Все, что происходит с живыми, а это касается и растений, и животных, и людей – это непрерывный процесс развития, единственной целью, которой, является шлифовка биологического кода из поколения в поколение. Каждая жизнь заканчивалась закономерной смертью. Иногда смерть затягивалась. Это понимали все. Но иногда появляются среди людей единицы, которые вдруг в силу каких-то причин осознают, что старость и смерть можно отодвинуть. Нет. Не избежать, а лишь отодвинуть, а в случае, когда смерть затягивается, например, при тяжелой неизлечимой болезни, наоборот, смерть могут приблизить, сделать легкой. Одних это пугает, и они после таких проблесков стараются забыть, отрешится от таких технологий. Их абсолютное большинство. Другие, а их единицы, пытаются искать новые технологические возможности. Так вот, профессор Митин и его ученик Серегин – эти личности именно такой марки…». Между тем, другой персонаж – профессор Серегин рассуждает о сверхтехнологиях: «…что от них ожидать? У суперинтеллекта пока нет собственной головы. Есть головы у тех, кто занимается его созданием. Так и у нас – гомеорегулятор создают люди, и параметры для них также выбирают люди. А если такой параметр будет задавать специалист, у которого интеллект среднего ученого на уровне магистра? Однако, к сожалению, искусственный интеллект будет создан. Ведь создан биочиповый гомеорегулятор. Но неужели не понимают, что они играют с огнем?».
В данном случае речь то идет не о возможностях новых и сверхновых технологий во благо человечества, а, наоборот, о глобальной угрозе, о выживаемости человечества. То, что программисты наперебой заверяют, что их программы имеют четкие грани послушания и подчинения – все это несерьезно. Никогда не следует забывать о том, что другие программисты обязательно разработают контрпрограммы непослушания и неподчинения. На наш взгляд, любые запреты рано или поздно устранятся, хотя не сами по себе, а в силу различных причин. В одном случае это просто дурацкое человеческое любопытство, а в другом – умышленное злодейство. Вся история и философия науки учит, что все запретные технологии обязательно будет применены, несмотря ни на что. Надо продвигаться, искать новые горизонты, а без устремлений прогресса, как известно, не будет.
В данной монографии мы поставили перед собой несколько задач: во-первых, подчеркнуть степень акцентуирования социальных эпидемий в предметном поле философии на базе аналитического обзора психологических, политических, экономических и технократических социальных эпидемий, отражающихся на морально-этической характеристике человека и человеческого сообщества (Глава I); во-вторых, осветить биоэтические, технократические парадигмы и философские аспекты эвтанизации как социальной инфекции (Глава II); в-третьих, осветить биоэтические, технократические парадигмы и философские аспекты биочипизации населения как социальной инфекции (Глава III). Полагаем, что результаты наших исследований будут способствовать формированию контуров философии социальных эпидемий – эвтанизации и биочипизации. Зрелая философия позволит уже рационально решить проблемы, возникшие на пути общественного развития, предвидеть будущее общество на основе понимания современных социальных контекстов. Важно понимание того, что остановить эпидемию эвтанизации и биочипизации представляет собой неимоверно трудную задачу, ведь они продукт глобализационного социально-гуманитарного и технологического кризиса. Следовательно, нужно принять меры по адаптации человечества к последствиям таких эпидемий, найти компромиссное решение не только в разрешении путей эвтанизации, но и возможных противодействий против установления тотальной кибернетической биовласти на планет.
Глава I.
Аналитический обзор социальных инфекций,
имеющих потенциал эндемии и их проблемы
в проблемном поле философии
Социальным заражением называется распространение взглядов, мнений, идей, эмоций, моделей поведения и пр. в обществе. Оно обладает схожей динамикой вне зависимости от контекста, будь то, например, политическая ориентация, медицинская практика или альтруизм. Несмотря на важность этого феномена, его конкретные механизмы изучены недостаточно. К примеру, немецкие ученые провели эксперименты по изучению механизмов феномена социального заражения. Выяснилось, что оно практически не распространяется дальше цепочки из трех человек и сильно зависит от степени искажения информации и переоценки чужих ошибок. Выяснилось, что суждения первого участника редко распространяются дальше, чем до третьего члена цепи. Следовательно, для того, чтобы то или иное явление приобрел статус эпидемии нужны особые механизмы, аналогичные в медицинской практике – высокая вирулентность «возбудителя», его высокая «контагиозность» (заразительность), благоприятные условия – скученность людей (охват общества) и обстоятельства заражения – «слабый иммунитет человека». Так-вот, для распространения социальной инфекции необходима высокая точность суждений первого участника, внимательная работа всех членов социальной цепи («объединитель»), ее стабильность при повторных выполнениях задачи. При соответствующих условиях распространения суждений по этой цепи растет экспоненциально с каждым участником. Ученые выявили два основных фактора, от которых зависела как скорость, так и дистанция распространения суждений: во-первых, степень прогрессивного искажения этих суждений при передаче, снижающее их ценность; во-вторых, переоценка ошибок других членов цепи («эгоцентрическое обесценивание») – феномен, состоящий в том, что каждая ошибка требует нескольких правильных действий для восстановления репутации.
Социальные эпидемии обладают схожей динамикой заражения и распространения вне зависимости от контекста – алкоголизация населения, наркологизация и инфантилизация молодежи, политический плюрализм или авторитаризм, которых также следует рассматривать как нечто внешнее по отношению к человеческому обществу. Разновидностями социальной инфекции являются альтруизм, агрессивность, конфликтность, конформизм, манипулятивность. Современные «социальные сети», их платформы являются эффективным средством передачи так называемых «социальных инфекций». Те или иные инфекции преподносились широкой массе людей как мода, обычай или поветрие, Вот-так миллионы людей в одночасье заражаясь этой инфекцией, перенимают их, «заболевают» и передают болезнь другим людям. Доказано, что обширные, но «безличные» сети приспособлены для передачи норм привычек и поведения огромной массе людей. Начинаясь как вспышка, далее создает ситуацию эндемии, эпидемии и пандемии.
Приступая к обзору социальных инфекций разного характера, но имеющих потенциал эндемического распространения нужно отметит, что в настоящее время, в эпоху глобализма и экстропии люди стали более агрессивными, более токсичными. Агрессия или агрессивность – это мотивированное нападение, приносящее физический, моральный ущерб людям. То тут, то там возникают участки конфликта и агрессии. Они заразительны. Если безусловными ареалами такой заразы была криминальная среда, то она иногда охватывает более значительные области и регионы. Само по себе термин «криминальная агрессия» обозначает «поведение, нацеленное на умышленное причинение физического и морального вреда другому живому существу. По сути, агрессия – это инструмент доминирования и психической саморегуляции. В этом аспекте, агрессия – это не свойство, а явление, реализованное в специфическом поведении, в том числе мотивировано намерением причинить вред кому-то другому. Между тем, это и эмоция – открытый антагонизм, недружелюбия, неприязненного отношения, ненависти. Как политическая социальная инфекция, агрессия представляет собой целенаправленное разрушительное, наступательное поведение, нарушающее нормы и правила сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевлённым и неодушевлённым), причиняющее физический ущерб людям и вызывающее у них психический дискомфорт, отрицательные переживания состояния страха, напряжённости, подавленности. Выделяют следующие группы факторов: во-первых, субъективные (внутриличностными, характеризующими психологическую деятельность агрессора); во-вторых, объективными (характеризующими степень разрушения объекта и причинения ему вреда); в-третьих, социально-нормативными, оценочными факторами, такими как морально-этические нормы или уголовный кодекс. Согласно трактовки сутью агрессии является в криминалитете «драйв насилия и принуждения», в обществе «естественный рефлекс человека», в критических ситуациях «как следствие фрустрации». В рамках интеракционизма агрессия рассматривается как следствие объективного конфликта интересов, несовместимости целей отдельных личностей и социальных групп. А.Басс и А.Дарки выделяют следующие пять видов агрессии: во-первых, физическая агрессия (физические действия против кого-либо); во-вторых, раздражение (вспыльчивость, грубость); в-третьих, вербальная агрессия (угрозы, крики, ругань); в-четвертых, косвенная агрессия (сплетни, злобные шутки); в-пятых, ненаправленная (крики в толпе, топанье, освистания). Агрессивность носит различный характер, отличается разной степенью распространения. По сути, все «горячие точки» в мировом пространстве являются ареалами агрессии, откуда эта зараза распространяется дальше. Все ширится такой вид агрессивности, как школьный буллинг – социальное явление, определяемое как притеснение, дискриминация, травля. Как известно, мотивацией к буллингу могут выступать зависть, месть, чувство неприязни, восстановление справедливости, борьба за власть, подчинение лидеру, нейтрализация соперника, самоутверждение и др., вплоть до удовлетворения садистических потребностей отдельных личностей. Как показывает анализ, формы школьного буллинга могут быть различными: систематические насмешки, в основе которых может лежать что угодно – от национальности до внешних данных ребенка, вымогательство, физические и психические унижения, различного вида издевательства, байкот и игнорирование, порча личных вещей и др. Новейшее «достижение» буллинга – кибербуллинг (использование электронных средств коммуникации). В деле профилактики жестокости, агрессивности, буллинга оправдана: во-первых, тактика запретов и наказаний, которые могут изменить аддиктивное, психопатологическое поведение людей; во-вторых, тренинг социальных умений, который поможет человеку избавиться от агрессивных паттернов поведения, обучиться сдержанности.
Нужно признать, что агрессивность, жестокость, конфликтность также являются социальными инфекциями с потенциалом возникновения то там, то здесь конфликтогенных зон. Конфликтность – это свойство личности, которое отражает частоту ее вступления в межличностные конфликты, а конфликтогенность – это психологическая особенность и нравственное свойство человека, выражающее его склонность к ссорам, склокам, сознательно организующий конфликтные ситуации, распространяя слухи, сплетни, хамство, отличающейся вспыльчивостью, несдержанностью, обидчивостью, мстительностью. Эскалация конфликтогенов (слова, действия, жесты) происходит в прогрессии, человек отвечает более сильным, эмоционально выраженным конфликтогеном, а цепочка их приводит к нарастанию конфликта. В свое время, Ж.Урманбетова писала о том, что одним из видов социальной инфекции является митинги. Как показывают результаты анализа, как правило, митинги инициируются заинтересованными лицами, которые для эффекта привлекают именно конфликтных личностей. Такие личности отличаются эмоциональной неустойчивостью, хорошо приспосабливаются к различным ситуациям, обладают способностью на ходу изобретать конфликтогены. Они, как правило, импульсивны, акцентуированы, прямолинейны, обидчивы и некритичны. Вовремя конфликтах, митингах проявление таких способностей заряжают таких же неустойчивых в своих оценках и мнениях, а потому легко внушаемых людей в водоворот конфликта. История показывает, что во все времена, чтобы получить зону конфликта использовались определенного настроя психологически неустойчивых личностей. Что можно противопоставить разрастанию конфликтной ситуации? – задавался в свое время вождь всех пролетариев – В.И.Ленин. Он в своих речах говорил о воспитании настоящих революционеров – сознательных, вполне конфликтоустойчивых личностей, которые во имя достижения цели оптимально умеют организовать свое поведение в трудных ситуациях социального взаимодействия, бесконфликтно решать возникшие проблемы в отношениях с другими людьми. В этом аспекте, психологическая конфликтоустойчивость включает такие компоненты, как эмоциональный, волевой, познавательный, мотивационный и психомоторный. При этом эмоциональный компонент представляет собой умение управлять своим эмоциями, выступать и действовать без оскорбления личности оппонента, но нисколько не уступая своим задачам. Волевой компонент обеспечивает толерантность, терпимость к чужому мнению, несогласию с другим, самообладание и самоконтроль. Что касается познавательного компонента, то он направлен: во-первых, на анализ причин возникновения конфликта; во-вторых, на умение сводить к минимуму искажение восприятия ситуации; в-третьих, на умение дать объективную оценку конфликта, прогнозировать его развитие и возможные последствия; в-четвертых, на умение быстро принимать правильные решения; в-четвертых, на умение выделять главную проблему конфликта, выдвигать и обосновывать альтернативные решения проблемы; в-пятых, способность к аргументации и цивилизованной полемике в условиях спора. Еще один компонент – мотивационный, направленный на совместный поиск путей разрешения противоречия, устремленность на решение проблемы, возможность корректировки отстаиваемых интересов в зависимости от изменения обстановки и расстановки сил.
Итак, высокий уровень конфликтоустойчивости предполагает, во-первых, психологически грамотные действия и поведение человека в проблемных и предконфликтных ситуациях; во-вторых, оптимизацию взаимодействия с оппонентом в конфликте; в-третьих, недопущение втягивания себя в его эскалацию, сосредоточение усилий на конструктивном разрешении конфликта. В митингах, как правило, имеет место, одновременно, активная и пассивная конфликтность характеризуемые поведение человека, выстроенное на основе поверхностных знаний о сути конфликтных взаимоотношений, с проявлением внешнего локуса контроля, эгоцентрической мотивацией, стремлением к субъектно-личностному результату, сопровождающимся поведенческой активностью, связанная положительными эмоциями, либо поведенческой пассивностью, связанная с отрицательными эмоциями. При противостояниях, стычках, демонстрациях, митингах всегда имеет место конфронтация – противоречие, противоборство, непримиримое противостояние социальных систем, убеждений, интересов. Но нужно помнить, что конфронтация бывает и в других ситуациях. К примеру, глобальные, когда человек вступает в борьбу с естественными (природными) факторами или же межгосударственные, когда интересы двух или большего количества стран противоречат друг другу. Существует этнические конфронтации, когда несколько народностей, живущих в одном государстве, начинают конфликтовать. Есть идеологические конфронтации – разногласия на почве принадлежности к разным религиям, философским школам, политическим течениям. Есть еще межсословные, обусловленные разным уровнем жизни и социальным статусом противоборствующих сторон. Конфронтации есть и внутри семьи и внутри самой личности. Главное правило при возникновении конфликта – не замалчивать проблему, не пытаться от неё бежать. Конфликтная ситуация, которую вовремя не проговорили и не нашли компромисса, грозит перерасти в усугубление конфронтации и нередко – в разрыв любого рода отношений. Избегать конфронтации помогает умение контролировать свои эмоции и понимать эмоции других. В наш неспокойный мир воспитание конфликт устойчивых, стресс устойчивых людей представляется важной задачей современности.
Еще одним из социальных инфекция, способных приобрести черты эпидемии – это ксенофобия – нетерпимость к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному, восприятие чужого как неприятного и опасного. Этот феномен ведёт к исключению из местного сообщества категорий лиц, которые рассматриваются как «чужие», их дискриминации в политике, быту, сфере занятости, образования и социального обеспечения. По своему проявлению она близка к расизму, представляя собой неприязнь к кому-либо чужому из-за его поведения, образа жизни. Как и расизм, ксенофобия противопоставляет категории «мы» и «они», при этом уподобляет биологические особенности («кровь») и этническую культуру, которая также якобы является неизменной и неотъемлемой. Следовательно, смешение культур рассматривается как недопустимое, поскольку якобы дезориентирует, навязывая индивиду разные культурные и поведенческие программы. Представление о «несовместимости культур» ведёт к идее недопустимости смешанных браков. В рамках ксенофобских представлений считается, что «чужие» могут испортить культуру «коренных жителей», в противовес чему необходимо сохранять собственную традиционную этническую культуру, которая рассматривается в качестве более «высокой». Иммигранты подозреваются в стремлении к созданию закрытых анклавов и сепаратизме. У этого феномена много причин биологического (инстинкты) и психологического характера. В плане биологии – это и механизм поддержания идентичности, это и явление этологической изоляции – неприязни к близким видам и подвидам. Ксенофобия могла возникнуть как инструмент адаптации в процессе эволюции, который способствовал выживанию и передаче генов потомкам. Причинами современной ксенофобии являются этнический и религиозный «ренессанс», сопротивление экономической конкуренции, реакция на отчуждение в обществе тотальной коммерциализации, ностальгия по «утраченной общности», стремление к сохранению традиционного этнокультурного облика. На прямых межличностных контактах с представителями меньшинств (этнических, мигрантских, религиозных и др.) сказывается низкий уровень межличностного доверия. Недоверие, основанное на деперсонализации, провоцирует ксенофобию по отношению ко всем членам воображаемого сообщества. При любых вариантах создания «новых солидарностей», потенциальные объекты ксенофобии, включая этнические, мигрантские, религиозные меньшинства, иностранцы воспринимаются как «чужие». Этническая солидарность занимает ошибочно большое место среди иных групповых солидарностей и может коррелировать с гражданской, однако, по мнению социологов, солидаризация в немалой степени основывается на обидах.
В странах Центральной Азии и Кавказа, где авторитеты стариков непоколебимы развит феномен «аксакализма». Само по себе аксакализм рассматривается в аспекте социальной инфекции психологического характера. Как известно, старшему поколению всегда характерно тенденция оценивать прошлые события более позитивно, чем они воспринимались в тот момент, когда на самом деле происходили. В нынешней истории Кыргызстана, где феномен «аксакализма» очень четко наметилась идеализация прошлого, архаизация сознания, что, естественно, не может не отразится в сознании людей, оттягивая их внимание, энергию во имя прошлого. У нас в стране появилась целая каста избранных в виде «дежурных аксакалов» – влиятельные старейшины, агитирующие за ту или иную акцию правительства якобы по своей инициативе. Влияние этих «политических аксакалов» нельзя игнорировать, ибо, согласно менталитета народа они олицетворяют мудрость старшего поколения. Власти очень часто манипулируют ими в качестве символического общественного атрибута. Между тем, этот, по сути, древний номадический институт аксакальства сегодня в стране далеко не декоративное явление, а своеобразная общественная влиятельная сила. В стране функционирует Ассамблея народов, Народный курултай, в составе которых в подавляющем большинстве люди старшего поколения – аксакалы. Не секрет, что таковые представители народов и диаспор фактически лоббируют политические инициативы главы государства. Однако, согласно номадической культуры аксакалов не назначают, аксакалами становятся и они как мудрые старейшины решали государственные проблемы по справедливости, ничего и никого не боясь, смело и решительно. Однако, сейчас «дежурные аксакалы» не осмеливаются ссориться с властями, если они и рискнут так поступить, их постигает политическая изоляция. Они это знают и ведут себя подобающим, соглашательским образом. На третьем Курултае один из аксакалов, обидевшись на неучтивость молодежи заявил: «Нынешняя молодежь не уважает аксакалов, а потому им не следует доверять управление страной». На вопрос корреспондента – почему вы так утверждаете, он ответил так: «Согласно заветам наших предков первыми должны говорить старые, умудренные жизнью люди. А что могут сказать нынешняя молодежь?». Между тем, сейчас молодежь более грамотная, информированная, политически подкованная, разносторонняя, инициативная и прозорливая часть населения страны. У них есть собственное видение перспективы развития общества, они более интегрированы в мировое сообщество, чем старшее поколение, воспитанная на старых традициях и стереотипах. Так или иначе большинство аксакалов близоруки и безынициативны, но отличаются безоговорочной поддержкой любой власти, любой политики, озвучивая идеологические клише и выступая имиджмейкерами власти. Хотя, возможно, иногда и они содрогаются от допускаемого беззаконья, несправедливости, предательства интересов народа и страны. Как такое возможно? А веди им то в деталях известны противоправные деяния политически тяжеловесных ровесников. Разумеется, есть среди аксакалов трезво размышляющие люди, которые выражают справедливые мнения и суждения. Но их мало и погоду в политике они не делают. Однако, они всегда поддерживают патриархальный образ жизни и архаизм, потому, что они им выгоды.
Между тем, опасной для нашего общества является такая социальная инфекция, как архаизм – процесс массового стихийного обращения к архаическому культурному наследию, возникающий в условиях кризиса социальной трансформации. Решение проблемы архаизации обусловливает необходимость социально-философского исследования, основывающегося на решении фундаментальных вопросов соотношения социальных процессов, культурного и человеческого детерминантов истории. По С.Ахиезеру, архаизация – результат следования субъекта культурным программам, которые исторически сложились в пластах культуры, сформировавшихся в более простых условиях и не отвечающих сегодня возрастающей сложности мира, характеру и масштабам опасностей. Исследователи говорят об архаизме как появлении пережитков, рецидивов в ходе эволюции обществ (Э.Тейлор), как попытке вернуться в прошлое (А.Тойнби), как результат действия механизма инверсии, возвращающего опыт догосударственной культурной жизни (А.С.Ахиезер) и пр. Нужно отметить, что подобные «архаизационные тенденции» понимаемый нами как направленность, склонность, стремление индивидов, социальных групп, социума к архаическому социокультурному опыту, приобретают в стране опасные черты, частности, в форме деградации общественной жизни в отдельных регионах и поселениях, функционирование которых было нарушено по разным причинам. К таким территориям можно отнести заброшенные наши анклавы. К примеру, село Зардалы, упрятанную далеко в горах, куда не проложена еще дорога и не проведено электричество, поселок Мин-куш, который остался в середине заброшенных шахт и радиационных отвалов, где раньше добывали урановую руду. Есть целые регионы, в которых до сих пор жизнь людей протекает в архаичном безвременье. Как и всякий социальный процесс, архаизация общества может рассматриваться как социальная развивающаяся система, и соответственно к ней применим системно-генетический подход. С его помощью выделяются сущностные черты процесса. Во-первых, архаизация носит процессуальный характер (взаимовлияние культуры и социальных отношений, актуализация их смыслов). Во-вторых, архаизация представляет собой попытку вернуть старые архаические программы в рамках выживания и развития. В-третьих, архаизация возникает как стихийный, нерефлексируемый процесс, охватывающий значительную часть населения. В-четвертых, архаизация взаимосвязана с наиболее значительным типом социальной трансформации. Доказано, чем более кризисно проходит социальная трансформация, тем большим кризисом это сопровождается и тем сильнее проявляется архаизация. Чем сильнее проявляется архаизация, тем более драматичной разворачивается социальная трансформация. Если архаика в значительной мере сохранилась, то общественный возврат к ней в условиях кризиса социальной трансформации будет масштабным, что существенным образом затруднит прохождение трансформационных процессов, модернизацию.
Субъектом массовой культуры является особая профессиональная группа, которая создает ее артефакты в соответствии с законами социальной психологии и рыночных отношений. Соответственно массовая культура, массовизация представляется нам явлением иного порядка, чем архаизация, которая не проектируется, не создается специально, не имеет специального управления и может захватывать собой в итоге и инициатора реформ в обществе – власть. Такой исход вполне возможен, тем и опасен как социальная инфекция. С другой стороны, причинами архаизации общества могут стать ошибочные кардинальные реформы, инициированные властью с целью модернизации общества и не согласующиеся с культурными традиционными особенностями модернизируемого общества. Итоговым последствием такой социальной инфекции является социальная анархия и соответственно – дезориентация, дезорганизация значительной части общества, которая становится носителем архаизационных тенденций и в конечном счете субъектом архаизации, поскольку вынуждена с целью выживания обратиться к архаическим культурным смыслам и социальным практикам. Субъекты архаизации могут принадлежать ко всем социальным слоям, и общим для них является ориентация на архаику. В структуре феномена архаизации общества выделяются на начальном уровне изменения в состоянии социальных объектов – распространение в обществе определенного социального самочувствия (ощущения разного рода потерь). Следующий уровень – оценка обеспеченности людьми своих базовых потребностей (которые можно рассматривать на основе известной пирамиды потребностей А.Маслоу) и ориентация на действия с их скорейшим удовлетворением, которая осуществляется в условиях социальной анархии и соответственно в форме наиболее простых, эффективных, надежных архаических социальных практик. В общественном сознании распространяются архаические мифы, образы, концепты, смыслы. В современной литературе архаизации часто отводится роль деструктивного процесса, выражающегося в отсутствии резервов общества для решения задач реформирования. Он внешне выступает как противодействие реформам, задачам осовременивания общества. И при определенных условиях может действительно привести к определенному тупику развития. Но архаизация, как и прочие архаизационные тенденции, реализует функцию самосохранения системы в условиях кризиса социальной трансформации. Она диктует необходимость корректировки социального реформирования с целью сохранения социокультурных основ самобытности общества. В процессе архаизации, по сути, заложен потенциал двух типов – деструктивный и конструктивный. Но старое есть старое, как изжитое прошлое. Тем не менее, процессы архаизации четко определяются в жизни ряда стран, в том числе и в центральноазиатском регионе. Как заразный процесс такое явление начинает кочевать из одного народа в другую, приобретая черты эндемии и даже эпидемии.
Крайне опасной социальной инфекцией является особо заразная и особо опасна, по сути, фашизация. Фашизм – это политическая идеология и движение, характеризующееся диктаторским лидером, централизованной автократий, милитаризма, насильственным подавлением оппозиции, верой в естественную социальную иерархию, подчинением индивидуальным интересам предполагаемому благу нации или расы и жесткой регламентацией общества и экономики. Эта разновидность социальной инфекции рассматривает формы насилия, включая политическое и империалистическое насилие и войну, как средства национального возрождения. Фашисты часто выступают за создание тоталитарного однопартийного государства и за рыночную экономику, в которой государство играет сильную директивную роль посредством интервенциионистскую политики, с главной целью достижения автракии – национальной экономической самодостаточности. Крайний авторитаризм и национализм фашизма могут проявляться как вера в некое божественное предначертание или возрождение исторического величия. Несмотря на всю пагубность такой политики, а также опыт сакральных исторических поражений, сопровождающиеся трагедией многих народов, такая социальная инфекция также отличается своей заразительностью. Подобный стиль как политическая эстетика романтического символизма, массовой мобилизации народа под лозунгом «Слава Украине – Украине слава!» характерно для Украины. Культ лидера, обещающего национальное возрождение перед лицом унижений, причиненных той или иной империей обретает популярность в некоторых ультранационалистических государствах, где перед населением ставится дилемма: «Кто не за нас, тот против нас». Народ покупается на эти лозунги и мифы о возрождении нации, о декадансе, о восстановлении исторической справедливости. Вот почему важно выстроить единую мировую стратегию против «фашистской ползучести». Фашистские лидеры часто поддерживают культ личности и стремятся вызвать энтузиазм в отношении режима, сплачивая огромные толпы. Истоки фашизма сложны и включают в себя множество, казалось бы, противоречивых точек зрения, в конечном итоге сосредоточенных на мифе национального возрождения из упадка. Ряд фашистских движений описывают себя как третью позицию за пределами традиционного политического спектра. В этом аспекте, вирулентность такой социальной инфекции, а также ее заразительность вполне очевидны. В мире сторонников фашизации становится все больше. Причем, даже в тех странах, в которых население в наибольшей степени пострадало от немецкого фашизма. Здесь историческая память не срабатывает, а западная идеология всячески пытается исказить суть фашизма и переиначивает последствия этой пандемии.
Одним из важных социальных недугов является, как ни странно, бедность как состояние человека, в котором у него недостаточны условия для физиологического выживания. По мнению многих комментаторов, бедность одновременно является причиной ухудшения состояния окружающей среды, а бедные страдают больше всего от ухудшения состояния окружающей среды, вызванного неосторожной эксплуатацией природных ресурсов богатыми. Такой феномен особенно характерно для нашей страны, где уровень бедности остается достаточно высокой. Бедняки как члены общества постоянно несут бремя бедности, что приводит к формированию автономной субкультуры. Это происходит, потому что дети вырастают в этой среде, и, соответственно, их система поведения и отношений постоянно воспроизводит чувство неспособности выйти из этого самого низкого класса общества. Люди, принадлежащие к культуре бедности, имеют стойкое чувство маргинальности, беспомощности, зависимости и непринадлежности. Они, как чужестранцы в собственной стране, убежденные в том, что существующие институты не удовлетворяют их интересы и потребности. Вместе с чувством, что их интересы не представлены в государственных структурах, широко выражается чувство собственной неполноценности и личной бесполезности с точки зрения общественного блага. Представители культуры бедности очень часто не чувствуют своих корней. Это маргинальные люди, которые знают только свои собственные беды, видят только свои собственные условия проживания, свое окружение и принимают только свой жизненный путь. Обычно у них не хватает знаний, представлений и образа мысли, чтобы заметить сходства между своими проблемами и проблемами тех, кто живет в других уголках мира. Считается, что среди бедных имеет место цикл депривации, когда родители многодетных семей, которым самим не удалось достичь успехов в жизни, не в состоянии привить своим детям ценности и поведение, ориентированные на успех. В результате их дети плохо учились в школе, что в свою очередь не позволяло им материально обеспечить себя и своих детей. И так повторялось из поколения в поколение. В случае, когда реальные доходы всего населения растут, а их распределение не меняется, относительная бедность остаётся прежней. Между тем, без участия таких людей в процессе совершенствования социальной, политической, экономической жизни они остаются наедине со своими проблемами. Причем, такое явление заразительна, умножая число бедных и бесперспективных маргиналов.
Таким образом, концепция относительной бедности является составляющей концепции неравенства. В настоящее время сложилось два направления: во-первых, основной упор делается на средства к существованию, на способность покупать товары, необходимые для удовлетворения основных потребностей; во-вторых, бедность измеряется через лишения в широком смысле этого слова. Измерение уровня бедности может осуществляться также с использованием депривационного подхода. Согласно ему, бедными считаются индивиды, чьё потребление не соответствует принятому в обществе стандарту, у которых нет доступа к определённому набору благ и услуг. То есть при данном подходе бедность определяется не только недостаточным доходом или низким потреблением товаров и услуг первой необходимости, но и низкокачественным питанием, недоступностью услуг образования и здравоохранения, отсутствием нормальных жилищных условий и прочее. Бедность – это состояние, когда индивид не может обеспечивать более-менее приличное существование с учётом сложившихся в обществе социальных норм и общепринятых стандартов. Именно в связи с таким пониманием бедности во многих источниках используют не доходы населения, а потребление. Потому сегодня социологи рассматривают ряд альтернативных определений для бедности, самым распространенным является: неспособность приобрести или иметь доступ к базовой корзине услуг. Список услуг из корзины в Кыргызстане не покрывает, к примеру, бесплатное медицинское обслуживание, высшее образование, ряд социальных услуг.
Одним из социальных инфекций, в противоположность бедности, является олигархизация. Эта болезнь охватила всех представителей мировой элиты. Причинами считается объективная необходимость лидерства в финансовых возможностях людей, стремление их ставить во главу угла свои собственные интересы, доверие толпы к лидерам и общую пассивность масс. Из железного закона олигархии следует, что демократическое управление невозможно в сколько-нибудь крупных сообществах индивидов. Чем больше организация – тем меньше в ней элементов демократии и больше элементов олигархии. В любой бюрократической системе те, кто работает на благо самой бюрократии, всегда захватывают власть, а те, кто выполняет задачи, ради которых бюрократия и существует, делают всё меньше и меньше работы, а иногда и исчезают полностью. Например, в медицине есть врачи, которые работают и жертвуют собой, вылечивая больных, и есть управленцы от медицин либо члены профсоюза, которые проводят политику медицинских систем (управленцы) или защищают права медицинских работников (профсоюз). Железный закон заявляет: люди второго типа всегда захватят в организации власть, и всегда будут писать правила, по которым организация работает. Причем, чем больше по масштабу учреждение или медицинская система в целом, тем могущественнее они становятся. Разумеется, мы далеки от мысли, что в системе медицины и здравоохранения проявится этот феномен. Однако, в других капиталосоздающих сферах каждый богатый человек, непременно имеет замашки стать олигархом, чтобы защищать и преумножать свое богатство, увелчит свой рейтинг в политической системе страны.
Выше говорилось о том, что в условиях глобализма и экстропии, на фоне общего упадка нравственности и морали появились ряд социальных инфекций, имеющих потенциал перерасти в эпидемию. К таким социальным инфекциям можно отнести эвтанизацию, биочипизацию, биотехнологизацию, обуславливающие деморализацию человека и человеческого сообщества, деперсонализацию мира и окружающей действительности. Джером Д. Франк определил состояние деморализации как чувство несостоятельности, переживаемое в ситуации дистресса, описывая его как «этическую тень» тревожной депрессии: во-первых, низкая самооценка; во-вторых, безнадежность, беспомощность; в-третьих, страх, тревога, уныние. Синдром деморализации – это нарушения формирования и развития нравственных чувств и облика, позиции и поведения. Как отмечает П.И.Сорокин (2014) в патогенезе социальных эпидемий важное место занимает аномия нравственно-психологического статуса общественного и индивидуального сознания: во-первых, разложение прежней системы ценностей; во-вторых, противоречия между провозглашаемыми целями и невозможностью их реализации традиционными способами для большинства граждан страны; в-третьих, психологическая изоляция личности от общества и депрессивная разочарованность в жизни. Автор выделяет три главных направлений аномии: во-первых, межличностное – усиление взаимного недоверия, враждебности, соперничества и агрессивности, реакций изоляции, расслоения общества на субкультуры, включая экстремистские организации и секты парарелигиозного толка; во-вторых, культурное – крах прежних культурных ценностей и приоритетов, изменение устоявшихся правил интерпретации событий, возникновение конфликтных систем ценностей, со стояние идентификационной пустоты при отсутствии альтернативы; в-третьих, социальное – дезинтеграция и поляризация общества, кризис доверия к государственным институтам. Автор выделяет следующие блоки синдрома деморализации человеческого общества и дереализации окружающего мира.
Первое. Нарушение формирования и развития духовно-нравственных чувств: задержка и дисгармония формирования основных нравственных чувств: совести и долга, веры и ответственности; нарушения духовного развития; искажение самооценки и непонимание смысла жизни; y неготовность к полноценному индивидуально ответственному поведению; неразвитость нравственного самосознания личности и совести; неразвитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; y моральная безответственность перед семьей и обществом, страной и будущими поколениями.
Второе. Нарушение формирования и развития духовно-нравственного облика: задержка и дисгармония формирования основ нравственного облика: терпения и толерантности, милосердия и гуманизма, чести и достоинства, свободы и независимости; дефицитарность творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; неготовность к социальной и профессиональной мобильности из-за низкой моральной мотивации y неспособность к непрерывному образованию «через всю жизнь»; истощаемость и несовершенство механизмов самосовершенствования и саморазвития; низкая толерантность и манипулятивность национального сознания, подверженность националистическим провокациям, взрывающим межэтнический мир и согласие.
Третье. Нарушение формирования и развития духовно-нравственной позиции: задержка и дисгармония формирования основ нравственной позиции: способности различения добра и зла, преодоления жизненных трудностей и испытаний, проявления дружбы и любви; неспособность принять базовые национальные ценности, национальные обычаи и традиции; снижение способности выражать и отстаивать свою личную позицию; некритичность оценок собственных мотивов и установок, намерений и мыслей; утрата видения перспективы жизни, пессимистично-катастрофическое восприятие мира и капитуляция перед трудностями; неспособность осознать личностную ценность других людей, ценность человеческой жизни, ментального здоровья и духовной безопасности личности; y неспособность к сознательному личностному, профессиональному и гражданскому самоопределению; девальвация веры в народ и страну из-за дефицита личной ответственности; y неготовность солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; непонимание безусловной ценности семьи и ее нравственных устоев: любви и взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и продолжении рода; нарушение духовной, культурной и социальной преемственности поколений.
Четвертое. Нарушение формирования и развития этики поведения и общения: задержка и искажение формирования морали как осознанной личностью необходимости определенного поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; истощение внутренней установки личности по ступать согласно своей совести из-за сниженной моральной мотивации свободы и воли; неспособность формировать собственные моральные обязательства и осуществлять нравственный самоконтроль, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам, требовать от себя выполнения моральных норм и соблюдать этику делового общения; деформация и утрата личностной и социальной идентичности; несамостоятельность и безответственность поступков и действий; повышенная внушаемость и зависть, конформизм и уход от личного морального выбора y низкая целеустремленность и трудолюбие, производительность труда и настойчивость в достижении результата; девальвация правосознания и законопослушности.
Согласно принцип «Пять W» – инструмента для сравнительного описания и интерпретации результатов «анализ-синтеза» конкретного вида социальной инфекции. Социальной эпидемией называется прогрессирующее во времени и пространстве той или иной идеи, концепций, системы взглядов среди значительного количества населения, обуславливающих с их стороны одинаковых стилей мышления и действий. В основе возникновения эпидемии лежит возбуждение и влечение как проявление основного психофизиологического явления, заключающегося в том, что люди испытывают повальное влечение к этой идее, суждения, концепции в качестве модного поветрия или давления обстоятельства. Здесь особую значимость приобретает сама идея, индуцирующая такое стремление людей. В связи со сказанным выше, если исходить из принципа «Пять W», то первый вопрос «Что?» – это сама по себе идеология «эвтанизации» и «биочипизации» как разновидности социальной инфекции современности. Именно эти идеи и соответствующие концепции являются первым звеном эпидемического процесса и составляют суть I фазы – фазы резервации. Как известно, резерватами вышеуказанных социальных инфекций являются не только определенные социальные группы людей (безнадежные тяжелобольные, старые беспомощные люди), а ткже общество, но и исследовательские подразделения, специализированные научные институты и центры, которые создаются с целью обеспечения необходимых условий для разработки соответствующих биочипов, а также социальная канализирования усилий определенной группы новаторов биотехнологического направления. Согласно концепции эпидемического процесса появление самой идеи, суждений и концепции по добровольному смертобеспечению, а также формирования их сторонников, с одной стороны, внедрение научно-технологического нововедения в виде биочипизации, с другой стороны, следует считать “возбудителями инфекции”.
Как известно, присутствие многих людей в одном пространстве уже само по себе действует на каждого из них возбуждающим образом. В настоящее время, «скопление людей» в интернет-пространстве также действует аналогичным возбуждающим эффектом на каждого человека. При этом каждого человека в такой сети следует воспринимать как источника, индуцирующего помешательство идеей эвтанизации и биочипизации. В связи со сказанным, если исходить из принципа «ПятьW», то вопрос «Кто?» – это человек, человеческая популяция, которые являются, с одной стороны, сторонниками и своеобразными проводниками идей эвтанизации, а с другой стороны, потребителями информационно-технологической продукции указанных двуединых социальных инфекций и звеном их распространения в обществе. Человек и общество являются главным проводником эпидемического процесса, именно они представляют собой II фазу – фазу эпидемического преобразования. На этом этапе развития социальной инфекции, бывшая однородной в фазе резервации со временем становится все более неоднородной вследствие появления восприимчивых к таким инфекциям лиц и увеличения их количества. Именно на этом этапе начинается непрерывное взаимодействие на видовом (человеческом) уровне «возбудителя инфекции» и человеком. Итак, уже на этапе резервации и преобразования вскрывается сущность эпидемического процесса, то есть внутренняя причины их развития, а также условия, в которых протекает действие причины. Нужно отметить, что систематизация материалов этих фаз позволяет ответить в общих формулировках на вопрос, почему развивается эпидемический процесс.
П.И.Сорокин (2014) приводит прогредиентный вариант развития эпидемической аддикции в четырех многомерных взаимозависимых плоскостях: социогенеза, психогенеза, соматогенеза и анимогенеза. Социогенез в определенной мере предопределяется нарушением структуры и функции родительской семьи, нарушением созревания и социализации личности в дисгармоничной среде. Патологическое зависимое поведение отличается наличием эпизодов измененных состояний сознания при реализации психической и физической зависимости, непреодолимостью и компульсивностью зависимости, стереотипизацией криминального стиля жизни, синдромом отмены. В исходе – тотальная социальная дезадаптация. Траектория эпидемического развития может измениться в точках бифуркации при мобилизации ресурсов адаптации, компенсации или защиты. В этом случае может меняться объект или стиль реализации зависимости. Ремиссия в синергетическом контексте означает переключение зависимой личности на иную модальность и поведенческую траекторию при со хранении зависимого паттерна. Психогенез в существенной мере предопределен преморбидной психопатологической отягощенностью, отличающейся эмоциональной и коммуникативной дефектностью, которые в дальнейшем проявляются аддиктивным радикалом психопатизации и деформации личности. У зависимой личности вне личностного расстройства появляются яркие реалистические реминисценции и фантазии на фоне инфантильности и внушаемости, простодушия, чувственной непосредственности, любопытства или высокой поисковой активности, максимализма и эгоцентризма, впечатлительности и нетерпеливости, склонности к риску и вызову опасности. Зависимые личностные расстройства характеризуются оскудением нормативной социальности, деформированием личности и эмоциональным выгоранием, неспособностью самостоятельно принимать решения за пределами криминального стиля жизни, сочетанием шизоидных черт личности с плохой переносимостью одиночества, что поддерживает развитие тревожной депрессии и толкает к совершению деликта, дающего временную психоэмоциональную разрядку.
В рамках вышеизложенного обращаем внимание на существование ряда моментов патогенеза. Соматогенез – нормативные психосоматические реакции, которые в дальнейшем переходят в функциональные психосоматические расстройства (органные неврозы) и соматоформные расстройства, клинически описывающие индивидуальные особенности формирующегося «синдрома отмены». Признаки зависимости могут обусловливать опасные агрессивные действия в рамках само- и взаимоиндукции при социальных эпидемиях и проявляться в следующих синдромах: во-первых, измененной реактивности; во-вторых, психической зависимости; в-третьих, физической зависимости. Анимогенез проявляется в «аддиктогенной сенсибилизации» внутреннего мира ребенка. Такая семья аномична по своей природе и с высокой вероятностью изначально маргинализирует подрастающее поколение, не оставляя шансов для полноценного формирования нравственных чувств и нравственного облика, предопределяя нарушения в подростковом возрасте моральной социализации и деформируя развитие личности. Уличная компания часто становится полигоном «тренингового закрепления» деформированного нравственного облика, с рудиментарными или несформированными социальными установками и представлениями о гуманизме, милосердии и толерантности. Все это приводит к деформации и деструкции нравственной позиции личности, дегуманизации и деэтизации сознания, утрате способности различения дефиниций добра и зла, про явлений дружбы и любви, готовности к преодолению жизненных испытаний.
Существует интегральная теория как социологической парадигмы П.И.Сорокина, выступающая в качестве системы знания, позволяющей постигнуть множество сложных явлений социокультурного мира в их динамике. Автор приходит к парадоксальному выводу о необходимости рассматривать право как «психическое явление», а правовые нормы – как «материальное воплощение» правовых убеждений, которые объективируются в устных суждениях, письменных законах, символически воплощаются в правовых обрядах, поведении и поступках людей. Автор, расширяя методологическую основу своих работ, включил наряду с эмпирическим и рациональным, интуитивный подход к исследованию социальных феноменов. Новаторство интегрального подхода к исследованию социокультурных изменений состоит в синтезе каузально-функционального и логико-смыслового подходов. Достоинство каузального метода автор видит в возможности упорядочить хаос вселенной посредством нахождения формул унификации или единообразия. Логико-смысловой метод также является одним из способов упорядочения хаоса. С его помощью устанавливается тождественность смысла или идентичность главной стержневой центральной идеи, связывающей вместе социокультурные явления. Новаторство П.И.Сорокина заключалось в том, что интегральная социология стала одной из первых попыток ликвидации противостояния и синтеза структурно-функциональной и интерпретативной парадигм, в значительной степени определившей направленность развития социологии ХХ века.
Нужно отметить, что внушение, постепенно приводимые к вовлечению к идее и действиям все большей массы людей, наблюдаются только в тех случаях, где объединенная рядом причин и побуждений массы является уже организованным целым, имеющим некий центр, от которого исходит внушение – специализированные центры эвтанизации, биочипизации. И чем быстрей и точнее выполняются внушения, чем более эти внушения носят характер внушений прямых – в смысле агрессивного и назойливого настаивания, тем совершенней организация, знаменующая собой наступление то там, то здесь эпидемических вспышек и эпидемического распространения. В этом аспекте, если исходить из принципа «ПятиW» то вопрос «Где?» – это место, очаг, ареол распространения. Как известно, эпидемический очаг – это место нахождения источника инфекции с окружающей его территорией в пределах которой возбудитель способен передаваться в массовом порядке от источника инфекции к людям, находящимся в контакте с ним. Причем, территориальные границы эпидемического очага зависят от трех основных обстоятельств: во-первых, устойчивость возбудителя к различным факторам; во-вторых, возможности контактов источников инфекции с людьми; в-третьих, механизма передачи инфекции. Нужно отметить, что «эвтанизация», «биочипизация» в единстве развития являются, безусловно, устойчивыми технологиями, имеют сверхэффективными средствами и безотказными механизмами распространения в виде интернет-сети и нейросети. Вначале ареал инфекции ограничиваются пределами исследовательской лаборатории или специализированной научно-информационной компании, а затем уже пределами одного населенного пункта, области, региона, страны, а далее континентов и планеты в целом. Они составляют суть III фазы – фазы распространения. Для эффективного заражения необходима масса воспримчивых к идее, концепциям и технологиям людей.
Нужно отметить, что ответы на вопросы «Кто?», «Кто?», «Где?» представляют собой первые оценочные выводы о «возбудителях», «источниках», «носителях», «распространителях», а также масштабах распространения вышеуказанных социальных инфекций, тогда как ответы на вопросы «Когда» и «Почему?» – о механизмах и факторах развития и распространения социальной инфекции. Здесь важным моментом познания является свойство восприятия, включающее: предметность, структурность, апперцептивность, константность, избирательность и осмысленность. В свою очередь осмысленность состоит из трех этапов: во-первых, селекция (выделение из потока информации объекта восприятия и познания); во-вторых, организация (объект идентифицируется по комплексу признаков); в-третьих, категоризация и приписывание объекту свойств объектов этого класса. Как известно, выражение идеи в действий и общественный настрой – суть, основной закон жизни. Их следует либо блокировать, либо направлять в нужном направлении. Исходя из сказанного и следуя принципа «Пять W» ответы на вопрос «Когда?» характеризуют тенденцию заражения, темпы распространения, охват населения эпидемическим процессом. Именно мировая интернет-паутина и нейросеть являются путями передачи не только научно-технологической “ноу-хау”, как определенная совокупность и последовательность факторов заражения биочипизацией населения стран и континентов, но и надломом морально-этических взглядов и суждений, допускающих возможность роста числа эвтаназий в мире. Сдерживать границы эпидемического очага не всегда возможно. Ареалы распростанения эвтанизации зависит от политической установки тех или иных стран. Территориальные отграничения возможны, но не очевидны. Так или иначе пространство эпидемического очага эвтанизации и биочипизации как социальных инфекций практически определяется самим обществом и государством, в том числе на законлжательном уровне. Инфекции такого порядка, к сожалению, предотвратить, отграничить в странах при нынешнем уровне международной коммуникативности представлется непростой задачей.
Нужно отметить, что восприятие идей и концепций социальных инфекций в той или иной форме должна представлять некую целостность, когда всякий объект, идея, суждение, а тем более пространственная предметная ситуация воспринимается как устойчивое системное целое. При этом образ, формируемый в процессе отражения имеет некую совокупность информации. В рамках вопроса «Почему?» центром внимание является установление причинно-следственной связи (этиопатогенез) и механизмов заражения, распространения социальной инфекции (IV фаза). Выше говорилось о том, что высокая вирулентность (заразительность) таких социальных инфекций как эвтанизация и биочипизация объясняется именно высокой теснотой межгосударственных взаимоотношений, а также наличием высокоскоростной мировой интернет-паутины и нейросети, которые относятся к беспроводным, а следовательно, неуправляемой сетевой средой – среды в которых происходит непосредственная передача той или иной социальной инфекции по принципу «прямо от производителя к потребителю». Важно отметить, что существующие на сегодня современные топологии беспроводной глобальной компьютерной сети практически невозможно контролировать и тем более блокировать процесс формирования эпидемических очагов и распространение таких социальных инфекций как эвтанизация и биочипизация. Все это являет собой не что иное как предпосылка к появлению вспышек инфекции, затем эндемического, а потому уже и эпидемического распространения.
Глава II
Биоэтические, технократические парадигмы и философские
аспекты эвтанизации как социальной инфекции
В настоящее время во многих европейских государствах уже законодательном уровне открыть путь к эвтаназии. Причем, такое явление с самого начала приобрело черты настоящей социальной инфекции, а сейчас, судя по темпу и ареалам распространения она приобрело свойство эпидемии. Этот процесс приобрел название эвтанизация, то есть умершвление или смертобеспечение. Интересно то, что термин «эвтаназия» для обозначения легкой и безболезненной смерти был предложен философом Ф.Бэконом, живший на рубеже XVI-XVII веков. Он пишет: «Если врачи хотят остаться верным своему долгу и чувству гуманизма, они должны не только увеличит свои познания в медицине, но и приложить все старания к тому, чтобы облегчить уход из жизни безнадежным пациентам». Но сейчас сам термин стал означать не столько «благую» смерть саму по себе, сколько ее причинение. Речь идет о смертобеспечении. С позиции философии, социологии, психологии эвтаназия – это выбор из двух зол: «если одно хуже другого, что же плохого в выборе меньшего зла». Таковы аргументы сторонников эвтаназии, а философским доводом является то, что «сравнение недостатков двух перспектив – смерти и постоянного страдания – не должно прикрывать тот факт, что обе эти перспективы, тем не менее, являются плохими». Да! постоянное страдание – это плохо. Однако, прерывать жизнь – еще хуже. В клятве Гиппократа сказано: – «…Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла». В Женевской декларации Всемирной медицинской ассоциации записано: – «…Я буду сохранять высочайшее уважение к человеческой жизни с самого момента зачатия. Даже под угрозой я не буду использовать мои медицинские знания вопреки законам гуманности». Между тем, в эпоху глобализма и экстропии гуманизм сдает свои позиции одну за другой, в том числе и в медицинской сфере. Во многих странах Европы, Америки и Азии принимаются общественные договора в отношении полной легализации и распространения эвтаназии. В таком случае, естественно, врачи станут клятвопреступниками, потому, что согласно этим договорам смертообеспечение будут осуществлять медики. Тотализация процесса смертообеспечения, то есть расширение ареалов его распростарения – эвтанизации чревато возникновением эпидемии дегуманизации медицины.
Понимая, что эвтаназия с течением времени распространится по всему миру, мы пытались выстроить некие контуры философии этого явления, главным образом, акцентируя наш исследовательский интерес на то, как можно вывести медиков из под удара. Была издана монография «Кибернетическая биовласть» (Ашимов И.А., 2023), в которой говорится о возникшем парадоксе: философ Ф.Бэкон заставил всех задуматься о категорической неприемлемости эвтаназии, тогда как медики, которые, по сути, своего призвания, должны были отвергать эвтаназию в любой форме, продолжали ее реализовывать на практике. Другой философ – Фома Аквинский писал: «Выбирая смерть, в противоположность примирению с тщетностью продления жизни и позволению смерти прийти, мы совершаем ошибку». Уже давно определено: во-первых, то, что ценность человеческой жизни – это главный аргумент против эвтаназии; во-вторых, то, что никто не должен никого убивать, убийство – наивысшее зло; в-третьих, то, что врач должен лечить пациента от болезни, а не быть его палачом. Стремление бороться за жизнь больного до последнего шанса всегда вызывало в обществе уважение и доверие к врачу. Однако, наступили другие времена, сменились ценности, идеалы, обстоятельства вынуждает общество изменить общественный договор в отношении эвтаназии. В этом аспекте, сохранит ли медицина свои социальные позиции, когда система здравоохранения «породит» систему смертеобеспечения? Не чреват ли отказ от последовательного исполнения принципа сохранения и поддержания жизни изменением моральных основ врачевания, от которых в немалой степени зависит результативность врачебной деятельности? Не обречены ли врачи, обеспечивая «достойную смерть» пациенту, на резкое умаление своего собственного достоинства, участвуя в сознательном убийстве пациента?
Вышеуказанные вопросы в той или иной мере освещены не только в научно-фантастических романах «Биовзлом» (2015), «Грядущая биовласть” (2024), “Как умирать? По новому или по старинке” (2024), “Смерть! Прошу не опоздай!» (2024), но и в капитальном труде «Киберфилософия эвтаназии и биочипизации” (2024). В них говорится о том, что, безусловно, легализация эвтаназии, во-первых, обесценит сам историко-философский опыт человечества, стремящийся утвердить ценность индивидуальной жизни, во-вторых, приведет к утрате чувств морального, а также осознанных и нормативно оформленных в социуме идеалов и ценностей, в-третьих, повлечёт за собой коренную перестановку аксиологического ряда, что не сможет не повлиять на социальное восприятие принципов права и биоэтики. И.Кант говорил о том, что человек всегда должен иметь возможность выбора, он считал, что любой поступок, это тот поступок, который продиктован собственной совестью, собственным чувством долга. И всегда это мерило измерения человека. В этом аспекте, тот вариант, который выберет конкретный медицинский работник, конкретный человек, работающий с умирающим, является способом оценки его собственной личности, измерением его самого – насколько он в состоянии глубоко осмыслить те существующие принципы и проблемы, которые он экстраполирует и принимает на этой основе свое индивидуальное решение. Безусловно, в общечеловеческом масштабе принятие смерти как вида медицинского лечения окажется не только «мощным препятствием на пути медицинского прогресса», но и одной из причин краха гуманизма. В этой связи, разрешение проблем эвтаназии может стать одним из примеров нравственно-допустимого поведения индивида и общества в целом. Основным критерием нравственной допустимости является интегративная ценность действий для всех затронутых ими субъектов всего временного промежутка, для которого они имеют значение. В целом, самым гуманным решением проблемы эвтаназии будет не запрещение или разрешение какой-либо ее формы, а активная борьба против любых проявлений пассивности во всем, что касается человека, активная помощь делу жизни и противостояние смерти. Между тем, следует признать, что общество относится к категории сложных систем. Взаимодействия его составляющих порождают громадную сложность в виде комбинации индивидуальных выборов, социальных ограничений, мотивов, внешних стимулов и пр. Тем не менее, общество имеет возможность добиться консенсуса и выстроить «общественный договор» по любому сложному вопросу.
На наш взгляд именно такая необходимость возникает в эпоху сверхтехнологий, диктующих тотальную цифровизацию, кибернетизацию, биотехнологизацию. Следует заметить, что при обсуждении таких масштабных проектов, как эвтаназия, «смерть мозга», танатотерапия, биочипизация и пр., несмотря на колоссальные преимущества рассуждений с позиций здравого смысла, совершается ряд ошибок: во-первых, сосредотачиваясь на мотивах, стимулах, убеждениях, которые осознаем непосредственно, не всегда можем правильно спрогнозировать ход событий; во-вторых, взаимодействуя друг с другом, нагромождаем мнения и суждения, создавая неправильную коллективную стратегию; в-третьих, не учитывая опыт прошлого, формируем ошибочное восприятие настоящего, что, в свою очередь, искажает восприятие будущего. В аспекте сказанного выше, во-первых, неопределенность в вопросах эвтаназии, «смерти мозга», танатотерапии, биочипизации, случаются не потому, что мы забываем о здравом смысле, а потому, что потрясающая эффективность здравого смысла в решении повседневных проблем заставляет верить в него больше, чем он того заслуживает при решении масштабных и судьбоносных для человечества вопросов; во-вторых, видеонадзор, биометрия, биочипизация, биопаспортизация направлены на превращение людей в сетевые личности, уже имплантированный биочип может в любое время быть перепрограммирован в соответствии с новыми задачами. Никто не даст гарантии тому, что и процесс эвтаназии будет кибернетизирован. Между тем, речь идет о тотальной биовласти. Кто будет управлять новым миром? Кто окажется системным администратором человечества? Вот-так проблема эвтаназии становится объектом и предметом философии.
Находим нужны отразить понятия, формы и аргументы «за» и «против» эвтаназии. Общество движется вперед, периодически сменяя отношения к отжившим себя мнениям и теориям. В последние годы все чаще человечество задается вопросами: если самоубийство не считается преступлением, почему же эвтаназия считается преступлением? Почему же врач, который избавляет человека от мучений, должен переступить через клятву и выступать уже в роли убийцы? Считается ли гуманным тот врач, который продолжает давать смертельно больному пациенту лекарства и тем самым заставляя человека страдать? Не пришло ли время переписать клятву Гиппократа во имя справедливости и блага человечества? Вообще, какими качествами должен обладать человек, который собирается стать врачом? Лишь милосердием должен руководствоваться врач или же еще и сострадательность, когда он должен обеспечить и смертообеспечением безнадежно старадающих больных? Может ли в будущем появится медицинская специальность по смертобеспечению? Перечислим доводы: во-первых, врач обязан облегчать страдания и спасать от смерти больных; во-вторых, врач по сути своей профессии должен любить людей и взять на себя всю ответственность за сохранение жизни больного; в-третьих, призвание врача требует, чтобы он выполнял свои обязанности, следуя голосу совести и руководствуясь принципами врачебной этики. А может быть следует найти компромисс между сторонниками и противниками эвтаназии? В клятве Гиппократа и в присяге врача записано: – «…врач обязан сохранять жизнь, защищать и восстанавливать здоровье, уменьшать страдания своего пациента, а также содействовать сохранению естественных основ жизни, учитывая их значение для здоровья людей». Следовательно, «врач должен спасать погибающего и безнадежно больного человека во всех случаях в силу своего профессионального долга и самого предназначения медицины». Медики в своей деятельности обязательно зададутся вопросами: «Что делать врачу, чтобы свести к минимуму страдания больного, если помочь ему больше ничем нельзя? Следует ли поддерживать жизнь больного, умирающего от рака в адских страданиях? Надо ли бороться за жизнь новорожденного, появившегося на свет в состоянии декортикации в результате гипоксии мозга? Что считается гуманным в медицине, а что нет? Так уж ли безупречна медицина в исполнении моральных принципов?
По Ф.Бэкону термин «эвтаназия» переводится как «благоумирание». Приводятся и следующие определения эвтаназии [Новая философская энциклопедия. В четырех томах. / Ин-т философии РАН. Научно-ред. совет: В.С. Степин, А.А. Гусейнов, Г.Ю. Семигин. М., Мысль, 2010. – Т.IV. – С.411-412]: Первое. Эвтаназия (по К.А.Залесскому) – это программа насильственного умерщвления людей, страдающих наследственными болезнями. Как медицинский термин эвтаназия означает «облегчение умирания обезболивающими средствами» [Залесский К.А. СС. Самая полная энциклопедия / Константин Залесский. – М., Яуза-пресс, 2012, с. 591]. Второе. Эвтаназия (По Конт-Спонвиль А.) – обозначает добровольно принимаемую кончину с помощью средств медицины и с целью положить конец страданиям неизлечимо больного человека. То есть эвтаназия – это смерть с медицинской помощью. Во-первых, она касается не вида в целом, а лишь отдельных индивидуумов, а, во-вторых, она применяется только к неизлечимо больным, по их личной просьбе (добровольная эвтаназия) или, в случае, если они сами не в состоянии эту просьбу сформулировать, по просьбе их близких (не добровольная эвтаназия). Если медицина не в силах нам помочь, почему бы ей не помочь нам умереть? По мнению автора, существует опасность, заключающейся в возможности систематического уничтожения наиболее тяжелых больных [Конт-Спонвиль Андре. Философский словарь / Пер. с фр. Е.В. Головиной. – М., 2012. – С.696-697]. Третье. Эвтаназия (по В.Г.Кузнецову) – понятие биомедицинской этики, обозначающее, что в определенных ситуациях быстрая безболезненная смерть для пациента предпочтительнее, чем сохранение жизни. Речь идет о ситуациях, когда больной находится в необратимо бессознательном состоянии или во власти непрекращающихся мучительных страданий. Этической проблемой является принятие решения об эвтаназии, возможность его морально аргументировать. По выражению Ф.Фут «решение об умерщвлении ради того, кто умирает» [Словарь философских терминов. Научная редакция профессора В.Г. Кузнецова. – М., ИНФРА-М, 2007. – С.687-688].
«Не существует более двусмысленного слова, чем эвтаназия. Но возможно еще не поздно вернуть эвтаназии настоящее ее определение, корни которого следует видеть толковании этого понятия самим его основателем Ф.Беконом», – писал Жак Судо. Ф.Бэконом сказано следующее: «я совершенно убеждён, что долг врача состоит не только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, чтобы облегчать страдания и мучения, причиняемые болезнями, и это не только тогда, когда такое облегчение боли как опасного симптома болезни может привести к выздоровлению, но даже и в том случае, когда уже нет совершенно никакой надежды на спасение и можно лишь сделать самое смерть более лёгкой и спокойной, потому что эта эвтанасия, о которой так мечтал Август, уже сама по себе является не малым счастьем» [Бэкон Т. Сочинение в 2 томах. – М.: Мысль, I971-1972. – T.I – 588 с, Т.2 – 582 с.]. Ф.Бэкон также писал: «в наше время у врачей существует своего рода священный обычай остаться у постели больного и после того, как потеряна последняя надежда на спасение, и здесь, по моему мнению, если бы они хотели быть верными своему долгу и чувству гуманности, они должны были бы и увеличить свои познания в медицине, и приложить все силы, чтобы облегчить уход из жизни тому, в ком ещё не угасло дыхание» [Ф.Бэкон «О достоинстве и приумножении наук»]. Итак, подчеркивается два основных признака «эвтаназии». Первый. Является лёгкой и безболезненной смертью («заснул глубоким сладким сном»; «сделать самое смерть более лёгкой и спокойной»), то есть одним из основных признаков эвтаназии является «безболезненность» ухода из жизни, а значит, если человек, желающий уйти из жизни, бросается в огонь, это мы не назовём эвтаназией, так как это – смерть мучительная. Второй. Является убеждённость человека в том, что смерть для него будет большим благом, чем жизнь, или другими словами, что жизнь стала настолько болезненной и мучительной, что смерть становится желанным благом. То есть, второй признак означает, что человек сам принимает решение, и что он сам чувствует и думает, что не может больше жить.
Разумеется, возникают сложные этические вопросы. Если человек физически не способен выразить свою волю, то есть когда отсутствует второй признак, по которому определяют само понятие эвтаназии, значит ли это, что он не имеет права на эвтаназию в таком случае? Когда отсутствует второй признак, то есть «решение самого человека», люди не могут руководствоваться ничем другим, кроме здравого смысла и человеческой интуиции [Аванесов С.С. Введение в философскую суицидологию. – Томск: изд-во ТГУ, 2000. – 124 с.]. Но сделать вывод, что человек, лишённый всякой возможности быть в социальном пространстве, общаться с людьми, и при этом только лишь испытывает постоянную боль, дожидаясь своей смерти, всё же хочет продолжать так жить, было бы не честно не только по отношению к этому человеку, но и по отношению к себе, потому, что сделать такой вывод может быть связан только с одним мотивом – уйти от принятия каких-либо решений по отношению к этому человеку. Хотя есть предположения и сомнения некоторых специалистов в области этики, что «ничто», «полное отсутствие» может быть лучше, чем страдания [Алексеев С.С. Философия права. – М.: Норма, 1998. – 330 с.]. Такие сомнения высказывает известный учёный-этик А.Гусейнов, предполагая, что жизнь мучительная может оказаться большим благом в сравнении с отсутствием всякой жизни [Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. – М.: Молодая гвардия, 1982. – 208 с.]. Итак, это единственный случай, когда можно назвать эвтаназией смерть, решение о которой не мог принять сам человек, но за него это сделали другие люди, предполагая, что и он принял бы такое решение. Во всех других случаях, эвтаназия не будет иметь места, если не будет присутствовать этот второй признак – «добровольное принятие решения о своей смерти самим человеком» [Гусейнов A.A., Апресян Р.Г. Этика. – М.: Гардарики, 2002. – 472 с.]. А как расценивать массовое уничтожение нацистами людей, хотя даже если они умирали лёгкой и безболезненной смертью? Было ли это эвтаназией? Разумеется, это не было эвтаназией, потому, что люди, которые физически могли принимать решения, касающиеся их жизни и смерти, были лишены такой возможности, за них решения принимали другие люди. Отсюда следует, что эвтаназия только тогда имеет место, когда есть эти два признака: во-первых, лёгкая, безболезненная смерть; во-вторых, добровольное решение человека, который нуждается в эвтаназии.
Не существует также, к сожалению, единого понимания того, чем является эвтаназия, самоубийством или убийством. Но если мы помним о втором признаке эвтаназии, а именно – её добровольности, когда человек сам принимает решение, то для нас будет очевидным, что эвтаназия – это самоубийство, хотя формально это может быть похоже на убийство, если эвтаназия происходит с помощью других людей [Аванесов С.С. Самоубийство как философская проблема // Автореф. дис… канд. филос. наук. Томск: изд-во ТГУ, 1994. – 17 с.]. Правильнее было бы сказать, что убийство – это тот случай, когда человек лишает жизни другого человека, но что происходит, когда человек сам лишает себя жизни, с помощью других людей? Это можно назвать содействием, помощью в самоубийстве. Безусловно, многие бы задались вопросом, а есть ли исключения? Исключение это – человек, который физически не способен высказать свою волю, но что возможно такой человек нуждается в эвтаназии, и возможно он бы умолял об эвтаназии, если бы мог сделать это физически. Оставить такого человека доживать мучительную жизнь, без права на эвтаназию, ещё не означает снять с себя ответственность по причине отсутствия каких-либо решений в отношении такого человека [Антипенко Э. Слово об эвтаназии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. – 296 с.].
Надо помнить, что принятие решения еще большая ответственность. А значит, при определении эвтаназии следует помнить, что такое исключение необходимо учитывать, и это единственный случай, когда речь может идти не о самоубийстве, а об убийстве, потому что человек, в отношении которого применялась эвтаназия, не способен был физически как-либо высказать свою волю. Хотя это исключение, конечно же, требует дополнительного серьёзного обсуждения среди медиков, юристов и этиков. По мнению многих исследователей именно этот аспект в вопросе об эвтаназии остаётся наиболее проблемным [Биоэтика проблемы и перспективы. – М.: ЙФРАН, 1992. – 210 с.]. «Эвтаназия – безболезненный и добровольный уход из жизни с помощью безнравственных врачей, в отличие от болезненного и не добровольного – с помощью высоконравственных», – писал Е.Головаха. Исходя из всего вышесказанного, можно дать такое определение эвтаназии: Эвтаназия – это лёгкая, безболезненная смерть, что наступает в результате определённых действий человека по отношению к самому себе, или в результате определённых действий других лиц, действующих исключительно по просьбе человека, который по причине собственной физической недееспособности, нуждается в их помощи [Зильбер А.П. Трактат об эйтаназии. – Петрозаводск, 1998. – С.307]. Исключение: если же человек, находящийся в крайне тяжёлом физическом состоянии, обречённый на медленное умирание, не способен высказать свою волю, действия людей, которые берут в таком случае на себя ответственность за принятие решения в отношении такого человека, также могут считаться эвтаназией, если было принято соответствующее решение [Козлова H.H. Эвтаназия: уголовно-правовые проблемы. Проблемы применения нового уголовного законодательства / Сборник научных трудов. – Уфа, 1999. – С.50-56].
В эпоху сверхтехнологии появились и иные факторы, способствующие распространению эвтаназии. Помнится, еще в 1958 году в США доктор Джек Геворкян на основе своего врачебного опыта пришел к мысли, что отчаявшимся, безнадежно больным людям, решившим покончить с жизнью, необходима помощь в виде легкой смерти. Что интересно, именно в эти годы в мире начали производить трансплантацию органов. А самая главная проблема этого раздела медицины заключается в дефиците донорских органов. Вот и предприимчивый Геворкян, помимо всего, призывал лишать жизни преступников, приговоренных к смертной казни, а их органы отдавать для трансплантации. И как вы думаете, что стало с этой идеей? Она вовсю реализуется! К примеру индокитайский опыт эвтаназии в пользу трансплантационной практики. – «Если суд в качестве меры наказания преступнику выносит смертный приговор через расстрел, последующие действия максимально упрощены. Приговоренного везут к его родственникам. Сопровождают машину целая кавалькада автомашин – прокурора, юридической компании, бригады по заготовке трупных органов. Теперь представьте китайский дворик, где компактно проживают родные и близкие приговоренного. По приезду прокурор оглашает приговор. Затем представитель юридической компании знакомит родных и близких с тем, что при их желании, после расстрела, тело могут забрать трансплантационные учреждения для нужд трансплантации. В этом случае родственникам полагается и небольшая денежная компенсация. В противном случае, труп будут хоронить сами родственники. И знаете, как, чаще всего поступают родственники? Соглашаются отдать труп для целей трансплантации! А что потом? А потом приговор приводят в исполнении, предоставив родственникам попрощаться с приговоренным до расстрела и с его трупом – после расстрела. Юристы успевают оформить соответствующий договор. Труп загружают в автомашину выездной бригады по заготовке органов. Вот так, пополняется банк донорских органов за счет преступников. Ничего лишнего – просто и практично».
История эвтаназии имеет тысячелетнюю историю. Сейчас в США не проводится реанимация, если пациент заблаговременно высказался против нее. Впервые такое право получили тяжелобольные в Калифорнии в 1976 году. Над кроватью таких больных вешали табличку «Не оживлять!» (NО!). В свое время знаменитый кардиохирург-трансплантолог Кристиан Бернард, жизнь и деятельность которого многие идеализируют, оказывается использовал эвтаназию для облегчения страданий своей матери. В Китае принят закон о праве на пассивную эвтаназию – бездействие врача, отказ от борьбы за жизнь пациента. Естественно «трансплантационный» мотив у доктора Геворкяна был отвлекающим аргументом в пользу эвтаназии. Самое страшное то, что он запатентовал «машину смерти» и в своем газетном объявления призывал: – «Если вы решили умереть и хотите это сделать безболезненно, я подарю вам легкую смерть». Разразился скандал, состоялось нашумевшее судебное заседание, был вынесен приговор. Доктор отсидел положенный срок, вышел на свободу и, хотя уже практикой не занимался, но от своих убеждений не отступил. Но следует предупредить: «Какая разница – активная, пассивная. Согласитесь, что Рубикон пройден! О проблеме заговорили и, будьте уверены и наше общество в недалеком будущем, станет перед выбором. За пассивной, выбор падет и на активную эвтаназию. Разрешение этой формы, поверьте, это только лишь вопрос времени. Люди найдут морально-этические оправдания эвтаназии.
Действительно, дискуссии по поводу узаконивания активной эвтаназии лишь набирает обороты. В них задействованы практически все, начиная от самих медиков, заканчивая правителями государств, религиоведами и философами. И если дело дошло до уровня общественного мнения, то все кончено! Когда у сторон не хватает аргументов достаточного основания, в порядке общественного договора принимается недостаточно совершенное решение. Считают, что это лучше, чем вообще не принимать никакого решения. Вот таким способом проталкивается любой парадоксальный вопрос. Так, что есть основание считать, что в мире активная эвтаназия будет когда-либо узаконена. На Западе отношение к смерти, в том числе эвтаназии, максимально упрощено. В Испании Ассоциация за право умереть достойно и Датская Ассоциация добровольной эвтаназии действуют более полувека. На нескольких языках выходит международный журнал «Эвтаназия». Более двадцати лет развивается туризм «легкой смерти» в Швейцарии, а Нидерландах и Бельгии законодательно разрешена детская эвтаназия (!). Как относятся к этому медики? По статистике две трети французских врачей одобряют добровольный уход в случае мучительной и неизлечимой болезни. В Голландии эвтаназию официально применяют врачи и не преследуются за это по закону. Везде и всегда эвтаназию осуществляют врачи (!). Хотя это какое кощунство! Врач в роли и лекаря и киллера (!).
Пока эвтаназию во многих странах, включая и нашу, называют преступлением перед гуманизмом. Но время декларативного гуманизма постепенно уходит. Человек понимает проблему в меру своей недоинформированности, засоренности и неточности своего мышления, жизненного опыта, познания. На смену гуманизма приходит трансгуманизм, карианство, которые лояльны к эвтаназии. По сути, эвтаназия – есть убийство одного человека другим, медиком (!). Убийство даже безнадежно больного человека, даже по его собственному желанию и просьбе противоречит самой сущности врача. Между тем, их призвание – борьба со смертью, а не помощь ей. Если врач по любым соображениям способен лишить жизни другого человека – его немедленно нужно лишать диплома, ибо он превратился в свою противоположность, в убийцу. Тем не менее, нельзя забывать, что врач, такой же человек, как и все люди, а потому может поддаваться соблазну. Нынешняя медицина в рыночных условиях потеряла всю свою святость, привлекательность, благородство. В медицину ринулся всякий сброд, ее заполонили всякие там дельцы от медицины, для которых профессия стала способом наживы. Если врач способен убить человека в его интересах, то, получив право убивать законно, не сможет удержаться от соблазна убить его в своих собственных интересах (?!). Именно из дельцов или бизнесменов от медицины общество будет штамповать эвтанаторов, то есть медиков с лицензией на убийство! Действительно, врачу, наделенному правом убивать, рано или поздно люди перестанут доверять свою жизнь. И, таким образом, общество лишится своей медицины. Убийство гуманным не бывает. Оно всегда убийство. А гуманизм потому и гуманизм, что помогает другому выжить, а не умереть. И общество, если оно хочет быть гуманным, не должно навязывать врачу обязанности, противоречащие сути его деятельности. А без помощи медиков это возможно? А судьи кто? Почему медик должен стать киллером? Ясно одно, врач не должен идти на поводу общества, хотя медицинское сословие сама является частичкой этого общества. Но именно медики должны быть на переднем крае истинного гуманизма. Таковы суждения прогрессивных медиков, тогда как нравы общества качаются между крайностями.
Различают активную и пассивную эвтаназию. При пассивной медики прекращают жизнеподдерживающее лечение, что ускоряет наступление естественной смерти. На практике даже в такой ситуации смерть может «опоздать», муки и страдания больного будут продолжаться. Любой, даже самый опытный врач, к сожалению, не сможет точно спрогнозировать такой исход. Есть понятие ассистируемое самоубийство – врач помогает пациенту покончить со своей жизнью. Активная эвтаназия – это введение умирающему каких-либо лекарственных веществ, влекущее за собой быстрое и безболезненное наступление смерти, либо отключение от аппаратуры, поддерживающей жизнеобеспечение больному. Эту форму эвтаназии еще трактуют как «убийство из милосердия». В обоих случаях, смерть пациента происходит при помощи врача. Сейчас во многих странах медицинскому персоналу запрещается осуществление эвтаназии. Лицо, которое сознательно побуждает больного к эвтаназии и (или) осуществляет ее, несет уголовную ответственность. Но.... Конституционный суд любой страны, подписавшейся под римский правовой статут, как известно, самая последняя судебная инстанция считает, что запрещение эвтаназии ущемляет права человека на смерть. Как быть? Прям как в известной сказке «Рак, лебедь и щука». В законе одно, в жизни – другое, в теориях – третье, в общественном договоре – четвертое. Американская медицинская ассоциация приняла решение о запрещении своим членам участия в эвтаназии, выдвинув лозунг: «Врачи не должны быть палачами». Тем не менее, этот принцип оспаривается, причем, все чаще и чаще. Вот, к примеру, в свое время знаменитый советский детский хирург С.Я.Долецкий никогда не скрывал, что является сторонником эвтаназии. Его статья «Эвтаназия, безболезненная смерть, – это милосердие, это благо» была опубликована в советской «Медицинская газета». Помнится, автора обозвали клятвопреступником. – «Борьба за жизнь пациента справедлива только тогда, пока существует надежда, что спасение его возможно; с момента, когда эта надежда утрачена, со всей остротой встает вопрос о милосердии в высшем его проявлении. И в этом случае им будет только эвтаназия», – писал автор. Даже сейчас сами медики и общество не готовы к серьезным размышлениям, они живут заученными теориями, пользуются старыми, отжившими концепциями. Однако, ясно то, что проблем эвтаназии не избежать. Но, как в таком случае вывести из-под удара медиков?
В мире все чаще говорят о том, что разного рода «исключения» все же должны быть предусмотрены при определении эвтаназии, поскольку категория людей, которые физически не способны высказать свою волю, может не в меньшей мере нуждаться в эвтаназии, чем те люди, которые физически способны просить об эвтаназии. Категория неизлечимо больных людей, испытывающих и физическую боль, и душевные страдания, которые не способны физически дать знать о том, что они нуждаются в эвтаназии, только на основании этой физической неспособности лишены права на эвтаназию, означает, что такое законодательство не только охраняет человека, но и не в меньшей мере обрекает его на медленное мучительное умирание [Орлов А.Н. Милосердна ли легкая смерть. Этюды биоэтики. Красноярск, 1995. – 148 с. ]. В таком случае, в чем заключается различие между активной и пассивной эвтаназией? Американский философ Дж.Рейчелс, анализируя различие между активной и пассивной эвтаназией, утверждает: «Важное различие между активной и пассивной эвтаназией состоит в том, что при пассивной эвтаназии врач не делает ничего, и пациент умирает оттого, что какая-нибудь болезнь уже поразила его. При активной эвтаназии врач делает нечто, что приводит к смерти пациента, то есть он убивает его. Врач, который делает больному раком летальную инъекцию, сам становится причиной смерти пациента; но если он просто прекратит лечение, то причиной смерти будет рак» [Рейчелс Дж. Активная и пассивная эвтаназия // Этическая мысль. -1990. – М., 1990. – С.205-214].
Итак, в каждом определении высвечивается моральный и медицинский аспекты эвтаназии. Следует подчеркнуть, что со времен Гиппократа и до наших дней традиционная врачебная этика включает в себя запрет: «я никому, даже просящему об этом, не дам вызывающее смерть лекарство, и также не посоветую это». К сожалению, с недавнего времени, однако, у врачей все чаще и чаще появляется готовность прибегнуть к этой практике, по крайней мере, тогда, когда пациент сам просит о смерти [Юдин Б.Г. Смерть и умирание. Эвтаназия // Введение в биоэтику. – М.: Прогресс, 1998. – С. 265-293]. Как нам следует относиться к этой тенденции? Как к освобождению от устаревших запретов или как к некой вседозволенности, которая одновременно неверна с моральной точки зрения и опасна на практике? Таким образом, различают два основных типа эвтаназии: во-первых, пассивная эвтаназия – намеренное прекращение лечения больного, чтобы мучения быстрей закончились; во-вторых, активная эвтаназия – намеренное введение медицинских препаратов, или применение других действий, которые быстро и безболезненно прекращают жизнь человека. Медицинские препараты могут быть введены врачом, либо врач может выдать медицинские препараты, которые пациент введет себе самостоятельно. Выделяют также добровольную эвтаназию, которая совершается по согласию больного и недобровольную эвтаназию, которая проводится без согласия больного, впавшего в кому, но с разрешения родственников и опекунов [Фут Ф. Эвтаназия //Философские науки. – 1990. – №6. – С.60-70].
Очевидно, эвтаназию» можно определить как «умерщвление другого человека для предполагаемого блага умерщвляемого» при его согласии («добровольная эвтаназия») или без согласия, или даже против воли человека («недобровольная» и «принудительная» эвтаназия). Под «умерщвлением» следует понимать действие или допущение действия, выбранное с целью лишения человека жизни, то есть, независимо от того, прямое ли воздействие или косвенное [Бородин C.B., Глушков В.А. Убийство из сострадания // Общественные науки и современность. – 1992. – №4. – С.140-145]. Согласно этому определению, случаи самоубийства с помощью врача не в меньшей степени, чем сделанный врачом смертельный укол, представляют примеры эвтаназии, потому что они направлены к одной и той же цели – смерти пациента. В обществе уверены, что контрольным выстрелом для человечества служил и пока служит гуманизм, направленный на выживание обреченных природой особей за счет сильных и жизнестойких. Во все века гуманисты посвятили свою жизнь и деятельность во имя процветания человечества. «Все во имя человека!» – это их девиз. А есть еще выражение – «Любой прогресс реакционен, если вредит человеку». Сейчас же все чаще звучит мысль о несостоятельности гуманизма, о чем свидетельствуют факты появления таких движений и течений, как трансгуманизм, карианство, которые набирают своих сторонников на Западе. В этом аспекте Запад все чаще заслуживает негативных эпитетов – «загнивающий», «извращенный», «гнилой» и пр. Действительно, во что превратилась свободная, открытая, гуманная Голландия, Швейцария? Они превратились в Центры мировой эвтаназии. Самое страшное то, что программа эвтаназии для иностранцев в стране набирает бешенную популярность. Количество туристов-самоубийц там растет с каждым днем. Встать в очередь на самоубийство может не только неизлечимо больной или старый человек, а любой желающий отправиться на тот свет. Даже появился новый феномен – одновременные самоубийства супругов, один из которых смертельно болен, а второй умирает из-за солидарности. Солидарная смерть? Смерть на поток? Очередь за смертью? Такое трудно осознать. Как вообще стало такое возможным? Куда мы катимся? В мире воцарилась тревога. В мире уже конкурируют между собой множество организаций, которые не только оказывают необходимую юридическую и медицинскую помощь желающим покончить с собой, но и создают все необходимые условия для смертобеспечения. Все это не столько милосердие, сколько бизнес-проект.
Как известно, где крутятся шальные деньги, нет места для милосердия. Больше всего самоубийц приезжают в Швейцарию из Германии, на втором месте – Великобритания, на третьем – Франция и Италия. Самой популярной организацией для иностранцев считается «Dignitas», поставляющая различные программы для туристов-самоубийц. Его менеджеры разъезжают по всему миру, агитируя людей на добровольную и очень технологичную смерть в этой стране. Туристов-самоубийц встречают, создают комфортные условия, организуют приятный досуг, обеспечивают легкую смерть за деньги (в размерах эквивалентному четырем тысячам евро) и пышные похороны (в размерах эквивалентному трем тысячам евро). Тем, кто не в состоянии оплатить эвтаназию, независимо от гражданства, государство может выделить специально учрежденные гранты. За год кредитом успешно пользуются, в среднем двести-триста туристов. На организацию смерти зарабатывают не только частные, но и государственные клиники (!).
Вышеприведенная технология смертобеспечения распространяется по всему миру как эпидемия инфекционной патологии. Сейчас добровольно уйти из жизни иностранцы могут не только в Швейцарии, но и в Бельгии, Голландии, Люксембурге, а также в американских штатах Орегон, Вермонт и Вашингтон. Голландский закон разрешает добровольно уходить из жизни и несовершеннолетним. В Бельгии принят закон, по которой дети при согласии родителей или в случае недееспособности ребенка сами родители получили право подавать прошение об эвтаназии. Во Франции и в Великобритании сенаторы уже выступали и выступают за либерализацию законов по внедрению не только пассивной, но и активной эвтаназии. Об этом уже ратуют в Литве, Эстонии. Дискуссию об активной эвтаназии инициировал во Франции в свое время сам президент Франсуа Олланд, ссылаясь на общественное мнение французов. Тем временем, правительство Германии собирается легализовать пассивную эвтаназию и уже есть множество прецедентов, когда врачи или даже просто опекуны прекращают поддержание жизни пациента, если это соответствует его воле. Медики то понятно, но когда опекуны имеют право прекратить жизнь – это действительно страшно! А вообще насколько правильно ссылаться на общественное мнение? Разумеется, люди, испытывающие страдания или же видящие своими глазами страдания близких и родных, проголосуют за безболезненную смерть. Но, это же, их субъективное решение. Почему общество должно идти на их поводу? Самое страшное то, что такую инициативу выдвигают и к этому призывают сами медики – представители, казалось бы, самой гуманной профессии в мире.
В 2012 году уролог Кристиан Арнольд признался в том, что за последние годы помог около двести безнадежным пациентам совершить безболезненное самоубийство. Арнольда поддержали многие врачи. А активист Немецкого общества за гуманную смерть Антон Вольфарт заявил, что «каждый человек должен иметь право помочь ближнему расстаться с жизнью», поэтому мне совершенно непонятно, почему это должно быть запрещено врачу, который располагает самыми лучшими средствами обеспечить достойный добровольный уход из жизни». Вот-так живодеры загоняют медицину в тупик. Доктор Менгель им не урок и, вообще, история не учит. Раньше профессия врача отличалась сакральностью, так как была направлена за сохранение жизни, во что бы то ни стало. Медицинская профессия остается сакральной, но теперь с другой ориентацией – на смерть. Это не что иное, как бизнес-проект от медицины. В Германии появились сайты со стандартными формулярами, в которых пациент может изложить свою волю на случай смертельной болезни или недееспособности. Как это можно? Всего лишь нужна подпись пациента или его опекуна, заверенная нотариусом? И что? Подписать такой документ ринулись более десяти миллионов немцев. Очевидно, по своим целям рынок, бизнес и медицина, по сути, несовместимы. В свое время осознавая тотальную смену взглядов, отношений, идеалов и норм хирургической деятельности в результате диктата рыночной системы, а также безнадежность попытки удержать хирургию в морально-нравственных рамках профессиональной деятельности, чувствуя, что хирургическая честь будет утрачена, благородные традиции уйдут в небытие, возобладают новые рыночные ценности, что было воспринято мною как личная трагедия ученого-хирурга, принял решение отойти от хирургии. Помнится, на Конгрессе хирургов страны «Хирургия рубежа XX-XXI веков» зло выразился о том, что «в нынешней хирургии развелось слишком много сук!», имея в виду, что в хирургию хлынули мошенники, для которых не имеет значение, что представляет собой хирургия и ее служитель – хирург, для которых важно то, что на операциях можно неплохо заработать и выстроить свой бизнес. В этом аспекте, уверен в том, что эвтаназия постепенно оформится в бизнес-проект.
Многим, наверняка, интересно, а существует ли опыт эвтаназии в России, в странах СНГ, в том числе в Кыргызстане? Наверняка, она существует. Ведь сколько раз приходилось слышать от врачей на приеме, когда «скорая» привозила стариков: «Он или она итак умрет – без операции либо после операции. Зачем привезли?». Это на врачебной практике, а в масштабе государства, не принимая никаких мер по улучшению состояния здравоохранения и медицинской помощи населению или более того, не разрабатывая соответствующие законы, к сожалению, мы вольно, невольно допускаем ту самую пассивную эвтаназию. Причем, крайним всегда оказываются медики. Кто знает, возможно с таким отношением к человеческой жизни мы очень скоро догоним Европу. Чиновники еще не понимают, что отказывая человеку в квоте на высокотехнологичное лечение, государство применяет к нему как раз ту самую пассивную эвтаназию, включая детского возраста. Разве не так? Государство, разводя руки перед пациентом, у которого отказали почки или печень, а ему необходима пересадка соответствующего органа, практикует принудительную эвтаназию. Это же очевидно! Вот в этом отношении, когда по телевидению объявляют, что тому или иному пациенту требуется дорогостоящее лечение за границей, а потому просят сбросится на средства, огорчает многих. Неужели государство не понимает, что этим самым он получает пощечину за свою несостоятельность? Более того, как можно понять тот факт, что пересадку органов в нашей стране могут передоверить частным клиникам. Между тем, трансплантация органов, как, впрочем, эвтаназия, имеет такую же опасность, как скатится по наклонной – черный рынок органов, преступная пересадка, коммерционализация. В том и другом случаях с течением времени в обществе найдут морально-этические оправдания.
Можно много говорить о проблемах эвтаназии, об отсутствии государственных гарантий, о недостаточности гуманизма. Действительно, с момента своего появления эвтаназия всегда представляла собой огромный клубок моральных, теологических, медицинских и юридических проблем. Критики утверждают, что ей могут злоупотреблять родственники, уставшие ждать наследства или просто не желающие ухаживать за пожилыми людьми. В то же время сторонники эвтаназии уверяют, что выбирая между смертью от продолжительной и мучительной болезни в больнице, в окружении чужих людей, многие предпочтут быстрый и безболезненный переход в иной мир в домашней обстановке. Для многих, решившихся на эвтаназию, важную роль играет и то, что они избавляют не только себя от мучений, но и своих близких от проблем по уходу за больным. Это личное, конкретное. Но, самое страшное, если эвтаназию возведут на уровень политики. Программа умерщвления инвалидов и психически больных, по мнению руководителей третьего Рейха, «идеально вписывалась» в идеологию о «расовой чистоте». А ведь эвтаназии подверглись миллионы людей. К сожалению, даже такая трагедия не учит человечество.
Безусловно, если добровольное самоубийство допустимо, найти какое-либо нравственное возражение против активной добровольной эвтаназии трудно (?!). Люди найдут практические мотивы для их различия. И тут возникает два вопроса об эвтаназии: во-первых, моральный («Что можно сказать о характере человека, совершающего подобные действия?»); во-вторых, юридический («Должны ли подобные действия быть запрещены законом?»). Фома Аквинский утверждает, что, в общем, человеческий закон должен основываться на естественном законе: «запрещение людям делать то, что не является для них неправильным, – не законотворчество, а тиранство». С другой стороны, он утверждает: «мораль и идеальная законность не тождественны. Иногда то, что с точки зрения морали плохо, не практично юридически запрещать» [Аквинский Фома. Сумма теологии. Собрание сочинений. – М.: Мысль, 1996. – 596 с.]. Как известно, государство старается соблюдать принцип оптимального соотношения морали и закона, так как, что допускает мораль, может быть запрещено законом, поскольку временами для общего блага обществу приходится отказываться даже от прав своих граждан. Сейчас слагается тенденция того, что становится больше тех, кто утверждает, что, хотя эвтаназия является безнравственной, её не следует запрещать в законодательном порядке. Два довода, которые обычно приводят в качестве аргументов против применения уголовных санкций: во-первых, слишком высокие затраты на претворение этих санкций в жизнь; во-вторых, перспектива непослушания настолько широка, что она уже подрывает общее уважение к закону [Богомяткова Е.С. Эвтаназия как социальная проблема // Автореф. дис… канд. социол. наук. – СПб., 2006. – 30 с.].
Все чаще в меньшинстве остаются те, кто утверждает, что, хотя эвтаназия не во всех случаях неправильна, она не должна быть разрешена законом. Есть несколько вариантов этого аргумента: во-первых, эвтаназия нравственно допустима только в редких случаях, но даже там ее следует запретить, так как этой практикой до того легко злоупотребить, что легализация эвтаназии принесет больше вреда, чем добра; во-вторых, легализация эвтаназии ставит пожилых людей в затруднительное положение выбора: либо продолжать жить, либо смертью уйти с дороги; в-третьих, эвтаназия с моральной точки зрения допустима только в исключительных случаях, но в таких случаях следует ее узаконить [Акопов В.И., Бова A.A. Юридические основы деятельности врача. – М.: Юристь, 1997. – 298 с.]. Большинство священников убеждены в том, что эвтаназия – это глубокое человеческое заблуждение, а убийство пациента – конечно же, злодеяние. Они высказываются на счет того, что во всем мире представители религиозных течений единогласно высказываются против эвтаназии, тогда как по результатам общественного опроса, в среднем две трети опрошенных простых людей считают, что смертельно больной пациент имеет право потребовать от врача прекратить свое существование. В этом религия идет им на встречу. По статистике тех стран, где эвтаназия разрешена, большинство эвтаназий совершается не по воле больного, а по решению родственников, тогда, когда больной даже не может выразить сам отношение к этому вопросу. Это, во-первых, а во-вторых, удельный вес нынешних политиков, ратующих за эвтаназию, выросла в 2-3 раза. А ведь это люди принимающие решение. По мнению священника заблуждение и греховность – вот что страшно! Что касается родственников, то они будут убийцами, если они будут упрашивать врачей обеспечить эвтаназию. В любом случае, эвтаназия больного – это убийство, которого нельзя оправдать. Если больной сам «заказал» эвтаназию – это самоубийство. Если это сделали другие – это убийство. – «Самоубийство – это великий грех. Мы не создали сами себя, и поэтому не являемся владельцами собственного тела. Нам вверили тело, чтобы мы о нем заботились, питали и берегли. Нашими телами владеет Аллах, который дает жизнь, а его право дать или отобрать ее не должно быть нарушено», – говорит мусульманский священник. Вообще, людей больше всего раздражает лицемерие активных сторонников эвтаназии от бизнеса, которые свой комфорт и коммерческие интересы пытаются прикрыть фиговыми листиками гуманизма и прав человека. Страдания часто имеют искупительный характер, что страдания очищают человека от той неправды, которую он в этой жизни вольно или не вольно сделал. Так от чего человека они хотят избавить, если методом эвтаназии прекращаю его страдания?
Некоторые священнослужители придерживаются позиции, что страдания есть некая мера испытания. – «Каждый человек должен свое пережить, выстрадать в этой земной жизни, что еще необходимо ему для того, чтобы чистым предстать пред Богом». Они солидарны в том, что паллиативная терапия, практически единственная и настоящая помощь умирающим. В комплексе такой помощи, мне кажется, целесообразно предусмотреть и меры по укреплению духовных сил. В обществе полагают, что легализация эвтаназии может привести к переориентации медицины, которая в этом случае превращается в отрасль профессионального смертеобеспечения. Если врачам позволят избавляться от трудных больных, если смерть получит статус «последнего лекарства», реанимация утратит смысл: умертвить больного гораздо дешевле, чем спасать его жизнь. Страшно то, что эвтаназию можно превратить в вымогательство. В реаниматологии, когда врачам трудно сказать, что коматозный пациент «определенно жив» или, наоборот, «определенно мертв» довольно частая ситуация, называемая «зоной неопределенности». В этой ситуации именно врачи принимают окончательное решение о продлении жизни или констатации биологической смерти пациента.
Мусульманским священнослужителям видится, что главная проблема здесь кроется в минимизации свободы воли пациента, в том числе воли принятия решений. – «В обществе сильных духом не будет места провокационным законам, по которым человек будет требовать, чтобы его убили, и невозможно, чтобы врачи перешли бы на сторону смерти. Больному не нужны лекции о гуманности смерти. Он страдает не потому, что ему больно, а потому, что он остался один. Равнодушие врачей и близких покинули его. Сначала были крики «Помогите мне выздороветь!» Но их не могли или не хотели услышать. А когда все покинули его, он вынужден кричать «Помогите мне умереть!». По идее официально разрешённая эвтаназия ничем не хуже официально купленного в хозяйственном магазине ножа. И то и другое не добро и не зло. Всё зависит от того, в чьих руках оно находится», Почему человечество не боится ножей, пуль и даже водородных бомб и так боится эвтаназии? Духовники, гуманисты думали о том, что оправдайся то или иное понятие «эвтаназия», «самоубийство», человечество опасно приблизится к понятию «конец мира» и, человеку придется с трагическим запозданием пересмотреть слишком многое и слишком о многом сожалеть. «Жизнь является даром Божиим и подготовкой к встрече с Богом, а потому каждый из нас должен испить до дна ту чашу, которую дает нам Господь», «Нашими телами владеет Аллах, который дает жизнь, а его право дать или отобрать ее не должно быть нарушено». На самом деле что-то в мире кончилось, случилось! Случился обвал! Пора было и им – духовникам сделать выбор.
Высказываются разные, порою диаметрально противоположные аргументах эвтаназии. Недавние законодательные инициативы в тех странах, где она дозволяется, разрешают эвтаназию только в исключительных случаях. Речь идет о ситуации в Нидерландах, в двух частях Америки, в Северной Территории Австралии. Там врач может выписывать пациенту, но не давать сам, вызывающие смерть препараты. В Нидерландах самоубийство с помощью врача, и активная (добровольная) эвтаназия запрещены законодательным актом, но разрешены на практике. По заявлено суда, врач, умертвивший (или способствовавший в самоубийстве) своего пациента при определенных обстоятельствах, не признается виновным [Бито Л. Эвтаназия? Эвтелия! Счастливая жизнь благая смерть. – М.: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2006. – 232 с.]. В настоящее время все чаще говорят о принятой политике эвтаназии: во-первых, эвтаназия должна быть добровольной; во-вторых, только врач может оказывать помощь или осуществлять эвтаназию; в-третьих, состояние пациента должно быть с медицинской точки зрения неудовлетворительно. Из этих случаев, так же как из политической агитации в поддержку эвтаназии и из аргументов ее философски настроенных защитников, можно извлечь то, что общепринято разрешение на эвтаназию – врач может привести в действие добровольную эвтаназию или оказывать помощь в самоубийстве пациенту, находящемуся в безнадежном положении [Аванесов С.С. Основания философской суицидологии // Автореф. дис… д-р. филос. наук. – Томск: изд-во ТГУ, 2000. – 41 с.].
У врачей все чаще и чаще появляется готовность прибегнуть к практике эвтаназии, по крайней мере, тогда, когда пациент сам просит о смерти. Как нам следует относиться к этой новой тенденции? Как к закономерному устранению запретов или как к некой морально неоправданной вседозволенности? Есть два общепризнанных исходных позиций: во-первых, медицинская – Гиппократовская клятва, как этическая позиция включает в себя запрет: «…я никому, даже просящему об этом, не дам вызывающее смерть лекарство, и также не посоветую это»; во-вторых, философская – Бэконовская позиция: «…долг врача не только в сохранении здоровья пациента, но и в облегчении его страдания и мучения». Как видите, спорным является позиция философа Ф.Бэкона: «Если врачи хотят остаться верным своему долгу и чувству гуманизма, они должны не только увеличит свои познания в медицине, но и приложить все старания к тому. Чтобы облегчить уход из жизни безнадежным пациентам». Но сейчас сам термин стал означать не столько «благую» смерть саму по себе, сколько ее причинение. «Эвтаназию» можно определить, как «умерщвление другого человека для предполагаемого блага умерщвляемого» при его согласии или без согласия, или даже против воли человека». В первом случае речь идет об эвтаназии «добровольной», а во втором – о «принудительной». Что понимается под понятием «умерщвление»? Под «умерщвлением» надо понимать действие или допущение действия, выбранное с целью лишения человека жизни, то есть, независимо от того, прямое ли воздействие или косвенное. Согласно этому определению, случаи самоубийства с помощью врача не в меньшей степени, чем сделанный врачом смертельный укол, представляют примеры эвтаназии, потому что они направлены к одной и той же цели – смерти пациента. Если подобное самоубийство допустимо, трудно найти какое-либо нравственное возражение против активной добровольной эвтаназии.
С юридической точки зрения возникает два вопроса об эвтаназии: моральный и юридический. В общем, человеческий закон должен основываться на естественном законе – запрещение людям делать то, что не является для них неправильным. Но мораль и идеальная законность не тождественны. Иногда то, что с точки зрения морали плохо, не практично юридически запрещать. Есть предел тому, что государство может запретить недобрым людям. В то же время то, что допускает мораль, может быть запрещено законом, поскольку временами для общего блага нам приходится отказываться даже от своих прав. Хотя эвтаназия является безнравственной, её не следует запрещать в законодательном порядке. Два довода, которые обычно приводят в качестве аргументов против применения уголовных санкций: во-первых, слишком высокие затраты на претворение этих санкций в жизнь, и во-вторых, перспектива непослушания настолько широка, что она уже подрывает общее уважение к закону – по-видимому, в данном случае не применимы. С точки зрения социолога, хотя эвтаназия не во всех случаях неправильна, она не должна быть разрешена законом. Один из вариантов этого аргумента утверждает, что эвтаназия нравственно допустима только в редких случаях, но даже там ее следует запретить, так как этой практикой до того легко злоупотребить, что легализация эвтаназии принесет больше вреда, чем добра. А кто будет расценивать степень наносимого вреда? Разумеется, само общество. Другой вариант гласит, что легализация ставит пожилых людей в затруднительное положение выбора: либо продолжать жить, либо смертью уйти с дороги – положение, в которое никого нельзя ставить. Более общим явилось мнение, что эвтаназия с моральной точки зрения допустима только в исключительных случаях, но в таких случаях следует ее узаконить. Недавние законодательные инициативы в тех странах, где она дозволяется, разрешают эвтаназию только в исключительных случаях.
История эвтаназии подтверждает, что у управленцев всегда были несколько иные точки зрения. В Нидерландах, в США, в Австралии эвтаназия официально разрешена законом. Врач может выписывать пациенту, но не давать сам, вызывающие смерть препараты. В Нидерландах самоубийство с помощью врача, и активная эвтаназия запрещены законодательным актом, но разрешены на практике. По заявлено суда, врач, умертвивший своего пациента при определенных обстоятельствах, не признается виновным. Этими законами и политикой установлены три условия: во-первых, эвтаназия должна быть добровольной; во-вторых, только врач может оказывать помощь или осуществлять эвтаназию; в-третьих, состояние пациента должно быть с медицинской точки зрения неудовлетворительно. Получается во всех случаях главное действующее лицо – это врач. Получается так. Из этих случаев, так же как из политической агитации в поддержку эвтаназии и из аргументов ее философски настроенных защитников, можно извлечь то, что я буду называть общепринятое разрешение на эвтаназию – врач может привести в действие добровольную эвтаназию или оказывать помощь в самоубийстве пациенту, находящемуся в безнадежном положении. Например, в случае страданий, унизительного положения или неминуемой смерти. С медицинской точки зрения важно отметить, что медики всегда остаются крайними. Откуда приходит мнение, что практика эвтаназии допустима для врача? Начнем наш ответ на этот вопрос с рассмотрения возражений к аргументу против эвтаназии. Это умозаключение вкратце звучит так: во-первых, намеренное умерщвление невинного всегда является нравственным злом. Эвтаназия – это намеренное умерщвление невинного человека. Значит эвтаназия – это нравственное зло, так, что медицина должна устраниться от процесса намеренного умерщвления пациента. Она должна использовать весь свой потенциал для поддержки жизни.
Социологи считают, что доводы в пользу эвтаназии можно было бы начать с замечания, что хотя это умозаключение основывается на этике абсолютных нравственных запретов, все же в его основе нет абсолютного нравственного запрета на умерщвление. Сторонники эвтаназии могут апеллировать к факту, что вышеприведенное умозаключение подразумевает различие между оправданными и неоправданными умерщвлениями. На каком основании делается это различие? Если некоторые виды умерщвлений оправданы, почему нельзя оправдать, хотя бы в некоторых обстоятельствах добровольной эвтаназии? Основанием различия оправданных и неоправданных случаев является факт, что не все виды умерщвления обладают признаком, по которому обычное умерщвление осуждается злом – то есть, отношение к другому не такое, как должно быть. Итак, два вида убийства принимаются даже многими из самых рьяных противников эвтаназии – самооборона и наказание. Ни один из них не является несправедливым; по сути, ни один из них не является злом.
С точки зрения юрисдикции важно найти ответ на вопрос: можно ли рассматривать добровольную эвтаназию как третий вид оправданного умерщвления? Можно ли ее отнести к тем случаям, когда лишение жизни справедливо? Можно попытаться привести аргумент в пользу того, что эвтаназия выходит за рамки несправедливого убийства на основании двух ключевых утверждений: во-первых, состояние некоторых людей таково, что им лучше умереть, чем продолжать жить. Ярким примером такой ситуации являются те пациенты, которые страдают от сильных болей или обречены на жизнь в унизительной зависимости от других даже в удовлетворении самых элементарных нужд. Извлекающие выгоду из эвтаназии, часто включают в перечень, во-первых, смертельно больных и тех, кто находится в постоянном вегетативном состоянии, а. во-вторых, оказание помощи кому-либо в улучшении его положения всегда нравственно допустимо. Если умерщвление улучшит чье-либо положение, и человек сам хочет, чтобы его лишили жизни, как подобное умерщвление может считаться причинением незаслуженного этим человеком вреда? Как можно считать этот акт несправедливым? Как вообще это может быть неправильно? И что же тогда является добровольной эвтаназией, если не это? Управленец полагает, что вышеприведенные аргументы недостаточны, в особенности когда они употребляются в оправдании общепринятого разрешения. Остается спросить, на самом ли деле улучшилось положение всех тех пациентов, и даже если это так, то является ли их умерщвление единственной альтернативой бездействию. Во-первых, неясно, как смертельно больные и те, кто находится в вегетативном состоянии, извлекают выгоду из своей ранней смерти. Во-вторых, можно задать вопрос, действительно ли отвращение, выраженное многими, от зависимости от других в последние годы своей жизни, основано на сознании собственного достоинства, а не на ложной гордыне. В-третьих, всегда есть и другие способы избавления от боли. Юристы считают, что есть возражения более существенные, нежели вопросы, поднятые социологам и управленцем. Исключение наказания и защиты позволяет государственным властям реагировать на действия, создающие напряжение между частным благом виновного или вредного человека и общим благом покоя. Причиняемый виновному или вредному человеку вред, в данном случае смерть, – это необходимое средство достижения общего блага. Из-за своих действий против общего блага такие люди теряют право на частное благо в той степени, которая необходима для восстановления общего. Так как общее благо – это их благо тоже, можно сказать, что их даже не вынуждают уступать свое благо ради блага других. Скорее от них требуется оставить одно из своих благ ради чего-то, что для них является благом вообще, хотя, умерев, лично они уже от этого ничего не извлекают. Или, поскольку справедливость требует от них возмещения, которым они восстанавливают нанесенный ими ущерб.
Укоренилось позиция философов о том, что эвтаназия – это выбор из двух зол. Если одно хуже другого, что же плохого в выборе меньшего зла? – таковы аргументы многих. Ответ на этот довод должен основываться на следующем признании: сравнение недостатков двух перспектив – смерти и постоянного страдания – не должно прикрывать тот факт, что обе эти перспективы, тем не менее, являются плохими. Защита в поддержку эвтаназии предполагает, что постоянное страдание – плохо. Смерть по своей природе тоже является злом. Фома Аквинский правильно определил доброту как полноту бытия. Доброта в человеке и для человека – это обладание всей совокупностью человеческих сил – от питания, зрения и эмоций до разума. Если как смерть невинного, так и постоянное страдание являются плохими, то выбор одной из них означает стремиться к плохому. Это выбрать действие, которое есть зло в отношении к своей цели. Выбирая смерть, в противоположность простому примирению с тщетностью дальнейшего продления жизни и позволению смерти прийти, мы совершаем ошибку. Можно привести три возражения в пользу эвтаназии и против ее запрета. Во-первых, так как боль, связанная с продолжением жизни, также зла, то делает ли врач меньше зла, отказываясь осуществить добровольную эвтаназию, чем выполняя ее? Ответом будет: Нет! Отказ прибегнуть к эвтаназии означает решение переносить боль; это не выбор самой боли. Хотя боль сама по себе плоха и причинение ее зло, решение переносить боль – добродетельно. Это – акт стойкости. Нужно ли терпеть невыносимую боль, так как считают, что это божеское испытание духа человеческого? А как же милосердие?
Богослов считает, что естественно, не следует говорить, что избавление от боли плохо, или же что терпеть эту боль в полной ее силе было бы лучше, чем ее облегчить. Но это подчеркивает глубокую несоразмерность между выбором эвтаназии и выбором терпения, которая скрывается за подходом «из двух зол меньшее». Во-вторых, да разве выбор меньшего из двух зол не является нравственно предпочтительным в ситуации, когда в перспективе только зло? Это, конечно, не просто вопрос об эвтаназии, но вопрос об основных принципах теории долга. Эвтаназия всегда, и по своей природе является нравственным злом. Социологи полагают, что в основе наиболее общего довода в пользу общепринятого разрешения эвтаназии лежит принцип самоуправления – утверждение, что каждый человек имеет право принимать свои собственные решения о действиях, которые влияют исключительно на него самого. Этот аргумент теоретически хорошо подготовлен защитить общество, в котором имела бы место практика эвтаназии, от опасностей недобровольной или принудительной эвтаназии. Подобный аргумент оправдывает не только общепринятое разрешение, но и намного больше. Если право на самоуправление допускает эвтаназию в упомянутых случаях, то почему же он не допустит ее и в других случаях? Управленцы рассуждают о том, что если вышеупомянутый довод против эвтаназии правилен, то ни у кого нет морального права совершать самоубийство или же помогать кому-нибудь другому в этом. Однако здесь обращает внимание на то, что защитники общепринятого разрешения должны обеспечивать принцип не только достаточно сильный, чтобы обосновать право в общепринятых случаях, но и достаточно слабый, чтобы не допустить множество других ожидающих своего часа случаев. Что говорит о других видах боли и унижения такое право на самоуправление? Как насчет моральных мучений? Как насчет унижения не в области ограниченной деятельности и зависимости, но вины или стыда? Как право на самоуправление, допускающее умерщвление во избежание физических мучений, запретят умерщвление, чтобы избежать мук депрессии? Конечно, иногда от депрессии можно избавиться, приняв соответствующие медикаменты. Но, таким же способом можно избавиться и от физических мучений. Становятся ли некоторые обезболивающие средства неприемлемыми благодаря тому факту, что они вызывают общее успокоение? Как право на самоуправление, допускающее умерщвление во избежание унижения зависимости, запретит умерщвление, чтобы избежать мучений стыда?
Нужно отметить, так или иначе медики соглашаются с тем, что существует ряд условий, затрудняющих или делающих неприятным продолжение жизни. Неясно, на каком основании те, кто полагаются на право самоуправление, могут принимать решения (за других!) о том, что некоторые из этих проблем допускают выбор смерти, в то время как другие – нет. Также неясно, как те, кто взывают право на самоуправление, могут остановиться на общепринятых случаях. Но, почему это право дает только право предпочесть смерть жизни с болью или унижением? Очевидно, что нужно сторонникам права – принцип различия между одобренными им случаями и неодобренными. В основе подобного аргумента лежит не право на самоуправление, а другой принцип. Давайте обратимся к тому, что можно назвать «довод в защиту эвтаназии в безнадежной ситуации». Двумя путями можно подвести человека к добровольной, и, возможно, даже к принудительной эвтаназии. Первый путь коренится в вопросе: почему следует ограничивать такую быструю и милосердную смерть тем, кто еще в состоянии просить о ней? Почему одним ее можно разрешить, но другим следует отказать в ней? Не станет ли отказ в таком важном милосердии ошибочным наказанием для тех, кто был недальновиден, кто не позаботился о будущем? Так идет путь от добровольной эвтаназии к недобровольной. Второй путь, подводящий к недобровольной или принудительной эвтаназии, проходит несколько иначе. Сторонник эвтаназии философ Маргарет Бэттин оправдывает самоубийство в одном случае, говоря «оно оставляет меньше на один число примеров человеческой деградации в этом мире». Если самоубийство недавно овдовевшей женщины, страдающей от глаукомы и рака, «оставляет меньше на один число примеров человеческой деградации в этом мире», как был бы воспринят отказ той женщины, совершить самоубийство?
