Не пора ли мне уходить? бесплатное чтение
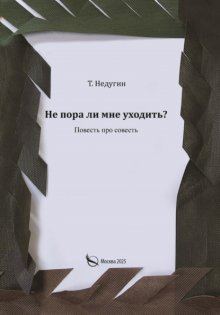
© Оформление. ООО «Издательство Перо», 2025
© Т. Недугин, 2025
Мамины уроки
Александр Дмитриевич снова проснулся рано, вставать не хотелось, а заснуть не было надежды. За окном уже просыпался летний рассвет. Это значит, что обычный москвич сейчас просто ложится спать. Саше снова снилась мама, долгожительница, дитя войны, ушедшая только ранней весною того же года. Тоже года войны, но другой. До ухода Саши на пенсию она не дотянула лишь трех месяцев.
Саша и сам уже дед, но при жизни мамы всегда ощущал себя молодым. Шестое чувство твердило ему, что жизнь еще только начнется когда-то очень скоро, что самого главного в жизни он еще не совершил и не добился, и вот этот год, злосчастный год войны, принес такие изменения. Почти разом осознать себя и пенсионером, и сиротой – это словно как просесть и сдуться. Неизбежно, но непривычно. А тут еще и своя болезнь, подозрение на онкологию.
Саша попытался понять или вспомнить, что же конкретного приснилось ему о маме, сообщал ли его сон что-нибудь важное о ее судьбе Там. Но ничего определенного понять не мог. Сны его теперь были нездоровыми и недолгими. Спать он мог только в неудобной позе, в которой притухала боль, и просыпался, не зная от чего: то ли от боли, то ли от этой самой позы.
За маму он не беспокоился. Молился о упокоении ее души просто по чину. Ум и сердце были за нее совершенно спокойны. И жила она, и ушла как-то очень хорошо, по-евангельски. Обратилась к Господу на середине своей жизни, когда Саша был еще студентом. Они примерно в одно время и независимо друг от друга пришли к вере, ходили в один храм, еще в годы официального социализма. И никогда больше не отпадали от веры. Но самое главное, мама выросла в семье с религиозными корнями в поколениях, которые в ней проросли, даже несмотря на то, что ее-то родители были атеистами.
Мама была врачом-терапевтом. Помогала людям профессионально. Кроме того, то ли из этих христианских культурных корней, из этой своей подкорки, то ли из соображений «советского аскетизма», в котором была воспитана, но она выросла очень непритязательным человеком. К себе старалась никогда не привлекать внимания. Постоянно учила уступчивости, словом и примером. В итоге это сочетание постоянной помощи другим (пациентам) с минимальным вниманием к себе оказалось очень согласующимся с евангельским учением. Ставши верующей, мама теперь уже старалась сознательно жить в таком самоограничении.
Она никогда не просила для себя чего-то дорогого или сложного, всегда стеснялась затруднить окружающих любой просьбой. Похоже, она стяжала это великое приобретение Апостола: быть благочестивой и довольной. Благодарила в десять раз чаще, чем просила. И к последним годам это приобрело особый смысл.
Мама пережила три инсульта и не пережила четвертый. Саша вспомнил, как после третьего, вновь обретя дар речи, она просила его с женой Машей:
– Уж потерпите меня, недолго осталось.
И это звучало без осуждения, без издевки, совершенно искренне, просто оттого, что она на самом деле не хотела быть им в тягость.
Саша искал и находил, конечно, в памяти своей те моменты, когда не проявил к матери должной заботливости, но, вообще-то, она всегда была рада и довольна его заботой, хотя, возможно, и недостаточной. Нечего и говорить о том, что она прекрасно ладила и с невесткой, да и та ей всегда помогала и не допускала со своей стороны никаких бестактностей.
И вот сейчас Саша почему-то вспомнил последний мамин день дома. Опять схватило сердце, опять ей не встать, опять вызов скорой и предложение госпитализации. И мама, будучи в сознании, вдруг совершенно спокойно на нее согласилась. Хотя перед этим несколько раз говорила, что четвертый инсульт станет у нее последним. Саша только сейчас вдруг понял, что мама знала, что уходит, но не стала отягощать его и Машу зрением этих последних своих часов. Да, точно, это было проявлением ее уступчивости и скромности, даже в последний момент.
Буквально накануне она самостоятельно дошла до церкви, и причастилась. Спустя несколько дней в больнице ей стало лучше. Ее перевели в общую палату. Маша позвонила свекрови и спросила, не позвать ли ей священника и причастить прямо в палате. Но мама отказалась, надеясь сама к воскресенью добраться своими ногами до больничного храма. Опять-таки не хотела никого утруждать. А на следующий день в больнице сказали, что она переведена в реанимацию, связь с нею оборвалась. Аппарат искусственного дыхания, ИВЛ и трубка в горле. Вот когда Саша с Машей почувствовали себя по-настоящему нехорошо.
До этого мама жила надеждой скорой встречи. С бабушкой, с крестной, там за порогом вечности. Смерть нисколько не страшила ее, она верила словам Спасителя о брачной вечере Сына, и действительно шла на пир. Это внушало всем спокойствие и какую-то внутреннюю уверенность. Теперь же, с известием о реанимации, Саша ощутил что-то другое. Словно какая-то чужая сила встала горой между мамой и Небом, и не было в этой силе добра.
Саша тогда еще вспомнил детские годы и рассказ матери о первых опытах реанимации, о которых ей тогда, в 1970-е годы рассказывали коллеги. Как они титаническими усилиями вернули к жизни нестарую женщину, и первые слова, которые услышали от нее, были такими:
– Ах, зачем вы это сделали, мне было так хорошо.
С тех пор оно так и запомнилось. Мама всю жизнь относилась к реанимации очень осторожно. Возможно, именно эти слова (среди прочего) убедили ее в бессмертии души, что потом и привело ее к вере.
И вот теперь она сама стала жертвой того, чего опасалась – безжалостного медицинского протокола. И, возможно, она сама знала или предчувствовала, что такое может с нею произойти, но сознательно пошла на это ради избавления детей от созерцания ее последних минут.
Нечего было и думать о том, чтобы выпросить возможность хотя бы взглянуть на маму. Саше с Машей оставалось только молиться. Но канон на исход души Саше не понравился, слишком уж грешным и прямо-таки гадким выставлял он человека, за которого приносилась молитва. На третий день Маша не выдержала и дозвонилась до лечащего врача. Начала она обиняками:
– Видите ли, все-таки 92 года, четвертый инсульт… Ну, может как-то… У нас не будет к вам претензий, мы все понимаем, вам тяжело, ей тяжело… Ну вот, хотите я вам сына ее дам поговорить…
Трубка по громкой связи ответила металлом:
– Не надо, сын тут не причем. Мы все делаем так, как положено.
Соседка их по лестничной площадке, тоже врачиха на пенсии, когда ей рассказали, так и фыркнула в ответ:
– Вот татуировку себе на груди набью: «не реанимировать»!
Прошло еще два дня того же мрака на душе, как в воскресенье все же сообщили неизбежное. И мрак сразу ушел. Появились заботы и хлопоты, обычные в таких случаях. По вечерам Саша с Машей читали Псалтирь с молитвой о новопреставленной. И становилось светло на душе.
Отпевали в ритуальном зале при морге. В гробу Саша узнал маму с большим трудом. Распухшее лицо, накачанное в морге инъекциями ради разглаживания морщин, выглядело неестественным и чужим. Батюшку уговорили не слишком сокращать отпевание, он прочел весь канон. Благо и очереди-то не оказалось. Пришло немало знакомых маминых, хотя уже все пациенты, кому она сделала столько добра, встречали ее на той стороне бытия. На поминках тоже вспоминали ее очень добрыми словами. И тогда еще Сашу поразило, что никто из молившихся и вспоминавших не был огорчен. Добрую бабушку добрым словом проводили в доброе место. Потому что пришло ее время. Она собиралась идти на пир Великого Царя – и пошла туда. Словно и здесь исполнилось ее заветное желание: никого ничем не затруднить, даже внезапным огорчением.
Теперь Саша явственно понимал: я – следующий. Какая все-таки радость, что мама не дожила до моей болезни, что она смотрит на меня теперь Оттуда. А Там она не может огорчиться или беспокоиться. Там она может только ожидать скорой встречи. А я же постараюсь ее не подвести.
Постараюсь. Но какой ждет диагноз? В нашем роду все почти долгожители, и ни по отцовой, ни по матерней линии не было онкологических больных, как и диабетиков, – все «нормальные сердечники». Оба дедушки, обе бабушки и все остальные, кого помню. Неужели я первый? Ну, может и так. Еще неизвестно, что это за опухоль. Может быть, все еще обойдется.
И в тысячный раз Саша припомнил свой самый счастливый день в жизни. Это было тогда, в далекие шестидесятые, когда мама с папой забирали его, еще дошкольника из детского лагеря. Саша был домашним мальчиком, и лагерь этот перенес тяжело. Хотя в нем все было хорошо устроено: и питание, и досуги, и занятия. Саша мало ел и был замкнут, но на родителей не обижался. Ему было шесть лет, он такого еще не умел. Мама посетила его посреди смены и сказала, что ждать осталось совсем немного, всего две недельки. А Саша не понимал, что это такое, и сосчитать эти дни не сумел бы. Но вот этот день настал. Папа с мамой приехали за ним на машине (тогда такая роскошь была еще им доступна). Они были сами дружны и радостны, а на маме было новое платье, и она словно светилась молодостью и красотой. А дома был прекрасный семейный ужин и главный подарок: радиола с первыми виниловыми пластинками. Среди пластинок были две детских со сказками, которые потом Саше заиграли чуть не до дыр. Но самое главное: он был дома, а мама с папой были радостными и счастливыми.
Так и запомнился этот день. Конечно, самый счастливый день жизни выбирает из памяти сам человек. Конечно, мы помним через всю жизнь не сами события, а свою реакцию на них, свою память о них, свое впечатление. Но все же именно это впечатление и важно. Не важны подробности того дня, которых Александр Дмитриевич не помнил, а важна память о том, что радость заполнила Сашу до конца, целиком и полностью, не оставляя ни малейшего уголка тревоге, беспокойству, обязательству, чувству долга, какому угодно еще хорошему или плохому чувству. Так радоваться можно только в детстве. Ни день крещения, ни день свадьбы не стали для Александра выражением такой радости, как и ни один другой день в его жизни. А этот тем и запомнился, что вспоминался постоянно, давая Саше незримые силы.
Мы едем домой, к маме и папе.
Каким-то новым, более глубоким смыслом наполнялись эти слова для Александра Дмитриевича теперь. Домой и к маме. Мама ждет. А Папа – еще больше. Он обязательно пришлет машину. И будет абсолютно радостно. И никаких чувств иных уже не потребуется. В радости растворится все.
Маскировочные сети
Александр Дмитриевич встал, с трудом потихоньку натянул одежду и пошел молиться, тихо, чтобы не будить жену. Раннее утро было лучшим временем для молитвы. А при нужде, если требовал организм, можно было еще прилечь на часок. А потом, после завтрака идти на свою новую работу.
Похоронив маму, Александр Дмитриевич дождался конца учебного года, выпустил свой последний класс (он работал учителем труда), и еще пока не увольняясь из школы, пошел в военкомат. Теперь оказалось, что по его военной специальности людей уже берут (а прежде не брали). Но медкомиссия его не пропустила. Обнаружилась эта самая опухоль, до поры до времени еще не беспокоившая Сашу. Ну, а дальше все по протоколу: УЗИ, обследования, онкологический центр, биопсия. Все довольно не быстро.
Александру пришлось ждать, периодически являясь за очередными результатами и ожидая очередных назначений. Начинались каникулы, плавно перетекавшие в увольнение на пенсию, и наш трудовик решил почаще походить на волонтерские дела, пока позволяло время.
Затащила его туда Маша, узнавшая от приходских подруг о такой работе. И было это уже больше года назад, вскоре после начала СВО, но Саша появлялся там нечасто, пока работал в школе. Теперь открылась возможность поработать интенсивнее.
Рабочее помещение располагалось в первом этаже какого-то здания, было достаточно просторным. В главном зале стояли пяльцы или прясла, – как их лучше назвать? – широкие и длинные рамки из деревянных брусков, высотою повыше человеческого роста. На них натягивались сетки типа волейбольных, только большой площади, четыре на шесть или на восемь метров. Вся работа заключалась в том, чтобы эту сетку заплести маскировочными лентами, подходящих расцветок, создавая на ней имитацию зелени, пятен, снега, грязи, песка или чернозема – в зависимости от времени года и региона боевых действий. Так рождалась маскировочная сеть. Палитра в ней постоянно менялась в соответствии с сезоном и погодой. Сети забирались не реже чем раз в неделю, заказов было много. Оплетку лентами проводили женщины, приходившие на это добровольческое служение и прошедшие в процессе начальное обучение ремеслу.
Женщин было много. Но поскольку работа была бесплатная, приходили без всякого расписания: кто когда мог и хотел. Первыми лентами очерчивались основные пятна маскировки, и дальше любая пришедшая труженица понимала, каким цветом какое место заполнять, – и работала по силам. На смену приходила любая другая и, поняв сразу, как продолжать, приступала к работе. При определенном навыке и достаточном количестве плетущих такая сеть оплеталась за два-три дня или даже за день. Затем ее снимали с пяльцев, растягивали, взявшись за края, читали молитву, и под пение Спаси Господи люди Твоя, – кропили святой водой и сворачивали в мешок.
А мужская работа здесь заключалась в нарезке лент. Сначала нужно было из рулона нетканой синтетической пленки нарезать полотнища длиною в один метр. Затем эти полотнища распустить на ленты, шириною в пять сантиметров – как раз по ширине звена самой сети. И затем по всем лентам делалась косая надрезка на тонкие полоски-лепестки. При вплетении такой ленты на сеть создается иллюзия шевелящейся травы или лепестков. Лепестки постоянно движутся и бликуют, обманывая тепловизоры, приборы ночного видения и дневные камеры наблюдения тоже. В результате, если нет движения под маскировкой, беспилотник практически не может отличить сеть от местности, особенно, если палитра красок угадана правильно. А это достигается лишь при ручной работе на заказ.
Нарезка получалась делом наиболее трудоемким, если делать ее вручную. Мужчин на этой работе было мало. Все добровольцы из мужчин уходили не на эту женскую работу, а на фронт. В том коллективе, куда ходили Саша с Машей, был буквально только один мастер не пенсионного возраста Миша. Он работал для фронта на закрытом предприятии и здесь проводил лишь свой выходной день. Ковал победу, как теперь пишут цифрами: 24\7. Остальные мужики были пенсионерами или инвалидами. Да и большинство женщин тоже.
Миша был Кулибиным, в нарицательном значении слова, и имел доступ к металлическим материалам. Он придумал и собрал станочек для нарезания полотнищ на ленты, чем сильно облегчил этот этап. Кое-что досталось и Саше. Он, как и Миша, сделал стусло. Это два дюралевых прокатных уголка метровой же длины с многочисленными прорезами друг против друга. Между прорезанными полочками уголков зажималось от двадцати до пятидесяти лент, так чтобы щели в одном и другом уголке совпадали между собою, а затем в эти щели вводилось рукою лезвие ножа, которым рассекались все заправленные меж уголками ленты, словно бы колбасу нарезаешь. Так за один раз можно было приготовить для плетущих женщин сразу десятки лент разных цветов. Поначалу надрезка лент на косые полоски проводилась вручную, ножницами, двумя десятками бабушек, не могущих долго стоять на ногах возле пяльцев. А с изготовлением стусел, все они освободились для других, более тонких работ. Один мужчина с ножом, даже пенсионер, мог легко обеспечить лентами двадцать работниц.
В одиночку за хороший рабочий день Саша мог одолеть около тысячи таких лент. Для одной сети 4x6 метров их требовалось примерно две с половиной тысячи. Такой сетью можно накрыть блиндаж, автомобиль или пушку. Двумя такими сетями – танк. Поэтому конца такой работе не предвиделось. Сети горят с техникой и без техники. Техника приходит новая и тоже нуждается в защите. Эти сети ручной работы редко попадаются в кадр тележурналистов, ибо большую часть маскировок составляют машинные или ручные упрощенные варианты вязки. Но, судя по отзывам, фронтовики предпочитают именно эти косо резаные трепещущие лепесточки индивидуального заказа, как наиболее эффективную маскировку.
Эти две странички написаны здесь ради обоснования мотивации работающих здесь людей. О ней говорили немного, но помнили ее все и всегда: у нас ценная продукция, заменить наши руки машина не сможет, от нас ждут помощи, наша помощь может спасать жизни.
Александр Дмитриевич полюбил эту работу, легко овладев всеми тремя этапами нарезки: на полотнища, на ленты и на косую надрезку в стусле. Мог работать и один, и с одним помощником, и с двумя. Как, впрочем, и почти все приходившие сюда помогать. Очень немногие мужчины оставались здесь надолго. Да и женщины тоже. Движение ширилось. Аналогичные пункты плетения сетей открывались по Москве и по стране, люди уходили, приходили новые. Но мужская половина нашего пункта помощи так и оставалась пенсионерской. В самом начале своей деятельности Саша застал на этой работе такого деда, который приходил на костылях, и сидя резал ленточки ножницами по одной. Вскоре он тоже пропал.
Мужское отделение «добровольческой фабрики» или «цех раскроя» помещалось в отдельном закутке. Саша радовался этому, ибо не желал слышать бабьих разговоров, тем более принимать в них участие. По этой причине он, помня в лицо постоянно ходящих женщин, большинства из них даже по имени не знал. Перекидывались немногими словами лишь на кухне. И чем хуже шли дела на фронте, тем меньше звучало слов на этой работе. Среди работников и работниц практически не было нытиков. Негласное правило требовало плакать и молиться только наедине. А когда дела на «ленточке» постепенно стали поправляться, так и болтать стали больше. Хотя о фронтовых делах беседовали по-прежнему мало.
Иногда в рабочем зале кто-нибудь заводил на своем телефоне музыку, песни или акафисты. Саша любил такие моменты. Но вскоре женское нутро работниц брало свое, и пение заменялось снова разговорами.
Александра Дмитриевича там замечали и привечали. На благословение сетей давали ему читать молитву. Поначалу ему показалось, что молятся вообще все, но потом он узнал, что собрались здесь мало воцерковленные люди. Активных православных было меньшинство, как везде, а некоторые разошлись на аналогичные работы при своих приходских храмах. Но Саша оставался на том же месте, оно его вполне устраивало, да и нужда в нем все-таки была. На другие пункты изготовления сетей его лишь иногда просили помочь – изготовить эти самые стусла, что он и делал дома с «болгаркой».
Некоторые из постоянных работниц ждали с фронта своих близких. Их, как и хронически болящих, незримо окружали большим уважением: старались не нервировать, не перегружать работой, не указывать, не дергать их по всяким мелочам. Саша, постепенно присмотревшись, узнал, кто были эти женщины, и относился к ним столь же бережно, хотя в поведении своем сами они ничем не отличались.
В целом же компания по такому признаку подобралась хорошая и веселая. Здесь не было нытиков, зануд, сплетников, корыстолюбцев. Здесь, даже если что-то не поделят, легко мирились или просто исчезали – в крайнем случае. Любой любому придет на помощь, только попроси. А главное, пожалуй, тут все любили свою родину и расходились в политических взглядах лишь до определенной границы. И можно было поспорить, не боясь разозлить сотрудника. Но Саша никогда не заводил таких разговоров, лишь иногда вставлял свое православно-монархическое слово, если его спрашивали.
Понятно, коллектив подбирался на добровольной основе. Александру Дмитриевичу порядком надоел женский коллектив еще в школе, волей-неволей приучивший его хорошо подвязывать язык. Впрочем, на эту тему Саша часто шутил о себе: ну, я же советский человек, а для советского молчание – подчас критерий выживания. Здесь же, на маскировках, не требовалось специально и постоянно следить за всяким словом.
Вот и сегодня он добрался до своей новой работы в хорошем настроении, надеясь убежать, как и вчера от этих навязчивых мыслей бессонницы. Даже стоя один возле своего станка, он просто слышал за спиной щебет этих теток и улавливал, не разбирая слов, просто добрые их интонации, – и одно только это уже успокаивало его.
«Лешие»
Но сегодня пришла новая вводная. Люба, координатор всего этого волонтерского пункта, получила и передала новую задачу: плести костюмы для разведчиков и снайперов. В просторечии их сразу назвали «лешими»: этот длинноворсовый мохнатый плащ действительно придавал человеку вид лешего. Присевший или залегший стрелок должен был не отличаться от кочки или муравейника.
Костюм предполагалось сплести на частой сетке, размером 2x2 сантиметра, в то время как большая сеть имела длину ячейки 5 см. И ленточки для нее должны были быть короче, более узкими и желательно еще фигурной вырезки, так сказать, кучерявыми. Никто из работниц пока понятия не имел, как все это изготовить, но Саше уже сразу дали задание собрать новые рамки, на которые следовало бы натянуть эти новые мелкоячеистые сетки. Он спокойно принялся за дело, а возле него расположились две женщины, которым предстояло плести самих леших. Вооружившись телефонами, они рылись в интернете, показывали друг другу картинки и все пытались догадаться, какой же материал лучше подойдет. Одна настаивала, что лучше натуральные ткани: мешковина, джут, трикотажные тряпки, если их перекрасить в охристо-бурые тона. Другая стояла за тот самый спанбонд – маскировочный материал для больших сетей. У того и другого варианта были очевидные преимущества и недостатки. Но Саша через полчаса уже плохо понимал, о чем у них ведется спор, догадываясь, что, по-видимому, ему придется нарезать какие-то новые полоски – соответственно, изготовив новое стусло.
Этот женский спор «спанбонд против мешковины» успел ему изрядно надоесть, но все-таки он хорошо отвлекал его от навязчивых и неприятных мыслей о своем диагнозе и о судьбе. Уйти было некуда, Саша работал киянкой и стамеской, примеряя свой новый станок в той самой комнате, где планировалась новая работа. Откуда ни возьмись, вдруг рядом появился мальчик Игнат, сын Любы. Ему было на вид лет семь или восемь, он часто появлялся тут, помогал, чем умел, и был общим любимцем.
Женщины сделали перерыв в своем споре и стали показывать Игнату в своих телефонах картинки «леших», как выглядит такой костюм, который они собирались делать для снайперов.
Между тем Саша уже скрепил саму рамку. Оставалось нужное и нудное дело: завернуть много мелких шурупов по всему периметру для натяжения на них сети. Тут дядя Саша привлек к этому делу Игната, и мальчик принялся за дело с удовольствием.
Тетки наконец, сошлись на изначально очевидном: попробовать применить разные материалы вместе, а практика покажет, что лучше.
– Всякая такая практика, вообще-то, кровью пишется, – вставил тут до сих пор молчавший Александр, – но другого выхода нет.
– Важно, что разглядит тепловизор, – ответила одна из работниц, Арина, стоявшая за спанбонд.
– Или выдаст снайпера сам оптический прицел, – продолжал Саша, – его же не скроешь, не завесишь ничем. Хочешь видеть – подставляешь и свой глаз. Как ночью в свете фар любого зверя, прежде всего, выдают его глаза. Они светятся, а самого зверя не видно.
Пока докрутили все шурупы, договорились о том, что первые халаты проверят там, на «ленточке», сами бойцы с помощью своих дронов, а потом уже будут примерять на живого воина.
Докончив рамку, Саша сдал свою работу, получил одобрение, сложил инструмент и поплелся в свой «цех нарезки». Здесь немного отдохнул от чужих разговоров, и вскоре опухоль напомнила о себе. Пора было собираться домой. А мысли вновь получали свой широкий простор.
Подумать только, вот от каких-то этих тряпок, которые даже не ткань, может зависеть жизнь человека. И мы здесь, болтая о том и сем, перебираем этот спанбонд, от которого эта жизнь зависит. Причем иногда и для кого-то – это жизни близких им людей. (Не секрет, разумеется, что первыми заказчиками маскировок были как раз те части, где служили родственники наших работниц). И когда только кончится эта проклятая война? А тут еще эта болезнь. Вынесут тебе диагноз, как серебряную пулю на блюдечке. Запихнут в больницу. А какая теперь больница, когда раненых полно. Не нами надо бы заниматься, врачей на всех не хватает. Но война войной, а рак по расписанию, так что ли? Как все не вовремя, как все смешалось…
Перед тем, как пойти домой, Александр Дмитриевич заглянул на кухню. Там никого не было, летний свет струился в окно. На столе стояло блюдечко с конфетами, а в него воткнута записка: «Помянуть р. Б. Ларису, работала здесь с нами». Саша, конечно, не мог догадаться, о ком конкретно речь, молча, механически снял конфету, перекрестился и подумал: «Вот и у нас потери, не только пятисотыми, но и двухсотыми».
Он шел домой, и снова рой прежних мыслей прямо-таки вломился ему в голову, ворвался без спроса. А все-таки хорошо уйти вот так, трудясь для своей родины, для победы. В чем-то эта Лариса уподобилась нашим воинам, ведь так получается. И уж как минимум, год-другой не валялась на одре, и срок ее полной нетрудоспособности не был слишком велик. Страшна не смерть, страшно умирание, вот этот противный период паразитарного угасания, когда ничего не можешь, когда вынужден привлекать к себе внимание, когда надо бы лечить не тебя и помогать не тебе. Может, мне Господь сократит те дни? Ради каких избранных сократит? Нет больше проблем стране, только вот с таким обрубком человека, как я, возиться…
Как они умирали
За обедом Александр Дмитриевич сказал жене:
– Я был уверен, что всех вас переживу, но, видно, ошибся. В общем, ты запомнила: хоронить меня там, на деревенском кладбище. Не вздумай выписывать дорогой гроб, по минимуму, вообще, социальный возьми в тряпочках. И никаких камней там не вздумай громоздить. Только железный крест, ну ты помнишь, – стоит за сараем.
Этот крест сам Саша пару лет назад увидел на кладбищенской свалке. По-видимому, изначально поставленный при похоронах, крест был просто заменен на памятник. Табличка была аккуратно откручена и снята. А крест на вид был совсем новеньким. Саше стало неловко видеть крест на помойке. Какой ни есть, но это все-таки крест. Саша вытащил его и принес на дачу. Лишь потом сообразил, что остается всего лишь только поменять табличку – и памятник себе самому уже готов!
Маша понимающе молчала. Саша добавил:
– И все, что там от моего похоронного вклада останется – на детей. Ну, то есть, на больных детей, свои сами справятся. При жизни не успел, – так хоть сейчас. А если война еще не кончится, значит, в ОНФ. И даже покрывала церковного не ищи. Возьми просто у Любы спанбонд, метра два с рулона смотай…
– Слушай, Саш, – грустно улыбнулась Маша, – ты бы сам себя и в могиле б закопал, тебе бы волю дать! То есть, лопату да силы. Ну, так же тоже нельзя. Не переживай, похоронят тебя, на лавке не оставят. Другие тоже позаботиться должны.
– Не надо, по крайней мере, тратить деньги на вздор, – отрубил Александр. – Не надо. Меньше места надо самому занимать в жизни вообще. Особенно, когда страна в огне.
– Ну, ты прямо, как мама.
– Да, Маша, как мама. Она меня бы сейчас одобрила. Она и о себе завещала то же самое. Ей-то ведь особого камня не ставили.
Так и было. Маму хоронили в родовой могиле на одном из московских кладбищ На общем памятнике просто дописали новое имя.
Про покрывало Саша, как говорится, просто сболтнул. Но когда вспомнил о новопреставленной бабушке, этот образ ему самому перестал казаться вздорным. На могиле летчика пропеллер не воспринимается вздором. Так и здесь было нечто подобное.
Прослушали последние известия, новости с фронта о занятых более выгодных позициях. Фронт пока стоит практически на месте. И у нас все пойдет по обычному распорядку. Саша завалился пораньше, пока чувствовалась усталость. Предчувствие не обмануло его: проснулся в серых сумерках белой ночи. Взял карандашик и отполз к столу, включив лампу. На бумагу ложились такие стихи:
- Ухожу, не дождавшись победы,
- Светлым утром июньского дня,
- К вам, прошедшим военные беды,
- Кто не вышел живым из огня.
- Свою первую ризу крещенья
- В белизне сохранить не смогла.
- Вдруг, как скорбное всем посещенье,
- К нам внезапно вломилась война.
- Вам, бойцы, словно собственным детям,
- Я пыталась по силам помочь
- И плела маскировочны сети,
- Но мне вызов пришел в эту ночь.
- На земле мы не встретим победу,
- Но на пир мы уходим иной,
- Только мне бы одеться к обеду,
- Пред Царем не остаться нагой.
- Мой духовный хитон изорвался
- И с годами совсем обветшал,
- Только там, на кушетке остался
- Маскировочный тот матеръял.
- Так пускай же хоть этим спанбондом
- Сам Спаситель оденет меня.
- Ухожу, раз Ему так угодно,
- Светлым утром июньского дня.
Рассвет только разгорался, как он снова лег в постель. Сон не шел, в голову лезли воспоминания.
Двадцать лет назад ушла крестная. Казалось, сам Господь отметил ее легкой кончиной. Всю жизнь она была верна Ему, не бросала церковь. В гражданском браке, не венчанном, жить не согласилась, замуж так и не вышла. Прошла все годы гонений, будучи певчей в храме до самой старости. Много переписывала от руки нот и книг, распространявшихся в самиздате. Давала людям, как могла проповедовала сама. Привела к вере и самого Сашу, тогда еще советского студента. До последнего дня была на ногах. Накануне пригласила маму, угостила чаем, почитали вместе акафист Успению. На следующий день просто почувствовала себя плохо, легла и за час отошла в вечность.
«Да, – думал Саша, – с такой жизнью такая и смерть, не смерть, а кончина. Только переход в иное состояние. Мне вряд ли так разрешат».
Вспомнил он и кончину обеих бабушек, которые верующими не были. То есть, это мягко сказано: они были жестко против Бога и церкви. Их последние дни были ужасными, и вспоминать не хотелось.
Саша продолжал перебирать в памяти старших, и как-то не мог остановиться. Оказалось, что проводил он в вечность множество знакомых, толстый заупокойный помянник, побывал на похоронах нескольких десятков человек, а вот собственно момента смерти так ни разу в жизни и не увидел. Да и слава Богу! Были среди них и верующие, вполне достойные по жизни люди, которые тоже умирали тяжело. Провести линейную зависимость между благочестием и обстоятельствами перехода не получалось. Что же именно ждет меня?
Впрочем, вскоре он прервал свои тягостные мысли подъемом, встал на молитву, перекусил и пошел на работу. А листочек стихов своих тихо положил на то же блюдо с конфетами.
Праздничный концерт
А через пару дней пришел праздник 12 июня. История и повод установления этого дня не радуют ни одного из российских патриотов, но Александр Дмитриевич раз навсегда решил праздновать день рождения первого российского Государя-Императора. Так и поздравлял всех в этот день. А недоумевавших спрашивал, в честь кого построен Исаакиевский собор в Петербурге, справляющий сегодня престольный праздник. Потихонечку добирался до Петра I.
Наши работницы-волонтерки праздники любили, они вообще были по жизни оптимистками. И поляну, конечно, накрывали. Так было и в этот раз. Да еще и с московской щедростью, насколько позволяли условия зала. Впрочем, как-то так всегда получалось, что и вилок, и табуреток всем хватало.
Рабочий день был объявлен сокращенным, и где-то с четырех началась нарезка сыров и колбас, заправка салатов человек на тридцать. Натурально, Саше с Мишей вручили штопор и бутылки, все как положено.
Не поймешь откуда взявши, на каком-то яшцке поставили ноутбук, колонки, завели военные песни. Первую рюмочку опрокинули за победу. После второй уже и сами начали петь караоке. А потом на серединку вышла Люба и попросила у всех минутку внимания. Возле ящика и колонок встала одна из работниц, Валя и взяла в руки микрофон. Стесняющимся тоном она попросила:
– Эту песню вы, конечно, знаете, но не торопитесь подпевать, послушайте. Там немного про нас.
Заиграла всем известная музыка Окуджавы про десантный батальон, а Валя запела, начав не спеша:
- Лишь птицы запоют,
- Как женщины встают,
- И вот для армии родной даешь бесплатный труд.
- Ждет избавления планета,
- А над Россией снова дым,
- И снова нам нужна одна победа,
- Мы за нее все наши силы отдадим.
Повторив строчку, она спела и припев:
- Пускай огонь нежданный
- Господь прочь отведет,
- А ты, соколик наш вернись желанный,
- Жена, и мать, и дочка тоже тебя ждет.
Все прямо-таки присели от неожиданности, а Валя продолжала, прибавив ритм, темп и громкость:
- Они не просто ждут,
- Укрытия плетут,
- И за укрытием таким враги вас не найдут.
- Покрой же Господи за это
- Того, кто нас закрыл собой,
- И снова нам нужна одна победа,
- Но не такою только страшною ценой,
- Но не такой, как прежде, страшною ценой.
«Да, – подумал Саша, – они ведь действительно сокращают цену нашей победы». А Валя продолжала:
- Мы танк укрыли ваш,
- Укроем и блиндаж,
- И скроется от вражьих глаз и взвод, и экипаж.
- Не пожалеем сил на это,
- Хотя порой едва скрипим,
- Но все же нам нужна одна победа,
- В конце концов, и за ценой не постоим.
Саша вспомнил почившую Ларису и проглотил комок. А пока Валя допевала припев, сзади вдруг появилась Арина, одетая в только что сплетенную накидку «лешего», перехватила микрофон и докончила:
- Костюм такой сошью,
- Чтоб скрыл тебя в бою,
- Ведь ты закрыл меня собой, спасая жизнь мою,
- А ты вернешься до рассвета,
- Живым вернешься, мой герой,
- Но прежде нам нужна твоя победа,
- Одна на всех и на двоих для нас с тобой.
Нет нужды описывать бурю аплодисментов. Девушек обнимали и целовали, а также бывших здесь солдатских жен и сестер, в сторону которых Саша и взглянуть боялся. Фотографировались, каждая просилась примерить «костюм лешего», чтобы сделать фото на память. А Люба улыбалась в дверном проеме, чувствуя, что номер, очевидно, продуманный ею, вполне удался.
Потом снова присели за стол и пригласили Александра Дмитриевича сказать третий тост. На минутку он собрался с мыслями и вывалил то, что прямо сейчас было у него на сердце, отчасти и плод ночных своих раздумий о кончине, доброй и не очень.
– Сестрицы, – начал он, – для начала я хочу поздравить вас с тем, что, скорее всего, в вашей жизни будет. У вас будет добрая старость, мир и покой с головой. Вам не будут мерещиться цыгане, роющиеся по квартире, вам не станет казаться, что кто-то ворует ваши деньги, – он широко улыбнулся: да и денег этих у вас особых-то, наверное, не будет, все переправите в банк Небесный. Мне кажется, что такие милости, как добрая старость и относительно не страшный переход, вы уже заработали здесь. Но это не все. Я надеюсь, кончится война, вы все ее благополучно переживете, дождетесь победы, но и тогда сердец не остудите. Именно теперь мы с вами вместе поняли одну простую истину: война это не столько про насилие и убийство, сколько про помощь и милосердие. Это наполовину про смерть, но на другую половину про спасение от смерти. И мы как раз на этой второй половине. Мы не защитники отечества, но, так сказать, по-футбольному: полузащитники. Вот ради чего нам послано это отвратительное испытание, которое всем нам ненавистно, но которое надо достойно дотянуть до победы. Из войны мы выйдем совсем не такими, какими входили в нее. Дарить себя и разделять чужую боль – вот дело Христово, которое Он исполнил в совершенстве, а мы – не в совершенстве. Те из вас, кто еще не успел этого понять, увидьте и протяните руку. Евангелие совсем недалеко от ваших сердец, вы там уже наполовину. Ну, а те, кто с Господом Иисусом уже целиком, те тоже не рассыплются, уже не смогут начать жить по-мирски, как все «нормальные», которые вообще никак не тут. Познав эту евангельскую тропу – дела милосердия, вы их не бросите и после войны. Вот собственно, за что и предлагаю тост.
