Братья Ярославичи бесплатное чтение
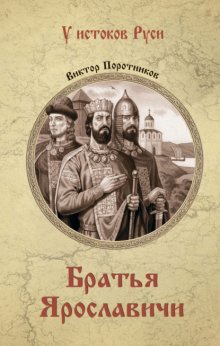
© Поротников В. П., 2024
© ООО «Издательство „Вече“», 2024
Часть первая
Глава первая. Семена раздора
В лето 6572 (1064) бежал Ростислав, сын Владимира, внук Ярослава, в Тмутаракань. С ним бежали Порей и Вышата, сын Остромира, воеводы новгородского. И, придя в Тмутаракань, выгнал оттуда Глеба Святославича.
Повесть временных лет
Лес стоял в ярком осеннем наряде, радуя глаз разноцветьем красок от багрово-пурпурных до розовато-жёлтых. Из ближних болот тянуло сыростью. В свежем чистом воздухе явственно ощущался запах опавшей листвы и сырой после дождя коры осины.
Большой конный отряд длинной вереницей тянулся по узкой лесной дороге. Под копытами коней влажно чавкала грязь. В колеях от тележных колёс стояла дождевая вода.
Впереди на сером поджаром коне ехал юноша лет девятнадцати в красном плаще и бархатной шапке с меховой опушкой. На юном безусом лице лежала печать глубокой задумчивости, в уголках плотно сжатых тонких губ притаились жёсткие морщинки. Это был Глеб, сын черниговского князя Святослава Ярославича.
По правую руку от Глеба, чуть приотстав, на вороном жеребце ехал воевода Гремысл в надвинутой на самые брови мурмолке[1], под плащом у воеводы виднелась кольчуга, на поясе висел длинный меч. Гремысл время от времени широко зевал и тряс головой, отгоняя дремоту. Он сбоку поглядывал на Глеба, но заговорить с ним не решался, понимая, как тяжко у того на душе.
Четыре года княжил Глеб в Тмутаракани, в этом далёком владении черниговских князей. Несмотря на свои юные лета, исправно собирал пошлину с купцов и брал дань с окрестных племён, наложенную на них ещё храбрым Мстиславом, двоюродным дедом Глеба. Честно отделял церковную десятину[2] епископу Варфоломею, посещал по праздникам службу в храме Пресвятой Богородицы. В суде был справедлив и к богатому и к бедному, на расправу не скор и в общении не заносчив.
Казалось бы, всем был хорош князь Глеб и перед людьми тмутараканскими, и перед Богом. Однако постигла его кара небесная, отвернули от него свой лик святые заступники его Лазарь и Афанасий. Чем ещё объяснить, что в один день лишился Глеб и княжества, и доверия народного, ибо люд тмутараканский предпочёл ему князя-изгоя Ростислава, едва тот вступил в Тмутаракань с дружиной.
«И откель токмо взялся этот Ростислав, любимец покойного Ярослава Мудрого? – размышлял Гремысл, борясь с зевотой. – Не иначе, надоело ему сидеть на Волыни, стеречь польское порубежье, захотелось подвигов ратных! А может, опять повздорил Ростислав с дядей своим Изяславом Ярославичем, великим киевским князем? И по всему видать, крепко повздорил, коль бежал аж в Тмутаракань!»
Воевода снова взглянул на хмурого Глеба и подавил тяжёлый вздох. Мается младень, весь путь от Тмутаракани до земель черниговских почти не ест и не пьёт, с лица сошёл, про сон позабыв. Гонит коней, вперёд да вперёд! От печали своей ускакать хочет, что ли? Иль не терпится ему пожаловаться отцу своему, Святославу? Покуда добрались до реки Сейм, и кони, и дружинники с ног валились, лишь в Курске Глеб дал денёк на роздых. Вот уже и через Десну переправились, осталась позади и река Сновь… До Чернигова рукой подать! Как-то встретит их князь Святослав?..
Чем ближе к Чернигову, тем чаще попадались на пути лесистые балки и глубокие овраги, тут и там приходилось переходить вброд маленькие речки и ручьи. Сёла вокруг сплошь были княжеские. Несколько раз княжеский тиун[3] либо подъездной[4] останавливал отряд, спрашивая, что за люди, куда путь держат. Глеб обычно отмалчивался, за него говорил Гремысл.
Наконец вдали над лесом показалась Елецкая гора.
Дорога сделала последний поворот, минуя холм, заросший сосновым бором, и взору открылся косогор над речкой Стриженью, по краю которого тянулся вал и деревянная стена Чернигова. Блестел в лучах солнца позолоченный крест на куполе Спасо-Преображенского собора, стоявшего на самом высоком месте детинца[5], выше крыш теремов и бревенчатых крепостных башен.
Глеб придержал коня, залюбовавшись открывшимся видом, затем снял шапку и перекрестился на кресты православного храма, блиставшие вдали. Вслед за молодым князем перекрестился и воевода Гремысл.
«Хвала Господу, добрались!» – подумал он.
Князь Святослав после первых радостных объятий и поцелуев едва узнал, по какой причине объявился Глеб в Чернигове, обратился к сыну с неласковыми словами:
– Я вижу, не к лицу тебе пришлась шапка княжеская! А может, не полюбился тебе стол тмутараканский, что отдал ты его Ростиславу, не вынимая меча. Чего молчишь? Ответствуй!
Тёмные брови Глеба слегка дрогнули. Он уже собирался ответить отцу что-нибудь резкое, но в этот миг к нему подбежали его младшие братья Давыд, Олег и Роман. С радостными возгласами и смехом они поочерёдно тискали Глеба в своих объятиях, хлопали его по плечу – всё-таки четыре года не виделись! – острили по-мальчишески и по-братнему.
– Признавайся, Глебка, сколь ты девок тмутараканских соблазнил? – смеясь, спросил Роман, переглянувшись с Олегом. – Аль все девки тамошние твои были?
– Гляди-ка на него, Ромка, – вставил Олег. – Глеб-то у нас одеждою лепый и ликом грозен!
– Как истинный князь! – с улыбкой заметил Давыд. – Усов токмо не хватает.
Однако бурное веселье младших братьев быстро пошло на убыль при виде каменной холодности старшего брата и тех взглядов, какими он обменивался с отцом.
– Не князь я ныне, а изгой! – резко сказал Глеб и в сердцах швырнул наземь свою малиновую парчовую шапку с собольей опушкой.
Братья в недоумении замолкли, улыбки погасли на их румяных лицах.
Олег и Роман удивлённо посмотрели на отца, когда тот, ругнувшись себе под нос, зашагал к крыльцу княжеского терема.
Святославовы и Глебовы дружинники разбрелись по широкому двору и как ни в чём не бывало завели разговоры о степных конях, на которых приехали многие Глебовы люди, о клинках восточной работы, о кочевниках-половцах, занявших все степи до самого Лукоморья…
– Что стряслось у тебя, Глеб? – негромко спросил Давыд. Он был на полтора года моложе Глеба, но нисколько не уступал тому в росте. Из всех сыновей Святослава эти двое были самыми высокими.
– Опосля поведаю, – нехотя ответил Глеб и тоже направился в терем.
Поздно вечером после невесёлого застолья, когда за столом в трапезной остались лишь Святослав и Гремысл, то между ними произошёл откровенный разговор.
– Ну ладно, сын мой покуда в ратном деле несмыслён, но ты-то, Гремысл!.. – раздражённо обратился к воеводе Святослав. – Ты-то, седой волк, куда глядел? Иль раздобрел ты на южном солнышке и про наказ мой забыл? А может, тебе самому Тмутаракань пришлась не по душе, потому ты и сбежал оттуда при первой возможности, да ещё и Глеба с собой сманил. Я ведь помню, как тебе не хотелось уезжать из Чернигова!
– Запираться не стану, княже, тамошняя земля не по мне, – закивал головой Гремысл. Он держался со Святославом на равных, поскольку вырос и возмужал вместе с ним. У Гремысла не было тайн от Святослава, как и у Святослава от него. – Кругом степь да камень, ни тебе лесочка, ни тенёчка. Зной такой, что кожа слазит клочьями, а волосы на голове выгорают до белизны. Ходишь как сивый мерин! Воды пресной мало, зато солёного питья вдоволь – целое море под боком. Людишки тамошние ох и ненадёжные, княже. Возьми хоть ясов[6], хоть греков, хоть хазар[7]… За всеми нужен глаз да глаз! А мы с Глебом не углядели… – Гремысл отхлебнул из чаши тёмного рейнского вина, крякнул от удовольствия и повторил: – Да, не углядели. – Бросив на Святослава весёлый взгляд, Гремысл произнёс с улыбкой: – Доброе у тебя вино, князь. Ох, доброе!
– Не у меня, а у княгини моей, – невозмутимо заметил Святослав. – Это ей, а не мне присылает германские вина её отец, граф Штаденский. Однако ты зубы мне не заговаривай, старый лис! Разговор к Ростиславу веди.
Гремысл, словно сокрушаясь над чем-то, покачал тёмно-русой головой и поставил недопитую чашу на стол.
– Я всё думаю, князь, как это Ростислав с дружиной своей сумел незаметно в город войти, – промолвил он, отправив в рот ломтик вяленой лосятины. – Не иначе, свои люди имелись у него в Тмутаракани среди хазар иль среди греков. Хотя я, говоря по совести, грешу на хазар!
– Почто, Гремысл? – Святослав пристально посмотрел в глаза воеводе.
– Тмутараканские греки в войске не служат, в отличие от хазар. Накануне прихода Ростислава тадун[8] хазарский зачем-то отлучался из города. Мне он сказал, будто ловил каких-то конокрадов. Я ещё подумал тогда, что не его это дело – за конокрадами гоняться. Он мог послать на это дело своих слуг.
Гремысл икнул и опять отхлебнул вина из чаши.
– Велика ли дружина у Ростислава? – поинтересовался Святослав.
Гремысл надкусил солёный огурец и, смачно жуя, стал перечислять:
– Пришло с Ростиславом сотни четыре новгородцев, волынян сотни две… да угров[9] около сотни… да половцев столько же. Ещё в дружине Ростислава были какие-то бродячие хазары – с полсотни, не больше.
– И вся дружина была конная?
– Вся, князь. Надо признать, кони у Ростислава вельми добрые!
– Чай, не добрее ваших! – сердито бросил Святослав.
Гремысл пожал плечами.
– Знаешь, княже, кого я узрел в дружине Ростислава? – Воевода взглянул на Святослава как-то по-особенному. – Ей-богу, не поверишь!
Святослав слегка прищурил свои светло-голубые глаза. Он пронзил Гремысла прямым требовательным взглядом: «Говори же!»
– Вышату Остромирича, новгородского тысяцкого[10], – сказал Гремысл.
Святослав гневно стукнул по столу кулаком, так что вздрогнула растянувшаяся на полу лохматая охотничья собака.
– Я за этих злыдней перед Изяславом заступался, а они вот как отплатили мне за добро! – воскликнул князь. – Наломали дров на Руси и за степными далями спрятаться надумали, горе-воители! Вот ужо доберусь я до них!..
Теперь уже Гремысл вопросительно посмотрел на князя, догадываясь, что ему неведомо то, о чём знает Святослав.
– Три месяца тому назад Ростислав покинул свой стольный град Владимир и нагрянул в Новгород с дружиной, – принялся рассказывать Святослав. – Мстислав, старший сын Изяслава, князь новгородский, встретил Ростислава по обычаю с хлебом-солью, а тот и молвит ему прямо в очи: «Не по праву ты, Мстислав, занимаешь стол новгородский, но по самоуправству отца своего. Дед наш Ярослав Мудрый мне завещал Новгород, и Ростов, и Суздаль иже с ним, а посему я здесь с мечом в руке. Либо тебе не княжить в Новгороде, либо мне не жить на белом свете!»
И почала дружина Ростислава рубить людей Мстиславовых. Сам Мстислав насилу спасся в Детинце новгородском, туда же сбежались верные ему бояре, их челядь и уцелевшие дружинники его.
Вышата Остромирич тем временем созвал вече на торгу и звал простых новгородцев постоять за Ростислава. Мол, Ростислав родился и вырос в Новгороде. Мстислава же гнать из Новгорода взашей и всех киевлян вместе с ним. Посадник[11] Порей ещё сильнее народ взбаламутил. Уж не знаю, про какие кренделя небесные он неслухам новгородским напел, токмо поднялась вся Торговая сторона за Ростислава.
Ростислав с дружиной занял Ярославово дворище и всё имение Мстислава разграбил. Потом чёрный люд и воинство Ростислава двинулись на Софийскую сторону, там возле церкви Сорока Мучеников случилась у них сеча с дружиной Мстислава и бояр новгородских. И одолели чёрные люди мужей лепших!
После сего поражения Мстислав затворился в Детинце и послал гонца в Киев к отцу, выручай, мол, а не то полетят наши головы с плеч! Изяслав живо исполчился и нагрянул в Новгород. Два дня Изяслав и Мстислав бились с Ростиславом и его сторонниками, немало воев своих положили, но всё же взяли верх. Ростислав ушёл из Новгорода. Было это в начале июля, как раз на Мефодия (3 июля). Затем, на Аграфену Купальницу (6 июля) зарядили дожди, дороги развезло. Изяслав погнался было за Ростиславом, да куда там, того и след простыл! Несколько дней не было о Ростиславе ни слуху ни духу. Токмо в Петров день (12 июля) объявился он в Ростове, подбивал тамошних бояр выступить с ним против Изяслава. Бояре ростовские отказались пойти за Ростиславом: своя голова дороже. Изяслав примчался в Ростов с дружиной, а ростовцы ему и говорят, мол, Ростислав к Волге подался.
Изяслав решил было, что Ростислав либо ко Всеславу Полоцкому уйдёт, либо обратно на Волынь. Он поспешил взять в заложники жену и детей Ростислава, дабы было чем торговаться с ним.
А Ростислав вдруг ко мне в Чернигов прискакал. Повинился он предо мной за злодеяния свои в Новгороде и чуть ли не на коленях умолял меня заступиться за него перед Изяславом, а нет – так, молвит, убей меня сам, ибо некуда мне деться. Жаль мне его стало, к тому же повинную голову и меч не сечёт. Отправил я послов к Изяславу с вестью, что Ростислав у меня, и просил за него в память об отце Ростислава Владимире Ярославиче, нашем старшем брате. Но Изяслав закусил удила и потребовал, чтобы я заковал Ростислава в железо и привёз к нему в Киев на суд. – Святослав глубоко вздохнул и откинул упавшие ему на лоб пряди волос. Затем он взглянул на Гремысла и жёстким голосом продолжил: – Мне бы исполнить повеление Изяслава и выдать ему Ростислава с головой, так нет же – гордыня во мне взыграла! Тут ещё супруга моя со своими советами влезла, в результате отказал я Изяславу. Не выдал ему Ростислава, на ком была кровь многих христиан, и даже посадил его князем в Курске. Токмо недолго княжил над курянами Ростислав. В Семёнов день (14 сентября) вышел он из города с дружиной и сгинул незнамо куда. Теперь-то мне понятно, в какую сторону направил Ростислав бег своих коней. – Святослав сурово сдвинул брови. – Стало быть, расправил крылья молодой орёл, желая взлететь повыше. Значит, Ростислав посчитал слишком захудалым для себя стол курский!
– Прости меня за прямоту, княже, но Глеб твой – не воитель, в отличие от Ростислава, – сказал Гремысл. Теперь он знал всё, что ему надлежало знать, как близкому другу Святослава, и постарался ответить откровенностью на откровенность. – Рассуждать здраво Глеб умеет и даже блистает умными изречениями в беседах с людьми духовными, но с дружиной своей он разговаривать не умеет. А князь должен жить с дружинниками своими душа в душу! Разве не так?
– Так, – согласился с воеводой Святослав.
– К тому же Глеб уж слишком набожен: с молитвой спать ложится, с молитвой утро встречает, – продолжил Гремысл. – Монахов да юродивых Глеб привечает как бояр. Всякие речи свои Глеб молвит, как по Святому Писанию, и поступки свои ладит по нему же. Вместо того чтобы с дружиной совет держать о том, как с Ростиславом совладать, Глебушка к епископу Варфоломею за советом обратился. А епископ, знамо дело, наплёл Глебу «не убий» да «не навреди», вот у того руки-то и опустились.
Пришёл Глеб ко мне и говорит: «Не подниму меч на брата, но уступлю ему стол тмутараканский, ибо не пристало христианину отвечать злом на зло». Я бы и рад был возразить на это, княже, но по лицу Глеба увидел, что не дойдут до него речи мои. Потому и смолчал.
– Ну и зря смолчал! – проворчал Святослав. – Может, твоё слово оказалось бы весомее епископского, потому как от сердца шло!
– Не умею я красно говорить, княже, – отмахнулся Гремысл, – тем паче с твоим разумным сыном. Ты вот сам потолкуй с ним, тогда поймёшь, что с ухватом к нему не подойдёшь и голыми руками его не возьмёшь.
– Чего теперь толковать, – хмуро обронил Святослав, – хороша ложка к обеду.
Долго сидели за столом князь и воевода, пили вино, вспоминали молодость, вновь и вновь заводя разговор о потерянной Тмутаракани. Что поделывает там сейчас Ростислав? Какие замыслы он лелеет?
Медленно оплывают толстые восковые свечи. Сгущаются осенние сумерки за разноцветными венецианскими стёклами узких окон гридницы[12]. Эти оконные стёкла являлись гордостью Святослава, немало серебра он отсыпал за них венецианским мастерам, проезжавшим в позапрошлом году через Чернигов от Лукоморья к Новгороду. В ясные, погожие дни от этих стёкол в тереме становится светлее и радостнее. Говорят, у византийского императора во дворце такие же стёкла в окнах вставлены. Что ж, Святослав не прочь хоть в чём-то утереть нос спесивым византийцам!
В это же время на женской половине терема текла другая беседа. В чистой уютной светлице с высоким сводчатым потолком и побелёнными каменными стенами восседали в креслах напротив друг друга Глеб и Ода, молодая супруга князя Святослава. Ода приходилась мачехой Глебу, трём его братьям и младшей сестре Вышеславе.
Первая жена Святослава, темноокая красавица из древнего боярского рода, умерла, не дожив и до двадцати трёх лет. Сильно любил её Святослав, плодом этой страстной любви стали четверо сыновей-погодков и дочь, при родах которой и отдала Богу душу горячо любимая Святославом Бронислава.
Отец Святослава, Ярослав Мудрый, не позволил сыну долго вдовствовать и через полтора года сосватал за него Оду, дочь графа Штаденского Леопольда. Святослав не стал противиться отцовой воле, понимая, что за этим браком стоит какой-нибудь важный замысел. Не за здорово же живёшь повыходили замуж за иноземных королей его сёстры Анна, Анастасия и Елизавета. Неспроста взял в жёны полячку Изяслав, старший брат Святослава. И другой брат его, Всеволод, не без отцовского умысла женился на гречанке. Третий брат Святослава, Вячеслав, тоже по отцовской воле соединился браком с немкой. Со всеми соседними государствами хотел породниться мудрый Ярослав Владимирович, всех могучих государей мечтал он опутать родственными узами с Киевской Русью. И наперёд спокойнее, ведь с родственниками всегда договориться можно, и для Руси почёт великий.
В ту пору, когда пышнотелая золотоволосая Ода прибыла в Киев, где должно было состояться венчание по православному обряду, Святославу было двадцать пять лет. А юной невесте только-только исполнилось шестнадцать. Ода не знала ни слова по-русски, и первое время она изъяснялась со своим суженым на латыни, которой в совершенстве владел и Святослав. Ода была поражена тем, что Святослав всего за год выучил немецкий. Оде же русский язык давался с трудом. Она, может, и быстрее освоила бы его, если бы не постоянные насмешки Святослава над её произношением. Святослав взирал свысока на всех чужеземцев, немцев же он считал законченными тупицами.
Первенец Святослава и Оды родился в том году, когда умер великий киевский князь Ярослав Мудрый. В честь отца Святослав назвал рождённого Одой сына Ярославом. В то время Святослав княжил во Владимире-Волынском, но по завещанию отца перешёл на черниговское княжение.
В Чернигове Святослав выстроил для себя двухъярусный просторный терем из белого камня на месте старого деревянного, расширил территорию детинца, приказав засыпать ров позади Спасо-Преображенского собора. При Святославе был обнесён деревянной стеной Окольный град, где проживал многочисленный торгово-ремесленный люд.
Чернигов приглянулся Оде вишнёвыми и яблоневыми садами, красивыми хоромами бояр с резными маковками на крышах, чудесным видом на речку Стрижень. Зелёные холмы и дубравы за речными удолами напоминали Оде родную Саксонию.
Постепенно Ода усвоила русские обычаи, но, даже соблюдая их, не все из них она принимала близко к сердцу. В своём тихом мирке среди служанок, прибывших вместе с ней из Германии, Ода находила отдохновение от сплетен боярских жён, от грубых шуток супруга, которого она уважала за многие качества характера, присущие рыцарю, но полюбить которого она так и не смогла. Ода утешала себя тем, что и мать её не любила её отца, выйдя за него замуж в пятнадцать лет. Она, как и Ода, впервые увидела своего будущего супруга за несколько дней до свадьбы.
Сердце чувствительной Оды по-настоящему встрепенулось, когда она однажды увидела белокурого красавца Ростислава. Случилось это четыре года тому назад на похоронах Игоря Ярославича, самого младшего из братьев Святослава. Вместе с Ростиславом на похороны приехала его жена Ланка, дочь венгерского короля. Ода чисто по-женски позавидовала тогда Ланке. Впрочем, не она одна. Анастасия, жена Всеволода Ярославича, тоже бросала украдкой долгие взгляды на статного Ростислава.
На траурном застолье Ода нарочно села рядом с Ланкой и сумела разговорить черноглазую венгерку. Ланка поведала Оде о том, что Ростислав держит обиду на дядю своего, киевского князя Изяслава Ярославича. Выгнал его Изяслав сначала из Новгорода, потом из Ростова, а ныне держит его на задворках Руси во Владимире-Волынском. Не любо Изяславу стремление Ростислава к первенству. И особенно не любо Изяславу то, что Ростислав имеет тестем венгерского короля, поэтому ему волей-неволей приходится считаться с племянником. Рассказала простодушная Ланка любопытной Оде и про горячий нрав Ростислава, про любовь его к охоте и к ратным подвигам, упомянув и про силу его недюжинную: «Подковы руками разгибает!»
После пира Ланка познакомила Оду с мужем. Оде только того и надо было! Слов между ней и Ростиславом в первой их беседе сказано было немного, но чего нельзя было сказать словами, то Ода постаралась выразить взглядом неприметно для Ланки. По глазам Ростислава Оде стало ясно, что не напрасны были её старания, удалось ей заронить в его сердце искру того расположения к ней, из которой со временем может вспыхнуть сильное чувство. На другой день при расставании – Святослав с женой уезжали в Чернигов – Ростислав признался Оде: «Вот уж не думал, что у дяди моего Святослава столь дивная супруга!» И поцеловал Оду троекратно. Затем так же троекратно расцеловался Ростислав и со Святославом. Оде это очень не нравилось – мужчины и целуются, как женщины! Но у славян свои обычаи.
Второй раз Ода увидела Ростислава почти через год в Киеве на Пасху. Там собралось всё потомство Ярослава Мудрого от сыновей до внуков. Сильно тогда разругались Ростислав с Изяславом, такого друг другу наговорили, что впору было обоим за мечи взяться! Пытались примирить их Святослав со Всеволодом, да без толку.
Узнав, что Ростислав вознамерился силой добыть себе Новгород, Ода потеряла покой и сон, молясь за него днём и ночью. Видать, услыхал Бог молитвы Оды, если не только уберёг Ростислава от мечей и копий, но и привёл его к ней в Чернигов. Святослав принял беглеца не столько из расположения к нему, сколько из желания досадить Изяславу, да ещё по настойчивому Одиному внушению. Уж Ода постаралась, настраивая Святослава против киевского князя!
Понимала Ода, что разум потеряла, но поделать с собой ничего не могла. К неизбежному шли её отношения с Ростиславом, покуда он жил в Чернигове. Истомились душа и плоть Оды, прежде чем появилась у неё возможность растаять в сильных объятиях Ростислава и принадлежать ему всецело. Случилось это единожды, когда Святослава не было в Чернигове, а вскоре Ростислав перебрался в Курск. Ода ломала голову над тем, чтобы без мужниных подозрений в гости к Ростиславу выбраться. Наконец Ода придумала благовидный повод и в путь собралась, но прискакал в Чернигов гонец из Курска с печальной вестью: сгинул её любимый Ростислав вместе с дружиной. Ушёл в половецкие степи и не вернулся.
…Ода сидела перед Глебом в длинном белом платье с длинными узкими рукавами, голова её была покрыта белым платком, укрывающим также ей плечи. Лоб княгини стягивал золотой обруч, на пальцах сверкали драгоценные каменья перстней. Княгиня выглядела спокойной, но то было показное спокойствие.
Ода чуть ли не силой увела Глеба от его братьев, которые уже пристали к нему с настойчивыми расспросами. По лицу Глеба, по поведению воеводы Гремысла младшие братья догадались: случилось что-то неладное, но что?.. Ода не позволила развернуться их жадному любопытству. Ей самой не терпелось узнать хоть что-то о Ростиславе, занимавшем все её мысли.
– Мы расстались с Ростиславом почти дружески, – неторопливо рассказывал Глеб. – Я подарил Ростиславу на прощанье свой Псалтырь. Как я понял с его слов, на Руси для него не осталось места по милости его дяди Изяслава.
– А про Курск Ростислав ничего тебе не говорил? – поинтересовалась Ода. – Отец твой посадил было Ростислава на курское княжение, но он вскоре ушёл оттуда. Ушёл незнамо куда…
– Нет, не говорил, – ответил Глеб. – Ростислав упоминал про Новгород, про Владимир и Ростов… В Новгород тянет Ростислава, ведь там погребён его отец.
Ода вздохнула про себя: ведает ли Ростислав, что её сердце тянется к нему? Чувствует ли он это в далёкой Тмутаракани?
– Ещё Ростислав о сыновьях своих сокрушался и о жене, – сказал Глеб. – Он просил, чтобы я уговорил отца своего проявить заботу о них, не дать излиться на голову Ланки гневу Изяслава. Со своей стороны Ростислав готов во всём подчиняться черниговскому князю, ибо признаёт за ним владение тмутараканское.
– А мне Ростислав ничего не просил передать? – спросила Ода, стараясь говорить ровным голосом. – Ни на словах, ни письменно?
Глеб вдруг смутился и слегка покраснел. В тонких чертах его безусого лица появилось что-то мальчишеское и наивное.
– Ростислав извиняется перед тобой, матушка, за то, что он оказался столь неблагодарным к твоему гостеприимству, и… – Глеб запнулся.
– И что? – как эхо отозвалась Ода. Её большие синие очи так и впились в лицо юноши.
– Ростислав кланяется тебе, матушка, – пробормотал Глеб, опустив взор.
Ода была на редкость прозорлива, к тому же она прекрасно разбиралась в мужчинах.
– Полагаю, Ростислав шлёт мне не поклон, а нечто иное, более приятное для всякой женщины, – с мягкой улыбкой произнесла княгиня. – Не так ли, Глеб?
Юноша покраснел ещё сильнее и сделал кивок головой.
– Ростислав шлёт тебе, матушка, свой поцелуй, – выдавил он из себя, не поднимая глаз.
Сердце Оды от радости запрыгало в груди, её улыбка стала ещё очаровательнее.
– Неужели, Глеб, я настолько тебе неприятна, что у тебя не возникает желания поцеловать меня? – промолвила Ода с едва уловимым акцентом, неизменно появлявшимся в её речи при малейшем волнении.
– Мы же поцеловались с тобой, матушка, при встрече, – по-прежнему смущаясь, проговорил Глеб и взглянул на Оду.
Конечно, Оде не дашь двадцать девять лет, и Глебу всегда приятно целовать её, однако в приятности этой было нечто такое, что слишком сильно кружит ему голову. За те четыре года, что Глеб не видел Оду, его мачеха похорошела ещё больше. А может, просто он сам стал старше и смотрит теперь на Оду не как на приёмную мать, но как на красивую молодую женщину.
Оде же во взгляде Глеба почудилась готовность немедленно поцеловать её. Она поднялась с кресла. Глеб тоже встал, решив, что разговор окончен и ему пора уходить. Однако в следующий миг Глеб догадался, почему так пристально и с таким явным ожиданием глядит на него Ода.
Глеб шагнул к мачехе с решимостью обречённого и наклонился: Ода была ниже его на целую голову. Глеб хотел поцеловать Оду в щеку, но та подставила ему губы. При этом Ода нежно обвила руками шею Глеба, продлив момент поцелуя. Ода и не догадывалась, что тем самым она исполнила давнее заветное желание Глеба.
– Ростислав не стал бы целовать меня сыновним поцелуем, – пояснила Ода, серьёзными глазами глядя на Глеба. – Ростислав многим обязан мне и… твоему отцу тоже. Понимаешь?
– Не совсем, – откровенно признался Глеб. – Мне показалось, матушка, что Ростислав неравнодушен к тебе.
– Тебе только показалось, мой дорогой. – Ода вновь улыбнулась и ласково провела ладонью по щеке Глеба.
– Нет, я уверен, что Ростислав влюблён в тебя, матушка, – сказал Глеб, в котором вдруг проснулся ревнивый мужчина.
– В таком случае прости его, – мигом нашлась Ода, – ведь христианину пристало прощать своего ближнего. Если дьявол и искушал Ростислава моими прелестями, то он переборол себя и уехал от меня аж вон куда – в Тмутаракань! Хотя, полагаю, истинная причина бегства Ростислава на юг отнюдь не во мне, ибо не было греха между нами и быть не могло. – Ода так посмотрела в глаза Глебу, что разом убила все его подозрения, если они и были у него. – Я рада, мой милый, что между тобой и Ростиславом не было вражды, ведь вы друг для друга двоюродные братья. Нет хуже зла, чем проливать родную кровь. Ты хоть и молод, Глеб, но тоже сознаёшь это. А вот отец твой не такой человек…
Уже лёжа на кровати рядом с супругом, Ода терзалась мыслями о том, как бы ей уменьшить гнев Святослава против ретивого племянника, как спасти красивую голову Ростислава от опасности, нависшей над ней. Дружина у Святослава сильная, а сам он грозен в рати! Даже Изяслав его побаивается.
Сон сморил Оду далеко за полночь, а когда она открыла глаза, то в окна опочивальни уже глядел серый осенний день. На широкой скамье у стены рядом с её одеждой лежала небрежно брошенная исподняя рубаха Святослава, а его самого не было в постели.
Ода окликнула Регелинду, свою любимую служанку. Регелинда бесшумно появилась в дверях.
– Приготовь мне тёплую воду, Регелинда, – повелела Ода, сидя на постели и сладко потягиваясь. – Чем занят мой муж? Где он сейчас?
– Господин поднялся чуть свет, велел седлать коней и отправился в Киев, – ответила служанка.
– Ступай, Регелинда, – промолвила Ода, бессильно уронив руки себе на колени.
Она опоздала со своими советами и увещеваниями. Быстрые конские ноги уже унесли скорого на решения Святослава далече от Чернигова. Не сегодня завтра Святослав встретится с Изяславом, неприязнь которого к Ростиславу лишь сильнее разожжёт пламя гнева в сердце вспыльчивого черниговского князя.
Ода закрыла лицо ладонями и заплакала от бессилия и отчаяния.
Встреча двух князей, двух братьев, произошла в белокаменном дворце, где некогда жил Ярослав Мудрый. Он же и выстроил для себя этот дворец на высоком месте недалеко от Софийских ворот. Зная гордый нрав Святослава, Изяслав поднялся с трона навстречу брату, едва тот вступил в просторный зал, сопровождаемый небольшой свитой. Бояре черниговские сняли свои собольи шапки и отвесили великому киевскому князю низкий поклон. Лишь варяг[13] Регнвальд поклонился не столь низко, как все.
Изяслав с радушной улыбкой обнял и расцеловал Святослава.
Глядя на этих двух братьев, трудно было заметить в них кровное сходство. Изяслава природа наделила высоким ростом и дородством, он был заметно выше Святослава. Длинные светло-русые волосы были расчёсаны на прямой пробор. Борода, короткая, аккуратно подстриженная, имела такой же цвет.
Глубоко посаженные серые глаза Изяслава часто глядели с лёгким прищуром, унаследованным им от отца, как и привычка во время смеха высоко задирать подбородок. Изяслав не гонялся за пышностью в одежде, поэтому, даже будучи великим киевским князем, он зачастую одевался скромнее многих своих бояр. Это качество Изяслав тоже унаследовал от своего отца Ярослава Мудрого.
Святослав, в отличие от Изяслава, был невысок, но широкоплеч и мускулист. Держался всегда подчёркнуто прямо, ходил с гордо поднятой головой. Его голубые холодные глаза взирали на мир то с язвительной иронией циника, то с невозмутимостью закоренелого прагматика. Волосы у Святослава были тёмные, подстриженные в кружок. Князь не носил бороду, зато имел длинные усы в подражание своему знаменитому прадеду Святославу Игоревичу, ходившему походом на Царьград и погибшему в сече с печенегами[14] на обратном пути. Святослав любил подчеркнуть своё княжеское достоинство богатством одежд и золотом украшений. Ему не нравилось, если кто-то из его приближённых одевался пышнее, чем он.
А ещё Святослав не выносил долгих предисловий, которые казались ему пустой тратой времени. Он не стал сыпать любезностями и на этот раз, но сразу перешёл к делу.
На известие, что Ростислав объявился в Тмутаракани, Изяслав отреагировал странным образом. Он явно обрадовался этому. Внимая Святославу, Изяслав не прятал довольной улыбки. При этом он часто кивал головой, что-то соображая и слегка теребя свою бороду. Неожиданно Изяслав перебил Святослава и заговорил совсем о другом.
Святослава это разозлило. Он прямо заявил брату, что приехал в Киев поговорить с ним о Ростиславе, всё прочее ему неинтересно.
Изяслав сделал удивлённое лицо и развёл руками.
– Так ведь распря с Ростиславом как будто разрешилась, брат, – сказал он. – Сел Ростислав в Тмутаракани, ну и чёрт с ним! Отдай ему Тмутаракань, брат. По-моему, там Ростиславу и место!
Изяслав оглянулся на своих думных бояр, стоящих полукругом возле трона, и прочёл одобрение на их бородатых лицах.
Однако такой оборот не устраивал Святослава.
– Отдай, говоришь?! – с недоброй усмешкой произнёс он. – Что же ты сам, брат мой, не уступил Ростиславу Новгород, откель он сына твоего едва не выгнал!
Доброжелательность на лице Изяслава сменилась холодной надменностью.
– Не понимаю я речей твоих, Святослав. Я следовал отцовскому завещанию, из коего выходит, что старший сын киевского князя должен в Новгороде княжить. Ростиславу же гордыня глаза застит, он мнит себя выше сыновей моих! Думает, коль погребён его отец в Софии Новгородской, значит, и стол новгородский ему принадлежать должен.
– А ведь ты лукавишь, брат, – язвительно усмехнулся Святослав. – Помнишь, когда отец наш впервые сильно занемог и призвал нас к себе, то он просил нас соблюдать старшинство в роду нашем. Просил, чтоб стол киевский переходил от старшего брата к младшему. А в конце своей речи отец добавил, что он желает оставить Новгород за Ростиславом и его потомством.
– Не помню я такого! – вдруг рассердился Изяслав. – Завещание отцово у меня хранится, там ясно прописано, что Ростиславу в удел достались Ростов и Суздаль. Про Новгород нет ни слова!
– Да ты и эти города у Ростислава отнял! – запальчиво воскликнул Святослав. – Свёл Ростислава на Волынь, хотя обещал его в Смоленске посадить князем.
– Ты зачем ко мне пожаловал? – накинулся Изяслав на Святослава. – Напраслину на меня возводишь! Я на киевском столе сижу и за всю Русь промышляю. И коль не угодил я чем-то Ростиславу, в том не моя вина, а его беда!
– Даже так? – Святослав приподнял свои чёрные брови и ядовито улыбнулся, как умел только он.
– Да вот так-то, брат! – высокомерно кивнул Изяслав.
– Тогда пусть твоё величие промыслит и про моего старшего сына, – сказал Святослав. – Посади-ка его князем в Смоленске. В таком случае я, так и быть, уступлю Тмутаракань Ростиславу.
– Неужто, брат, в твоей вотчине княжеского стола для Глеба не найдётся? – недовольно нахмурился Изяслав.
– А вот хочется мне видеть Глеба князем в Смоленске! – дерзко ответил Святослав.
– Хвала Господу, что не в Новгороде, – криво усмехнулся Изяслав и неторопливо направился к трону.
Бояре киевские заулыбались, а толстый Тука даже негромко захихикал в кулак.
Не доходя до трона, Изяслав обернулся и резко бросил Святославу:
– Знаю, давно ты метишь на смоленский стол, но там ныне сын мой княжит. Об этом ты забыл, что ли?
– А ты переведи Святополка в Туров иль в Вышгород, – проговорил Святослав, – да хоть во Владимире его посади.
Изяслав на мгновение дара речи лишился: уж не издевается ли над ним Святослав?
Теперь уже не только Тука, но и брат его Чудин, а за ним и воевода Коснячко дружно рассмеялись. Это были самые приближённые к Изяславу киевские вельможи.
– В уме ль ты, брат мой? – вновь заговорил Изяслав. – Чтоб я стал тебе в угоду княжескую лествицу рушить! Да ты не пьян ли?
На скулах у Святослава заиграли желваки от еле сдерживаемого гнева. Он сделал шаг вперёд, собираясь ответить старшему брату резкостью на резкость.
Внезапно двустворчатые двери на противоположном конце зала распахнулись, в обширный тронный покой вступила княгиня Гертруда, жена Изяслава. Великая княгиня буквально вплыла в зал, так легка была её походка. За Гертрудой следовали две служанки, державшие за нижний край длинный лиловый плащ княгини.
Гертруда была одета на немецкий манер в узкое платье-котту бирюзового цвета с пояском, спускающимся на бёдра. У платья был глухой закрытый ворот и обтягивающие рукава. Голова княгини была покрыта круглым платком из белой ткани с отверстием для лица. Поверх платка через лоб шла повязка, украшенная драгоценными каменьями. Служанки также были в узких длинных платьях, но более скромных расцветок.
Тот, кто видел воочию польского князя Казимира Пяста[15], мог легко заметить в чертах его сестры Гертруды столь характерные для Пястов густые светлые брови, нависающие над глазами, слегка припухлые, чувственные губы и удлинённые скулы. Если женственная природа смягчила в чертах лица Гертруды массивный нос её отца, князя Мешко[16], и выступающую нижнюю челюсть её племянника, князя Болеслава Смелого[17], то это отнюдь не умалило жестокости в характере Гертруды, а также её алчности, унаследованных этой властной женщиной от того и от другого.
Святослав первым поприветствовал Гертруду, едва та приблизилась к нему.
Лицо Изяслава не выражало радости при появлении жены. Гертруда что-то очень тихо прошептала супругу на ухо и сразу же повернулась к его брату.
– Здрав будь, Святослав Ярославич! – Княгиня сверкнула белозубой улыбкой. – Что, приехал поругать моего Изяслава? Поделом ему, будет меньше советников своих слушать. – Гертруда с неприязнью взглянула на киевских бояр и коротко бросила им через плечо: – Прочь ступайте!
Бояре с поклоном удалились из тронного зала. Коснячко хотел было остаться, но Изяслав молчаливым жестом велел выйти и ему. Воевода удалился с обиженным лицом.
– Зачем пожаловал в Киев, друг мой? – вновь обратилась Гертруда к Святославу. – Надолго ли к нам в гости? Вижу гнев на лице у тебя, с чего бы это?
Святославу было известно, какое сильное влияние оказывает Гертруда на Изяслава, поэтому он без утайки поведал ей о цели своего приезда.
– Опять Ростислав?.. – Гертруда нахмурилась. – Чувствую, Ростислав будет воду мутить, покуда его не угомонит стрела или копьё. И что же вы решили, братья?
Княгиня перевела взгляд своих карих глаз с мужа на Святослава и обратно.
– Я так мыслю, надо выбить Ростислава из Тмутаракани, – высказал своё мнение Святослав.
– А по мне, пусть Ростислав там и сидит! – отрезал Изяслав.
– Славно ты чужие княжеские столы раздаёшь, брат, – сердито обронил Святослав.
– А ты вспомни, что сам про Смоленск говорил, – язвительно ввернул Изяслав. – Смоленск к Киеву тяготеет, а ты к своим рукам его прибрать хочешь.
Изяслав и Святослав стояли друг против друга, сверкая глазами.
Гертруда печально вздохнула:
– Когда же, наконец, князья русские перестанут между собой Русь делить?
С чисто женской интуицией княгиня постаралась предотвратить назревающий скандал, пригласив Святослава отобедать в гостях. «За чашей хмельного мёда можно обо всём договориться», – сделала Гертруда пространный намёк.
Святослав принял приглашение.
Но и за столом в пиршественном зале примирения у братьев не получилось. Кусок не шёл им в горло, а отведав пенистого мёду, распалились оба пуще прежнего. Посыпались взаимные упрёки и обличения.
– Помнишь, брат, как недавно ты заступался передо мной за Ростислава, а ведь я требовал у тебя выдать мне его на суд. Ты же упёрся, как бык! Тогда Ростислав был люб тебе, почто же ныне он стал тебе не люб? – с кривой усмешкой промолвил Изяслав.
– Люб – не люб! Твои суды мне ведомы, великий князь, – голову долой, да и дело с концом! – рассердился Святослав. – Я просил тебя не за Ростислава, а за справедливость, которую ты попрал, отцовский завет нарушив.
– Воля отца нашего в грамоте прописана, и та грамота у меня хранится, – сдвинув брови, сказал Изяслав. – Ей я следую и в делах, и в помыслах своих!
– Не про те письмена я толкую, брат мой, и ты ведаешь об этом, но изворачиваешься предо мной, как угорь, – медленно проговорил Святослав, чеканя каждое слово. – Припомни-ка лучше устное отцовское завещание…
– Замолчь! – рявкнул Изяслав и с такой силой ударил кулаком по столу, что серебряная посуда зазвенела.
Воцарилась напряжённая тишина.
Бояре и дружинники обоих князей, замерев кто с чашей в руке, кто с куском мяса на ноже, ждали, что будет дальше. Перестала жевать и Гертруда, быстрым жестом подозвав к себе своего верного слугу, ляха[18] Людека.
Святослав поднялся со стула, глаза его горели гневом. Негромко заговорил он после краткой паузы, однако речь его услышали все, кто был за столом:
– На холопей[19] своих, брат мой, ты хоть криком изойди, а на меня орать не смей! Пусть ты – великий князь, но и на твою силу у меня сила найдётся.
Изяслав тоже встал со своего места.
– Грозишь?.. Мне?! Великому князю!..
Святослав отодвинул стул в сторону, намереваясь покинуть трапезную. Бояре черниговские поднялись из-за стола вслед за ним.
– Не захотел ты, брат, чтоб меж нами разум был, – с угрозой бросил Святослав Изяславу, – так пусть будет меч меж нами.
Черниговцы во главе со своим князем, топая сапогами по каменному полу, удалились из пиршественного зала.
Изяслав лишь в этот миг понял, что своей несдержанностью он сорвал переговоры с братом. К тому же разругался с ним напрочь! Святослав слов на ветер не бросает, дружина у него сильная, одолеть черниговцев в открытом поле – дело нелёгкое. Стоило ли Изяславу вообще затевать свару со Святославом из-за Ростислава!
Остынув, Изяслав послал вдогонку за Святославом воеводу Коснячко.
Воевода догнал черниговского князя и его свиту во дворе. Конюхи выводили из конюшни коней, седлали их и взнуздывали. Быстро собрался в дорогу Святослав.
Коснячко поклонился князю:
– Не гневайся, Ярославич. Одумался брат твой, зовёт к себе добрым словом перемолвиться. – И совсем тихо Коснячко добавил: – Нагнал ты на него страху!
Святослав усмехнулся:
– Не могу не подчиниться, коль сам великий князь к себе кличет. – Обернувшись к своим боярам, Святослав властно промолвил: – Ждите меня здесь и коней держите наготове. Чаю, недолгая будет беседа у нас с братом.
Изяслав ожидал Святослава в небольшой светлице на два окна. Он стоял за высоким наклонным столом и перебирал какие-то бумаги. Святослав вошёл и снял шапку. Коснячко предупредительно затворил за ним дверь, обитую медными полосами крест-накрест.
– Вот! – Изяслав протянул брату пергаментный свиток. – Читай отцову волю.
Святослав беззвучно ухмыльнулся. Как будто ему неведомо отцовское завещание! Он сразу узнал и этот жёлтый пергамент, и красную печать на нём.
– Да ни к чему это… – обронил Святослав и по памяти процитировал первую половину завещания до того места, где упоминались Ростов и Суздаль, завещанные Ростиславу.
Изяслав развернул свиток, пробежал его глазами и удивлённо посмотрел на Святослава.
– Дивлюсь я тебе, брат, – не то с восхищением, не то с недоумением проговорил он. – Единожды увидел ты написанное и на всю жизнь запомнил!
– И я дивлюсь тебе, княже киевский, – в тон брату сказал Святослав, – нарушаешь завет отцовский и не сознаёшься в этом.
– Ты мне начало завещания напомнил, а я тебе напомню конец его, – промолвил Изяслав и громко прочитал: – «Князь же киевский да будет старшим над всеми князьями и вершит свою волю над ними по своему разумению, но во благо земле Русской».
Изяслав поднял глаза на Святослава, словно желая уличить того в недомыслии.
Однако Святослав внимал Изяславу вполуха, оглядывая лари и полки с толстыми книгами в обложках из кожи. Книгами была завалена вся комнатушка.
– У отца нашего книги на видном месте стояли, а ты, брат, спихал их невесть куда, будто хлам ненужный, – упрекнул Святослав Изяслава. – Ежели книги в тягость тебе, так хотя бы мне их отдай или Всеволоду. Он-то книги лелеет, не чета тебе!
– Я тебе не о том толкую, – вскипел Изяслав. – Согласно завещанию, я старший над вами, и мне решать, кому какой стол дать или не дать!
– Эх, брат мой… – Святослав со вздохом присел на окованный медью сундук. В голосе его и во взгляде почувствовалась мягкость. – Разве ж обличать тебя я сюда приехал. Разве ж не понимаю забот твоих!.. Но пойми и ты меня! Ослушался я тебя, каюсь. Господь наказал меня за это злодейством Ростислава. За помощью я к тебе приехал, а ты меня вон выставляешь.
– Помилуй, брат! – Изяслав торопливо скатал пергамент в трубку и убрал в ларец. – Я ведь сказал лишь, что неплохо бы оставить Ростислава в Тмутаракани, только и всего. А ты распалился! Да было бы с чего! Иль земель у тебя мало, что ты за Тмутаракань держишься?
– Ты Днепровские пороги оседлал, брат мой, – недовольным тоном заговорил Святослав, – в Новгороде старшего сына посадил, на юге и на севере пошлина с купцов в твою мошну сыплется. Теперь ещё Волжский торговый путь к рукам прибрал вместе с Ростовом и Суздалем. А мои земли черниговские – как остров посреди болота: что на нём произрастает, тем и живём. Лишь в Тмутаракани, земле дедовской, отсыпалось мне злато-серебро от гостей заморских. И вот злато сие ныне не моё, а Ростислава.
– Чего же ты от меня хочешь? – спросил Изяслав.
– Хочу, чтоб ты помог мне изгнать Ростислава из Тмутаракани, – ответил Святослав. – Подспорья жду от тебя, брат.
– А ежели решение моё будет таково, что быть Ростиславу князем в Тмутаракани. Что тогда станешь делать, брат?
– Не бывать этому! – Святослав сдвинул брови. – Ты от своей выгоды не отступаешься, брат, а почто я должен от неё отступаться!
Изяслав задумался. Не хотелось ему уступать Святославу, ведь он не просит, а почти приказывает! Не хотелось Изяславу тащиться с войском через обширные степи к далёкому Лукоморью. И куда потом деть Ростислава, изгнанного из Тмутаракани? Святославу хорошо рассуждать о справедливости, не в черниговские земли побежит Ростислав. Побежит он, скорее всего, в Изяславовы владения, а то ещё хуже – к венграм подастся. А что если король венгерский даст войско Ростиславу, тогда придётся Изяславу отдуваться одному за всех братьев. Святослав со Всеволодом вряд ли поспешат к нему на помощь, далеки их земли от венгерского порубежья. Нет уж, пусть Ростислав лучше сидит в Тмутаракани!
Собравшись с духом, Изяслав объявил об этом Святославу.
Святослав смерил брата презрительным взглядом:
– Может, скажешь ещё, что сие во благо земле Русской? Иль ещё что-нибудь из отцовского завещания зачитаешь? Одинаково мы с тобой его читаем, да по-разному разумеем, брат мой. Прощай!
Вышел из светёлки Святослав и в сердцах дверью хлопнул.
Изяслав сел на стул, задумался. Не уступил он Святославу, не пошёл у него на поводу, однако радости на душе от этого не было. Наоборот, снедает Изяслава то ли тревога, то ли предчувствие недоброе. Ведь не отступится Святослав, покуда не выгонит Ростислава из Тмутаракани. Упрям он и жаден!
«Более жаден, чем упрям! – думал Изяслав. – Разве отдаст Святослав столь жирный кусок Ростиславу, да ни за что! А Ростислав тоже хорош, знает, что урвать, – не Новгород, так Тмутаракань. Этого удальца токмо в порубе[20] и держать, иначе хлопот с ним не оберёшься!»
Воевода Коснячко ещё сильнее расстроил Изяслава, сообщив ему, что Святослав и его свита повернули коней не к Чернигову, а к Переяславлю.
– Святослав наверняка станет Всеволода подбивать супротив тебя, княже, – молвил воевода. – Уж больно злой он вышел из твоих покоев.
Ничего не сказал на это Изяслав, а про себя подумал: «Святослав упрям, а Всеволод хитёр, недаром он в любимцах у отца нашего был. Всеволод чужого ума не купит и своего ума никому не продаст. С такими братьями мне надо ухо востро держать!»
Знал и Святослав, что Всеволод прежде поразмыслит, прежде чем к делу приступить. И не на всякое дело Всеволода можно с места сдвинуть. А посему разговор с ним Святослав начал издалека:
– Мнится мне, что брат наш Изяслав более супруге своей внимает, нежели боярам своим. А вокруг Гертруды немало ляхов крутится. Среди них, сказывают, и люди германского короля мелькают, и послы папы римского. Недавно папский легат часовню латинскую освящал в Киеве, так на событие это латиняне набежали, как мыши на крупу. Посол чешский там был и моравский иже с ним, и ляхов целая прорва!
– Чему ж дивиться, брат, то всё наши братья-славяне, – пробасил сивоусый Всеволод, – живём мы с ними рядом, говором и обычаями с ними схожи.
– Говором схожи, но по вере разные, – ввернул Святослав. – Над западными славянами папа римский длань простёр, а над Русью Константинопольский патриарх. Вот и моя княгиня пристаёт ко мне, мол, построй да построй церковь латинскую в Чернигове. Видишь ли, немцев к ней приезжает немало каждое лето, а помолиться бедным негде. Я бы и рад воздвигнуть храм латинский, токмо митрополит киевский запреты мне чинит. – Святослав хитро усмехнулся. – Мне запрещает митрополит латинские храмы ставить, а Изяславу, видимо, запретить не может!
– У Изяслава с митрополитом вражда недавняя, но злая, – задумчиво промолвил Всеволод. – Вот уже десятый год пошёл, как патриарх византийский предал анафеме папу римского и весь клир его. Выходит, что Изяслав на еретичке женат, с еретиками знается и об их благе печётся. Сие митрополиту ох как не по душе, ведь он родом грек. Не гнать же в самом деле Изяславу мать детей своих за то, что родня её латинской веры.
– Гертруда, слава Богу, православие приняла, когда замуж за Изяслава выходила, – сказал Святослав. – А вот ляхи, кои с Гертрудой в Киев приехали, веры латинской не поменяли. Через них Гертруда мужа своего с толку сбивает.
– Властолюбия Гертруде не занимать, – улыбнулся Всеволод, – да и умна она – всякого человека насквозь видит.
– Вот Изяслав-то под её дуду и пляшет! – сердито заметил Святослав.
Всеволод спрятал усмешку в своей густой русой бороде: с обидой на Изяслава приехал к нему Святослав. Из-за чего же у братьев его раздор случился? Не из-за храма же католического! Ясно одно – желает Святослав видеть во Всеволоде союзника против Изяслава.
Разными были сыновья Ярослава Мудрого и по внешности, и по нраву, и по воспитанию. Изяслав до мудрости книжной с детских лет был не охоч, но и от учения он сильно не отлынивал. До ратных дел Изяслав тоже был не охотник, более всего он любил пиры и застолья. Простоват умом был Изяслав и на советах речами не блистал.
Святослав во всём, пожалуй, кроме силы физической, превосходил старшего брата. Был он изворотлив умом, силён в языках иноземных и во многих знаниях сведущ. Ратного дела Святослав не сторонился и в застолье мог перепить кого угодно, только успевай ему вина подливать. Святослав был любимым сыном великой княгини Ирины, супруги Ярослава Мудрого. Ирина была родом из Швеции. Она обучила Святослава наречию варяжскому и часто называла его варяжским именем Хольти. А у великого князя Ярослава Мудрого любимым сыном был Всеволод.
Всеволод унаследовал от отца густые русые волосы, тонкие губы и нос с едва заметной горбинкой, от матери-варяжки ему достались голубые глаза, белая кожа и спокойный нрав. Ростом и статью Всеволод пошёл в своего деда Владимира Святого. Однако при своей могучей дородности Всеволод имел небольшие ладони и ступни ног, чем радовал отца и мать. В те далёкие времена это считалось признаком царственности и доказательством высокородности. У Святослава руки и ноги тоже были небольшими, но при его невысоком росте это казалось естественным.
С юных лет во Всеволоде проявлялось его неизменное благородство и богопочитание, а также непомерная усидчивость за книгами и тяга к многознанию. Если Святослав запоминал всё сразу и легко, то Всеволод преодолевал все трудности учения терпением и настойчивостью. Часто Всеволод оставался за книгами один, в то время как его старшие братья убегали купаться к Почайне-реке или седлали коней для соколиной охоты.
Когда Всеволод возмужал, князь Ярослав частенько коротал с ним долгие зимние вечера, обсуждая походы и деяния древних греческих царей и полководцев, перечитывая при пламени светильников византийские хроники Георгия Амартола и Прокопия Кесарийского. Из всего прочитанного князь Ярослав пытался уразуметь для себя то непостижимое для непосвящённого ума свойство на примерах из далёкого прошлого уметь делать правильные решения в жизни настоящей. Дабы не повторять чьих-то ошибок, не направлять помыслы свои на заведомо гиблое дело, ко всему подходить с умом, а не с норовом в сердце.
Крепко запомнил Всеволод отцовские наставления. И сейчас, глядя на Святослава, он старался понять: что таит в себе его брат, чего недоговаривает?
«Видать, мне на роду написано разнимать братьев своих, когда они ввергнут нож меж собою, – подумал Всеволод. – На много лет вперёд зрил мудрый отец наш, предрекая мне это».
– Латиняне по всей земле Русской распространились, как саранча, – молвил Святослав. – Поляки в Киеве – как у себя дома. Немцы торговые дворища себе понастроили в Новгороде и Смоленске, у меня в Чернигове отбою от них нет. Церкви латинские растут как грибы то тут, то там! А брат наш Изяслав, сидя на столе киевском, пирует иль гривны[21] считает. За него Гертруда дела вершит.
– Наговариваешь ты на брата нашего, Святослав, – вступился Всеволод за Изяслава. – Вспомни-ка, сколь раз Изяслав ходил в походы то на ятвягов[22], то на голядей[23], то на торков[24]…
– Ну, на торков-то мы втроём ходили, да ещё Всеслава Полоцкого с собой в набег зазвали, – сказал Святослав. – Токмо бежали торки от воинства нашего, не дошло дело до сечи.
– Не возьму я в толк, брат мой, когда и где Изяслав дорогу тебе перешёл, – проговорил Всеволод, вглядываясь в лицо Святослава. – Неужто зуб у тебя на него?
Помрачнел Святослав и хмуро ответил:
– Высоко сидит Изяслав, да низенько мыслит. Думает, стал великим князем на Руси, так воля его – закон. Чужим именьем распоряжается, как своим. По завещанию отцовскому старший брат должен быть праведным судьёй между нами, но не самовластцем!
Не смог догадаться Всеволод о причине недовольства Святослава, пока тот не заговорил о Ростиславе, о том, где он ныне утвердился князем незваным.
– Мстит мне Изяслав за то, что ослушался я его в своё время и не выдал ему Ростислава на расправу, – продолжил Святослав. – А ты выдал бы молящего о защите, брат?
– Не выдал бы, – честно признался Всеволод.
– Как думаешь, справедливо поступил Изяслав, отняв у Ростислава Ростов и Суздаль? – вновь спросил Святослав.
– Высшая справедливость лишь от Бога, – уклончиво ответил Всеволод, – а у смертных человеков иное справедливое устремление может обернуться злом или напастью. Я мыслю, не со зла перевёл Изяслав Ростислава из Ростова во Владимир.
Такой ответ Всеволода не понравился Святославу: изворачивается его брат!
– Может, и не со зла, но и не без заднего умысла, – мрачно заметил Святослав. – Хоть и глуп Изяслав, но подметил, что Ростислав на Новгород зарится и сторонники там у него имеются. Вот и убрал Ростислава подальше от Новгорода, на западное порубежье. Чем это обернулось, ты знаешь, брат. Теперь вот мне предстоит изгонять Ростислава из Тмутаракани…
Почувствовал Всеволод, что наступил момент, когда Святослав выскажет, наконец, цель своего приезда, и насторожился.
Прокашлялся Святослав, затем вымолвил:
– По весне двину полки свои через Степь на Тмутаракань. Призываю и тебя, брат, в помощь. Не ведаю, как дело повернётся. По слухам, дружина у Ростислава сильная. Что скажешь?
– Не могу я немедля дать ответ, с боярами мне посовещаться надо бы, – замялся Всеволод. – Путь в Тмутаракань неблизкий, дорога незнаема.
– Пути до Тмутаракани мне ведомы, – сказал Святослав.
– Вот соберу бояр своих, переговорю с ними, тогда и ответ свой дам, – стоял на своём Всеволод. – А ты, брат, пока отведай угощения моего, с княгиней моей потолкуй. Она давеча о тебе спрашивала, сетовала, мол, забыл про нас князь черниговский. Ты же вдруг тут как тут!
Всеволод засмеялся и похлопал Святослава по плечу. Святослав нехотя улыбнулся.
Держал совет Всеволод со своими самыми верными людьми. По старшинству справа от князя сидели воеводы Ратибор и Никифор, слева – варяг Шимон. Далее расположились на скамьях: Иван Творимирич, Гордята Доброславич и Ядрей, сын Бокши. В сторонке от всех сидел боярин Симеон.
Выслушав князя, бояре недолго размышляли.
– Не будет мира на Руси, покуда жив Ростислав, – сказал воевода Никифор. – Отсюда понятно желание Изяслава, чтобы Ростислав в Тмутаракани остался.
– Но и Святослав справедливого требует, желая вернуть себе Тмутаракань, – возразил боярин Ратибор. – Упрекать его в этом нельзя.
– Значит, по-твоему, друже Ратибор, мне надлежит протянуть руку помощи Святославу. Так? – спросил Всеволод.
– Именно так, княже, – ответил Ратибор.
– Лучше быть с кем-то из братьев своих, нежели в стороне отсиживаться, – сказал Шимон, всегда благоволивший к Святославу. – Сегодня мы черниговцам поможем, завтра они нам помощь окажут.
– Пособить Святославу, конечно, следует, однако не задаром, а за деньги, – высказал своё мнение Ядрей, сын Бокши.
– В таком деле подмога важна бескорыстная, – сказал Ратибор. – Святослав ведь не к польскому князю обращается, а к родному брату.
– Но и за здорово живёшь двигать войско в такую даль тоже неразумно, – нахмурился Всеволод.
– А зачем нам двигать войско? – пожал плечами Ратибор. – Надо уговорить Изяслава сделать это, благо время до весны ещё есть.
– А коль откажется Изяслав? – спросил Всеволод.
– Вот тогда и выступим сами, – промолвил Ратибор.
…Покуда Всеволод совещался со своими боярами, Святослава в это время развлекала застольной беседой княгиня Анастасия. Супруга Всеволода была белолица и темноглаза, с прямым точёным носом, с яркими сочными губами. В прошлом месяце Анастасии исполнилось тридцать лет, но она была всё так же по-девичьи стройна и подвижна. Прежде чем начать потчевать гостя медами да пирогами, княгиня представила Святославу своих детей: тринадцатилетнюю дочь Янку, десятилетнюю Марию и одиннадцатилетнего сына Владимира.
Святославу было ведомо, как любила и почитала Анастасия своего отца, византийского императора Константина Мономаха. По этой причине Анастасия частенько называла своего сына не славянским именем, а отцовским прозвищем Мономах. Всеволод сильно любил свою жену-гречанку и во многом уступал её желаниям. Так, младшая дочь его, Мария, была названа в честь матери Анастасии, а старшая помимо славянского имени Янка имела другое имя – Анна, в честь бабки Всеволода, греческой принцессы Анны, ставшей женой Владимира Святого, отца Ярослава Мудрого.
Немало греков жило при дворе переяславского князя, много приезжало их сюда в летнюю пору: торговые гости, священники, умельцы разные, послы императора… Константин IX Мономах умер в один год с Ярославом Мудрым. Ныне на троне державы ромеев сидит Константин Х Дука, сменивший перед этим ещё двоих недолговечных императоров.
Дворец Всеволода в Переяславле не уступал размерами и великолепием дворцу Изяслава в Киеве. В этих чертогах всё было на византийский манер: и мозаичные полы, и светлые залы, и колонны из белого мрамора, и широкие каменные лестницы…
Анастасия сидела напротив Святослава. На ней было зауженное в талии длинное платье из блестящей тёмно-красной тафты[25], расшитое узорами из золотых ниток. Голову княгини покрывала полупрозрачная паволока[26], стянутая на лбу диадемой с вделанными в неё драгоценными каменьями. Лучи заходящего солнца падали через окно на прекрасное лицо Анастасии, озаряя его мягким розоватым светом. Бериллы и сапфиры то вспыхивали, то гасли на диадеме княгини при каждом движении её головы. Ярко блестели на солнце и ослепительно-белые зубы Анастасии, когда она улыбалась.
Святослав, внимая супруге Всеволода, невольно забывал про стоящие перед ним яства. Он не мог оторвать глаз от её прелестного лица, а мелодичный голос княгини просто завораживал его.
– Почто же ты, князь, супругу свою не взял с собой, к нам направляясь? – молвила Анастасия. – С прошлой Пасхи я не виделась с Одой. Как её здоровье?.. Сыночек твой Ярослав недавно грамотку мне прислал, так я попросила Янку тоже написать письмо Оде, поделиться с нею своими секретами. При последней встрече Ода и Янка очень мило беседовали, как две близкие подруги. – Анастасия подняла кубок с греческим вином. – Твоё здоровье, князь!
Святослав поднял свою чашу.
Терпкое виноградное вино приятно обожгло ему гортань, и сразу разлилось тепло по жилам, а в голове ощутилась странная лёгкость, все тяжёлые мысли враз улетучились. Славное вино у ромеев!
– Видишь ли, милая княгиня, путь мой изначально лежал в Киев к брату Изяславу, весточку одну я хотел ему переказать, – заговорил Святослав. – Однако не по душе пришлись мои речи киевскому князю. Дедовская самонадеянность проснулась в нём! Поругались мы с Изяславом. И понял я тогда, что некуда мне ехать, кроме как к брату Всеволоду. Он ежели и не подсобит, так хоть утешит иль дельное что-нибудь присоветует.
– Не пристало братьям родным ссориться по пустякам, – сказала Анастасия. Она свободно говорила по-русски, без всякого акцента. – Родная кровь не ссорить, а мирить должна.
«Хороши пустяки!» – усмехнулся про себя Святослав, а вслух произнёс:
– Супруга моя жива-здорова. Кабы знала Ода, что я в Переяславль приворочу, непременно со мной в дорогу напросилась бы. Вскружила ты ей голову, княгинюшка, нарядами своими богатыми. С прошлой весны Ода всё шьёт да примеряет, сколь камки[27] и парчи[28] извела на платья, не на одну сотню гривен!
– Оде с её фигурой любое платье к лицу, – улыбнулась Анастасия.
– Да уж не обидел Бог мою жену роскошными прелестями, – согласился Святослав, подумав при этом: «Ума лишь недодал!» – Старшие сыновья мои на равных себя с мачехой держать норовят. Иной раз и пошутят вольно при ней, а то и взглядом смелым обласкают, особливо Роман. А язык у него, что помело!
– Роман у тебя – красавец писаный, княже, – с улыбкой заметила Анастасия. – Хочу я познакомить с ним дочерей своих, покуда кто-нибудь другой на него глаз не положил. От тебя отказу не будет?
– Не будет, княгинюшка, – ответил Святослав. – Дочки твои, что маков цвет!
– Роману ведь пятнадцать ныне исполнилось? – поинтересовалась Анастасия.
– Пятнадцать, – кивнул Святослав. – Дурень дурнем!
– Олег, кажется, на год постарше Романа? – уточнила Анастасия.
Святослав снова кивнул.
– Ежели в Романе удаль сразу бросается в глаза, то в Олеге достоинство проступает, серьёзен он не по годам, – сказала Анастасия, голос и взгляд которой говорили о том, что приглянулись ей сыновья Святослава.
В дальнейшем разговоре Анастасия посетовала Святославу на то, что не отпускает её Всеволод в Константинополь, где она не бывала со времени похорон своего отца.
– Кажется, целую вечность не видела я бухту Золотой Рог, не слышала колоколов Святой Софии, не гуляла по залам дворца во Влахерне, – вздыхала Анастасия, лицо её обрело печальную задумчивость. – Всеволод постоянно находит какие-нибудь отговорки, думает, стоит мне покинуть Русь, так напасти на меня и посыплются. Ну не глупость ли это, Святослав?
– Дорожит тобой Всеволод, – с улыбкой произнёс Святослав, – тебе надо быть ему благодарной за такую заботу.
Облачко лёгкого раздражения коснулось красивого лица Анастасии.
– Такая забота более похожа на тяжкие оковы! – вырвалось у княгини.
В этот миг догадался Святослав, что не всё гладко у Всеволода в отношениях с женой, но виду не подал. В душе Святослав даже согласился со Всеволодом: красавицу Анастасию опасно надолго в дальние дали отпускать. Ведь в царстве ромеев порядка никогда не было, вечно там заговоры и кровь льётся рекой!
– Слышал я от купцов, будто безбожные сельджуки[29] в пределы византийские вторглись с востока и рать их бесчисленна, – сказал Святослав. – Нелёгкая война предстоит ромеям.
– С востока испокон веку накатываются кочевые орды одна за другой, византийские полководцы привыкли к этому, – пожала плечами Анастасия, – а бесчисленных ратей не бывает, князь. До Константинополя сельджуки никогда не доберутся!
– Как знать… – Святослав почесал голову. – Ведь арабы в былые времена осаждали Царьград.
В следующий миг Святослав пожалел о сказанном, заметив по глазам Анастасии, что явно не по душе пришлись ей последние его слова.
«На Руси живёт гречанка Анастасия, детей рожает от русского князя, княгиней русской величается, а сердце её всё же в Царьград стремится, – мелькнуло в голове у Святослава. – Вот так и Ода моя: телом со мной, а думами в Саксонии».
Задул холодный северо-восточный ветер – листобой. Поредели вершины деревьев под его напором. Потянулись на юг перелётные птицы.
Прячется барсук в норе. Линяет заяц-беляк. Наступает пора гона у лосей, оленей и могучих туров. Недаром на Руси октябрь называли «ревун».
В Покров день, когда припорошило землю первым снежком-легкотаем, собрался князь переяславский в Киев. По уговору со Святославом должен был Всеволод перемолвиться с Изяславом об участи Ростислава. Меч недолго из ножен вынуть, не лучше ли прежде постараться миром договориться с Ростиславом. Может, одумается Ростислав и вновь сядет во Владимире, хотя, конечно, было бы честнее вернуть ему обратно Ростов и Суздаль. Если бы Изяслав помог Святославу вернуть Тмутаракань и не обидел бы при этом Ростислава, то крепкий мир установился бы на Руси.
Об этом размышлял Всеволод, выезжая во главе небольшой дружины через Епископские ворота Переяславля в степь, побелевшую от снега. О том же думал Всеволод в пути, глядя то на густую гриву коня, то устремляя взор вперёд, к темнеющему вдали лесу. В сёлах близ дороги над соломенными кровлями избёнок вьётся дым, тёмные фигурки баб спешат к речке за водой. Скирды сена желтеют на опушке леса. Мир и покой на земле Русской!
Всеволод невольно вздыхает: всегда бы так!
От степняков немало отваливается бед. Не хватало, чтоб ещё князья русские свары меж собой учиняли! С этого и нужно начать разговор с Изяславом. Неужто он не поймёт? Неужто не согласится со Всеволодом?..
На второй день пути вдалеке на холмах над Днепром заблестели золочёные купола храмов, показались крепостные стены и башни на крутых валах. Ветер донёс дальний перезвон колоколов, звонили вечерню.
Всеволод придержал коня, обнажил голову и перекрестился.
…Жил-был в стародавние времена на греческой земле знаменитый оратор Демосфен. Столь искусно умел он сплетать словесный узор, так мастерски мог подать нужную мысль, что не было ему равных в этом деле ни до, ни после него. Речи Демосфена записывались его современниками и служили образчиками красноречия, многие поколения греческих ораторов обучались по ним. Довелось прочитать многие из речей Демосфена и Всеволоду, прекрасно владеющему греческим языком. Искусство убеждения – великое искусство, и правителю без него никак не обойтись.
«Бояр своих я всегда переубедить могу, с послами иноземными речи веду так, что последнее слово всегда за мной остаётся, даже брата Святослава к своему резону подвёл, хотя упрямца такого поискать! – подбадривал себя Всеволод перед встречей с Изяславом. – Плохо, что Изяслав к правильно выстроенным речам не привык, ибо он вокруг себя слышит токмо лесть да ругань. Заставлю-ка я его вступить в спор с самим собой, как мудрец Сократ проделывал!»
Однако ничего не вышло у Всеволода, видать, не зря ему заяц дорогу перебежал при подъезде к Киеву. Не подействовали на Изяслава силлогизмы[30], коими Всеволод стал потчевать старшего брата, не смог он убедить его, в чём хотел, не успел даже толком приступить к убеждению. Изяслав сразу почуял, что Всеволод со Святославом заодно, потому-то он и раскричался на младшего брата так, что хоть уши затыкай. Всеволод знал, что огонь маслом не тушат, поэтому благоразумно помалкивал, а когда утомился Изяслав от гневных речей своих, то он сразу же распрощался с ним.
С мрачным лицом ехал Всеволод по узким улицам Киева. На расспросы бояр своих не отвечал, лишь сердито зыркал на них. Бояре замолкли, брови нахмурили. Чего же такого наговорил Изяслав Всеволоду, что тот ни дня в Киеве провести не пожелал, хотя имеет здесь терем свой?
У Золотых ворот догнал переяславцев Изяславов дружинник верхом на коне и ко Всеволоду обратился:
– Князь, брат твой спрашивает, куда ты поехал на ночь глядя? Погостил бы у него.
– Иль не всё ещё мне высказал князь киевский? – сердито усмехнулся Всеволод.
Дружинник примолк, не зная, что сказать на это.
– Пусть лучше мне ветер в открытом поле песни поёт, нежели родной брат на меня орать будет, – продолжил Всеволод. – Передай Изяславу, что ежели он мудрым князем прослыть хочет, то пусть речи свои на тех невидимых весах взвешивать научится, кои в душе у каждого человека имеются. Слово, как и злато, тоже вес и ценность имеет.
Передал дружинник слова Всеволода Изяславу. К тому как раз супруга пришла. Гертруда вступила в светлицу и прислонилась округлым плечом к дверному косяку, с небрежной улыбочкой глядя на мужа.
Изяслав велел дружиннику удалиться, а сам сел в кресло.
– Ну что, муженёк, перессорился с братьями? – прозвучал негромкий едкий голос Гертруды, в котором слышался едва заметный мягкий акцент.
– О чём ты? – поморщился Изяслав, бросив на жену косой взгляд. – Размолвились мы со Всеволодом, всего и делов!
– Сегодня ты со Всеволодом размолвился, вчера поссорился со Святославом… – Гертруда раздражённо заходила по комнате. – Разума ты лишился, свет мой! Не таковские у тебя братья, чтоб понапрасну обиды терпеть, а ну как оба за мечи возьмутся!
– За меня Бог и Правда Русская[31]! – воскликнул Изяслав и потряс кулаком. – Не посмеют братья мои закон преступить, потому как отцом нашим он составлен и нам завещан.
– Дивлюсь я твоей самоуверенности, муж мой, – проговорила Гертруда, замерев на месте. – Ради власти и богатства люди порой отцов, матерей, братьев жизни лишают, примеров тому множество, а ты за Русскую Правду спрятался и успокоился. Вместо того чтобы клин между братьями своими вбить, ты сам их на себя исполчаешь.
– Не дойдёт у нас до войны, – махнул рукой Изяслав и поднялся с кресла.
Ему вдруг опротивел этот разговор. Разве дойдут его слова до женщины, в роду которой постоянно творились злодейства между кровными родственниками.
– Семена раздора вы уже посеяли, братья Ярославичи, теперь ждите всходов! – гневно бросила Гертруда в спину удаляющемуся Изяславу.
Глава вторая. Не копьём, а умом
В лето 6573 (1065) пошёл Святослав, князь черниговский, на Ростислава.
Повесть временных лет
Гигантской широкой дугой от полноводного Днестра до Верхней Волги раскинулись на южных рубежах Руси холмистые степи, уходившие к обласканным горячим солнцем берегам Сурожского моря[32] и к лесистым предгорьям Кавказа. Немало племён прошло здесь, направляясь с востока на запад, немало сражений видела эта земля. И по сей день белеют черепа и кости людские в степном разнотравье, напоминая о лихих годах.
На заре нашей эры пришли вдруг в движение народы, жившие за Рипейскими горами[33] и на среднеазиатских равнинах. Словно от камня, брошенного в неподвижное озеро, пошли нашествия за нашествием, как круги на воде. Что явилось тем камнем? Эфталиты[34], напавшие на Кушанское царство[35], или кочевники жуань-жуани[36], изгнавшие гуннов[37] из Китая, – неизвестно.
Обширные степи от Дона до Кавказского хребта в те времена занимали аланы[38], соседями которых были сарматы[39], расселившиеся в Крыму и по берегам Днепра. Сарматов потеснили готы[40], обосновавшиеся у берегов Понта Эвксинского[41], а также славяне, захватившие земли в междуречье Днестра и Южного Буга. В ту далёкую пору не обходилось без кровопролитий, когда сосед пытался потеснить соседа, однако до бессмысленных истреблений людей и уничтожения жилищ дело не доходило. Пока не пришли гунны…
Эти жестокие завоеватели с огнём и мечом прошли от гор Тянь-Шаня до Карпат, согнав с обжитых мест многие племена. Гунны разгромили алан и готов. Готы устремились в пределы Римской империи. Аланы укрылись в долинах Кавказских гор. Славяне с равнин ушли в леса.
Гунны не задержались на вновь обретённой земле, направив бег своих коней за Дунай в Европу.
Гуннов сменили не менее воинственные авары[42], пришедшие из глубин Азии. На Дунае авары создали своё разбойничье государство – Аварский каганат. Много зла претерпели от авар окрестные народы, покуда франкский король Карл Великий[43] не положил предел их бесчинствам.
Потом пришли хазары, создавшие своё государство на Волге. Хазары обложили данью камских булгар[44] и буртасов[45], а также славян и многочисленные племена Кавказа. Дольше всех сопротивлялись хазарам аланы, но и они были вынуждены покориться. Господство хазар было долгим, но и ему пришёл конец после поражений, понесённых хазарами от арабов, проникших в приволжские степи через Дагестан. Поход же киевского князя Святослава развеял в прах остатки военной силы Хазарского каганата, обратив в руины хазарскую столицу – город Итиль.
Окрепшая Русь, объединившая под властью киевских князей северо-восточные славянские племена от Ладоги до Буга, вступила в спор с Византией за земли по Дунаю. А из южных степей Руси уже грозил новый жестокий враг – печенеги. В битве с печенегами сложил голову храбрый князь Святослав.
Владимир Святой, сын Святослава, успешно оборонял русские земли от набегов степняков, возводя земляные валы на границе со Степью и строя сторожевые городки. Однако не всегда валы и крепости могли сдержать печенегов, орды которых порой докатывались до самого Киева. Лишь при Ярославе Мудром, сыне Владимира Святого, печенегам было нанесено страшное поражение, почти всё их войско полегло в битве с русичами у стен киевских. На месте той памятной битвы Ярославом Мудрым был выстроен величественный храм Святой Софии. Остатки печенегов бежали в Венгрию и на земли Византии.
Ещё при жизни Ярослава Мудрого русичи столкнулись с другим кочевым народом, пришедшим из заволжских степей. Это были торки. Их кочевья заняли донские и приднепровские степи, освободившиеся после разгрома печенегов. Отдельные печенежские роды и колена, спасаясь от торков, искали защиты у киевского князя. Ярослав Мудрый принял печенегов к себе на службу и расселил кочевников вдоль реки Рось, сделав их заслоном от набегов из Степи. Осевшие в русском пограничье печенеги получили название чёрных клобуков, по цвету своих островерхих шапок.
Вскоре торков начали теснить новые пришельцы с юга – воинственные кипчаки[46]. Торки пробовали сражаться с ними, но были разбиты. Отчаявшись справиться с кипчаками, торки предприняли набег на Русь. Это случилось в том же году, когда умер Ярослав Мудрый. Изяслав и Всеволод Ярославичи дали отпор торкам. Несколько лет спустя русские князья сами совершили поход против торков. В конном строю и на ладьях по Днепру двинулись рати киевского князя Изяслава и Всеслава Полоцкого. У впадения в Днепр реки Трубеж к ним присоединились дружины Святослава и Всеволода.
Конные дозоры торков донесли до своих кочевий весть о том, что большое русское войско углубилось в степи. Торки стали поспешно сворачивать шатры. На местах их стоянок русичи находили лишь тёплую золу от очагов. Много дней гнались за кочевниками русские полки и наконец настигли их во время отдыха. Обессилевшие торки почти не сопротивлялись: многие из них сдавались в плен вместе с жёнами и детьми, прочие бежали дальше в холодные осенние степи. Пленённых торков русские князья расселили в Поросье рядом с чёрными клобуками, повелев им охранять южные рубежи Руси. Случилось это в 1060 году от Рождества Христова.
В тот же год летом объявилась под Переяславлем орда хана Болуша. Переяславский князь с малой дружиной выехал навстречу к незваным гостям. Через толмача Болуш сказал Всеволоду Ярославичу, что народ его зовут кипчаками, что они не враги русам, и воюют лишь с торками, которых гонят на закат солнца. В знак мира и дружбы Болуш подарил переяславскому князю аркан, лук и колчан со стрелами, оружие кипчакского всадника, а взамен он получил от Всеволода меч, щит и копьё.
Тревожно было на душе у Всеволода во время той встречи с ханом Болушем, ибо он понимал, что кипчаки гораздо сильнее и воинственнее побеждённых русичами торков. Недобрым предчувствиям Всеволода вскоре суждено было сбыться.
В январе 1061 года обрушилась бедой на переяславские земли кипчакская орда хана Искала. Всеволод вывел было в открытое поле свою дружину, но враг был столь велик числом, что с трудом пробился князь обратно под защиту стен Переяславля. В ту зиму опоясали Переяславль пожары со всех сторон: степняки жгли сёла и погосты. Всеволод слал гонцов в Киев и Чернигов, но ни один из них так туда и не добрался. Все дороги, ведущие от Переяславля на северо-восток, были перекрыты кипчаками.
Летописец так описал это событие в своём труде: «Пришли половцы войною впервые на Русскую землю».
Русичи называли кипчаков половцами, обратив внимание на соломенный цвет их волос. «Половый» по-древнерусски значит «светло-жёлтый», от слова «полова» – «солома, мякина». Впрочем, основная масса кипчаков имела чёрные волосы и карие глаза. Однако впечатление от первых знакомств с этим степным народом закрепило за ними среди русичей именно название «половцы». Всё становится понятным, если обратиться к древним авторам, современникам тех событий.
Так, арабский врач аль-Марвази, служивший при дворе сельджукского султана, писал, что кимаки (змеи) и куманы (ящерицы) потеснили племя шары (жёлтых), а те, в свою очередь, заняли земли туркмен, гузов и печенегов. Армянский автор Матвей Эдесский в своём труде сообщает, что народ змей изгнал из своей страны желтоволосых кипчаков, которые двинулись на гузов и печенегов. Гузов русичи называли на свой лад торками. Именно торки изгнали из южнорусских степей остатки печенегов. Следом за торками двигались гонимые куманами кипчаки.
Долго делили между собой степные пастбища и зимовья кипчакские и куманские орды. Они двигались к Дону и Днепру теми же тропами, какими совсем недавно прошли торки-гузы со своими кибитками и стадами. Постепенно куманы заняли земли западнее Днепра до самых границ Венгрии и Византии. Кипчакские кочевья располагались восточнее куманских на левобережье Днепра и по Дону до самого Лукоморья. Территория их расселения легко определялась благодаря каменным изваяниям, которые ставили на местах своих зимовищ и летовок только шары-кипчаки.
Для Руси наступили тревожные времена. После нашествия хана Искала от половцев русичи не ждали ничего, кроме зла. Конные русские дозоры постоянно находились в ближней степи и на Змиевых валах, возведённых Владимиром Святым на подступах к Переяславлю. Не смыкали глаз русские дружины в сторожевых городках, расположенных по рекам Сула и Воинь.
…Прошла зима с трескучими морозами, растаяли снега и схлынули вешние воды. Пригревало солнышко. Зацвели берёзы. Наступил месяц апрель, по-славянски «березень».
Насилу дождался Святослав весенней поры, так не терпелось ему проучить Ростислава. Уже и дружина черниговская была готова к походу через степи. Ждал Святослав гонца от Всеволода с известием о выступлении переяславской дружины.
Наконец прибыл вестник, но неутешительное послание привёз он Святославу от брата.
Всеволод сообщал, что не может он оставить земли свои без защиты, ибо вышла из степей половецкая орда хана Шарукана и разбила стан неподалёку от Переяславля. Торки, расселённые Всеволодом на реке Трубеж, волнуются, ведь у них с половцами вражда давняя. Всеволод просил Святослава повременить с походом на Тмутаракань и поспешить с войском к нему на помощь. Если заратятся половцы, то Всеволоду одному с ними не совладать, ведь пришли степняки несметным числом.
Отшвырнул Святослав грамоту Всеволода и выругался.
Воеводы черниговские с удивлением взирали на своего князя. Переяславский гонец стоял перед Святославом, ожидая ответа от него.
– Эх, как всё не ко времени! – вздохнул Святослав и вскинул глаза на гонца. – Возвращайся. Передай Всеволоду, что в Страстную пятницу буду у него с дружиной.
Сборы у Святослава были недолгими, если уже и копья навострены, и кони подкованы, и дружинники сигнала трубы только и ждут. Заколыхались по улицам Чернигова густые ряды копий, с глухим топотом двинулись к городским воротам конные полки, впереди реял княжеский чёрно-красный стяг с золотым ликом Спасителя. Горожане жались к заборам и к бревенчатым стенам домов, глядя на уходящее войско.
На княжеском дворе епископ Черниговский Гермоген сотворил молитву во славу русского воинства и на погибель поганых[47]. Князь, бояре и воеводы дружно перекрестились и покрыли головы шлемами.
Святослав махнул рукой:
– На коней!
Князю подвели вороного жеребца с гладкой блестящей шерстью и белыми ногами. Жеребец всхрапывал и тряс гривой, кося большим лиловым глазом. Святослав ласково похлопал своего любимца по крепкой шее и легко вскочил в седло.
На ступенях теремного крыльца стояли сыновья Святослава, его дочь и молодая супруга. В голубых глазах Оды прыгали злые огоньки, её полные чувственные губы были недовольно поджаты. Ода так просила мужа взять её с собой в Переяславль, так умоляла его! Но всё было тщетно.
– Не на пироги еду, горлица моя, – строго сказал ей Святослав. – Еду Всеволода от поганых выручать.
Ода не стала даже прощаться с мужем, молча повернулась и ушла в терем. Младший сын Ярослав убежал следом за ней.
«Токмо за материнскую юбку и держится! – сердито подумал Святослав про Ярослава. – И в кого такой уродился?»
Старшие сыновья тоже взирали на Святослава с недовольством, особенно Глеб. Ладно, братья его ещё недоростки, а он-то уже и покняжить успел, и дружинников своих имеет. Не позорил бы его отец!
– Останешься вместо меня в Чернигове, Глеб, – сказал Святослав, удерживая коня на месте. – Суд ряди и за порядком гляди. Печать моя княжеская в твоём ведении будет. Будет заминка в чём, не к Гермогену за советом иди, но к Гремыслу. Уразумел?
– Уразумел, – хмуро ответил Глеб.
– А вы, соколики, чего неласково на отца глядите? – Святослав улыбнулся и, протянув руку, похлопал по плечу Олега, подмигнул Давыду и Роману. – Вижу, не терпится вам в сече себя показать. Что ж, придёт и ваше время заступать ногой в стремя.
Святослав развернул жеребца и громко гикнул, ударив пятками в конские бока. Мощённый плитами двор наполнился дробным стуком копыт. Старшие дружинники, погоняя коней, устремились за своим князем в распахнутые настежь ворота детинца.
Невелик городок Баруч, вокруг которого расположились станом переяславские торки со своими стадами. Места здесь богатые пастбищами и водопоями. Невдалеке несёт свои воды река Трубеж. За эту реку хан торков Колдечи спешно отвёл своих людей, едва появились половцы. Река разделила торческий стан и половецкие вежи. Половцы не успели напасть на торков, вовремя подоспел Всеволод с дружиной. От Переяславля до Баруча было всего два часа верховой езды. Однако уходить восвояси половцы не торопились.
Всеволод привёл с собой полторы тысячи всадников. Он разбил свой стан рядом с половецким лагерем, загородив степнякам путь к отступлению. У Шарукана было около десяти тысяч всадников, поэтому на вопрос переяславского князя, что ему понадобилось на его земле, половецкий хан высокомерно ответил: «Я за своими рабами пришёл, коих ты у себя прячешь. Выдай мне Колдечи со всем его аилом[48], и я уйду. Не отдашь аил Колдечи добром, возьму его силой и ещё из твоего имения кое-что прихвачу!»
Всеволод обещал подумать до вечера. Тем временем к нему подошла пешая рать переяславцев числом в четыре тысячи копий. Половцы очутились словно меж двух тисков: впереди за рекой наездники-торки на конях гарцуют, позади стоит русское войско. Вечером тон у половецкого хана изменился.
«Русичи мне не враги, я пришёл воевать с торками, – сказал Шарукан Всеволоду, – но если переяславский князь считает торков своими подданными, то пусть заплатит мне за их злодеяния. Колдечи и братья его убили моего племянника перед тем, как на Русь сбежать. Кровная месть привела меня сюда».
Всеволод поинтересовался у Шарукана, готов ли он заплатить ему за злодеяния его соплеменника – хана Искала, пограбившего переяславские земли три лета тому назад. Шарукан ответил на это, мол, хан Искал не родич ему, поэтому расплачиваться за его злодеяния он не намерен. По степному обычаю, кочевник лишь за своего родича в ответе.
«В таком случае мы с тобой в расчёте, хан, – сказал Всеволод. – Ты мне не заплатил, и я тебе платить не собираюсь. А за то, что ты в чужие владения со своим уставом влез, я возьму с тебя виру в двести лошадей».
Рассерженный Шарукан горделиво промолвил, что завтра поутру переяславский князь увидит перед своим станом не двести, а десять тысяч отменных скакунов. Всеволод догадался, что Шарукан вознамерился пробиваться в степи силой. Стали готовиться переяславцы к жестокой сече, сослались гонцами с ханом торков, дабы тот в нужный момент ударил половцам в спину. Колдечи выразил готовность биться насмерть с ордой Шарукана.
Едва взошло солнце и птичий щебет огласил рощи и перелески по берегам Трубежа, переяславцы выстроились на равнине длинными шеренгами. Ярко полыхали в лучах восходящего солнца их червлёные щиты[49]. В центре боевого построения русичей встал пеший полк, на флангах разместились конные дружинники.
Половцы нестройными сотнями выезжали из-за своих кибиток, что-то выкрикивая на своём степном наречии. Некоторые из степняков пускали стрелы в сторону русского воинства, но стрелы не долетали до цели, втыкаясь в густую зелёную траву. Шарукан почему-то медлил, не бросал свою конницу в атаку. Может, он ждал, что переяславцы первыми ринутся на степняков, а может, измышлял какую-нибудь хитрость.
Всеволод тоже не торопился начинать сражение. Он совсем не собирался брать штурмом половецкий лагерь, ограждённый сцепленными повозками. В открытом поле у русичей с их более длинными копьями и большими щитами было больше преимуществ перед половцами.
На другом берегу реки позади половецкого стана крутились на горячих конях воины Колдечи, всего около семисот всадников. На солнце блестели островерхие бронзовые шлемы торков, их изогнутые сабли. Долетал из-за реки их боевой клич.
Напрасно промедлил Шарукан.
Неожиданно окрестности огласились дальним нарастающим гулом от топота множества копыт. Вдалеке на холмах показались русские конники в блестящих шлемах и кольчугах. Далёкая конница стремительно приближалась, растекаясь по широкой долине, охватывая с двух сторон бревенчатые стены Баруча. Из ворот городка с радостными криками выбежали толпы смердов[50] вместе с жёнами и детьми, искавших защиты за валами и стенами деревянной крепости.
Оживлённо засуетились жёны и дети торков возле своих разноцветных шатров, внезапно оказавшихся в окружении многочисленных русских всадников.
Святослав подоспел вовремя.
У Шарукана пропало желание затевать битву. К русским князьям прибыли знатные половцы, приглашая их в свой стан на переговоры. Князья приглашение отклонили, объяснив послам Шарукана, мол, они у себя дома, а вот половецкий хан – гость, хоть и незваный. Поэтому Шарукан к ним прийти должен с небольшой свитой и без оружия.
Один из послов заявил, что русским князьям в залог безопасности хана надлежит дать половцам заложников.
Святослав рассердился и прикрикнул на половчина:
– Неужели, собака, тебе княжеского слова мало?! Передай своему хану: если до захода солнца он не придёт к нам безоружный, то я его голову преподнесу в дар Колдечи!
Половецкие послы уехали к своим вежам.
Прошёл час и другой. Солнце перевалило за полдень. Русичи ждали.
Наконец расступились конные половецкие отряды и по образовавшемуся проходу медленно проехала вереница всадников. Впереди на саврасом длиннохвостом коне ехал хан Шарукан.
На всю жизнь запомнилась гордому хану эта поездка к русским князьям. Казалось бы, он всё обдумал перед этим походом, всё взвесил. Но, видимо, чего-то всё же не учёл, чего-то недовесил…
Шарукан спешился возле большого белого шатра с красным верхом, близ которого стояли воткнутые в землю княжеские стяги. Двадцать знатных беев[51] сопровождали Шарукана. Направляясь в шатёр, Шарукан задержался на миг, окинув взором русские знамёна. На смуглое, с тонкими чертами лицо Шарукана набежала мрачная тень: запомнит он эти хоругви! Если суждено ему не изведать коварства русичей и остаться живым, он непременно со временем вернёт должок именно двум этим князьям!
Первыми поприветствовали Шарукана бояре Всеволода: Иван Творимирич, Гордята Доброславич и Ядрей, сын Бокши. Все трое были в кольчугах, с мечами на поясе, но без шлемов. Толмач-торчин переводил половецкому хану их слова.
Шарукан с важностью кивал головой в островерхой шапке с ниспадающим на спину лисьим хвостом: почёт он любил. Сам, правда, в ответ ничего не сказал.
Вокруг стояло много черниговских и переяславских дружинников в блестящих бронях и шлемах, задние из них напирали на передних, всем хотелось рассмотреть вблизи грозного предводителя степняков, о котором шла дурная слава. Свита Шарукана опасливо поглядывала по сторонам и жалась к своим лошадям, чтобы при малейшей опасности мигом вскочить в седло и умчаться.
Шарукан вступил в шатёр в сопровождении четырёх беков[52].
Всеволод и Святослав радушно встретили гостя, пригласив его потрапезничать вместе с ними: в русском стане было время обеда.
Шарукан уселся на предложенный стул, для беков княжеские слуги поставили скамью.
Трапеза русских князей была очень скромной. Она состояла из протёртой редьки с квасом, ржаного хлеба, овсяной каши без масла и варёных овощей. Однако они уплетали всё это с большим аппетитом.
Заметив лёгкое недоумение в глазах знатных половцев при виде столь невзыскательного угощения на княжеском столе, Всеволод пояснил гостям:
– Пост у нас ныне, а во время поста христианам скоромное вкушать нельзя, ибо это грех большой.
Всеволод кивнул толмачу, тот стал переводить сказанное с русского на половецкое наречие, одновременно разъясняя степнякам, что такое «пост» и христианский обычай поститься. Половцы оживились, закивали головами и тоже принялись за еду – скорее из любопытства и вежливости, нежели из чувства голода.
Святослав негромко бросил Всеволоду:
– Мог бы для именитых гостей и барашка зарезать, брат, ведь они же нехристи.
– Кабы знал наперёд, что к нам гости пожалуют, зарезал бы, – так же тихо ответил Всеволод.
Увидев, что Шарукан внимательно следит за ним, Всеволод улыбнулся ему и дал знак толмачу перевести хану на половецкий всё прозвучавшее между ним и Святославом. Толмач повиновался. Шарукан улыбнулся скупой улыбкой, взгляд его тёмно-карих продолговатых глаз слегка потеплел. Хан что-то промолвил и кивнул толмачу.
– Великий хан говорит, что он уважает чужие обычаи и будет сегодня поститься, как и русские князья, – перевёл толмач.
Всеволод выразил хану свою признательность в таких витиеватых фразах, что толмач, с трудом подбирая слова на половецком языке, кое-как сумел донести до важного гостя суть сказанного. Беки даже забыли про яства, так изумил их высокий слог и изысканность похвал. Неужели переяславский князь желает подольститься к Шарукану? А может, в его словах, столь необычных и возвышенных, кроется какой-то тайный смысл?
Святослав не смог удержаться от небрежной усмешки:
– Брат мой, ты ведь не с ромеями речи ведёшь, поэтому выбирай словеса попроще.
Подозрительные глаза Шарукана метнулись к черниговскому князю, затем к толмачу.
Толмач, повинуясь еле заметному кивку Всеволода, перевёл хану слова Святослава.
Дабы гости не обиделись, Всеволод добавил:
– Жена у меня гречанка, дочь византийского императора, поэтому греки частые гости у меня в Переяславле. А у ромеев принято говорить пышно и замысловато.
В глазах у беков появилось невольное восхищение: князь Всеволод, оказывается, состоит в родстве с властителем Византии! С мощью Византийской империи уже столкнулись западные колена половцев, о богатстве державы ромеев половцы были наслышаны от венгров, валахов и печенегов. Шарукан тоже не смог скрыть своего изумления, переяславский князь вдруг стал значительно выше в его глазах.
Святослава Шарукан разглядывал с затаённой недоброжелательностью, помня его дерзкие слова, брошенные половецким послам. Уж не полагает ли черниговский князь, что хан половецкий из страха перед ним прибыл в русский стан!
Святослав, чувствуя на себе пристальное внимание Шарукана, тоже стал приглядываться к хану.
Шарукан был ещё довольно молод, на вид ему было около тридцати лет. Хан был высок и строен, с широкими плечами и узкой талией. Небольшая рыжая бородка обрамляла его подбородок. Тонкий прямой нос и слегка выступающие скулы придавали Шарукану облик сурового аскета, взгляд его тёмных миндалевидных глаз был цепким и недоверчивым. У хана были чёрные, почти сросшиеся на переносье брови, из-под шапки с опушкой из лисьего меха торчали длинные космы пепельно-рыжих волос.
«Ого, как зыркает рыжая каналья! – усмехнулся про себя Святослав. – Глаза словно стрелы!»
Насытившись, Святослав стал более благодушен, в нём опять проснулась его язвительная ирония.
Одежды знатных степняков были очень яркими. Их короткие полукафтаны, длинные плащи из алтабаса[53] имели розовую, голубую и жёлтую расцветку. Узкие штаны половцы носили заправленными в короткие кожаные сапоги с загнутыми носками. Рукава половецких полукафтанов были расшиты узорами в виде чередующихся фигурок зверей и птиц, а также какими-то непонятными значками. Такие же узоры были вышиты спереди, опускаясь широкой полосой от шеи к подолу.
Головы беков венчали круглые полотняные шапочки красного цвета с вышитыми на них белыми зигзагами. На шее у половцев висели золотые цепи с прикреплёнными к ним самоцветами в дорогой оправе.
Особенно много украшений было на хане. Длинные пальцы его были унизаны перстнями, в левом ухе висела золотая серьга с изумрудом, на груди в три ряда лежали ожерелья из золота, среди которых выделялся большой тёмно-красный рубин в золотом окладе, висевший на золотой цепочке, по всей видимости, амулет.
Святослав через толмача стал выспрашивать у хана, какие половецкие орды кочуют по Дону и у Лукоморья, за сколько дней конник может доскакать от верховьев Дона до кубанских степей, в какое время года лучше всего двигаться по степям на юг.
Шарукан насторожился. Насторожились и его беки. Почему это интересует черниговского князя? Уж не собирается ли он навести свои полки на землю Половецкую?
Шарукан принялся рассказывать о необъятности степных раздолий и о многочисленности половецких кочевий, разбросанных там.
– Если князю Святославу угодно совершить путешествие на юг, то ему лучше всего спуститься на ладьях по Днепру до Греческого моря и далее идти вдоль берегов Тавриды в море Хазарское, – молвил хан. – В это море впадает и река Кубань. Идти же напрямик через Степь лишь человеку несведущему может показаться ближе и удобнее. На самом деле от Переяславля до реки Сулы, где кончается Русская земля, целый день пути. От Сулы до реки Псёл два дня пути, и столько же будет до следующей реки Орели. Причём, князь, рек и речушек в степях много, переправа через них отнимает много времени в любое время года.
– Мне бы знать наверняка, в какую пору лета лучше всего двигаться через Степь: до или после солнцеворота? – спросил Святослав.
– Хоть летом, хоть весной пустись в дорогу, князь, тебе не избежать встречи с нашими ордами, – предостерёг Шарукан. – В верховьях реки Псёл кочует курень[54] хана Токсобы. Это очень храбрый батыр! Без выкупа он через свои владения никого не пропускает.
– И тебя, хан, тоже не пропускает? – с хитрой усмешкой обронил Святослав.
Шарукан ухмыльнулся:
– Мы с Токсобой дальние родственники, поэтому я прохожу через его земли свободно и без платы.
Всеволод слушал Шарукана, а сам размышлял: «Цену себе набивает хан, а заодно хочет запугать нас множеством своих сородичей. Ежели верить его словам, велика сила у поганых!»
– За рекой Орелью хан Отперлюк кочует, тоже могучий воин, – рассказывал Шарукан, и толмач быстро переводил его речь на русский язык. – Войско у него такое, что полстепи запрудит. Когда Отперлюк ходил походом на валахов, те с трудом смогли откупиться от него. Ближе к Лукоморью лежат кочевья хана Урюсобы и его братьев. В тех краях это самый сильный хан, все проезжие купцы платят ему дань. По реке Оскол пасёт свои стада хан Елтук. Он имеет двадцать тысяч всадников. Земля дрожит, когда его орда идёт в набег. Южнее, по реке Чир, стоят вежи хана Терютробы, а в низовьях Дона кочует орда хана Бегубарса и всей его родни. Бегубарсу платит дань даже грузинский князь.
Шарукан довольно долго перечислял половецких ханов – своих ближних и дальних родственников, друзей и тех, с кем он был мало знаком, – кочевья которых были разбросаны от Кавказских гор до Днепра.
Святослав внимательно слушал Шарукана, а потом вдруг заявил:
– Велю-ка я своим гридням[55] убить тебя, хан, а твоих людей в полон возьму, дабы в степях попросторнее стало.
Сказано это было Святославом таким серьёзным тоном, что толмач невольно запнулся, прежде чем перевести услышанное на половецкий язык.
Глядя на оторопевших половцев, Святослав громко расхохотался. Затем, резко оборвав смех, он сдвинул брови и произнёс:
– У нас на Руси так говорят: одним камнем много горшков перебить можно. Что мне ваши орды и курени, коль дружина моя сильна! А дань я плачу токмо брату своему, киевскому князю, и не по принуждению, а по законному уложению.
Всеволод поспешил вмешаться, дабы беседа не превратилась в ссору.
– Не забывай, брат, что Шарукан наш гость, – негромко он напомнил Святославу.
Святослав мигом остыл.
– Не гневайся, великий хан, за мои слова, – сказал он. – У русичей речи, как и мечи, прямы.
Шарукан уловил намёк Святослава на изогнутые половецкие сабли, но виду не подал. Хан проговорил с вежливой улыбкой:
– У меня есть брат Сугр, такой же горячий, в любом споре сразу за кинжал хватается. Часто и мне приходится остужать его гнев. – При этих словах Шарукан взглянул на Всеволода. – Русичи испокон веку живут на своей земле, а мой народ испокон веку кочует по разным землям, часто терпя голод и лишения, часто гонимый более сильными племенами. Не одно поколение моих соплеменников ушло в страну предков, прежде чем наши кочевья вышли к берегам Дона. Часть половцев остались на Дону, другие продолжили свой путь на заход солнца и на юг, покуда не достигли Кавказского хребта на юге и Угорских гор на западе. Тогда половецкие орды повернули обратно и соединились все вместе на равнинах между русскими лесами и Греческим морем.
Шарукан просил русских князей не держать на него зла за то, что он ступил на их землю.
– Сегодня я к вам без зова пришёл, завтра вы ко мне вторгнетесь, – добавил хан, бросив взгляд на Святослава.
– Истинно молвишь, великий хан, – кивнул Святослав. – Неисповедимы пути человеков.
На другой день спозаранку половецкие пастухи пригнали к русскому стану двести лошадей. Потом прибыли посланцы Шарукана и сказали, что желает хан заключить с русскими князьями крепкий мир. Пятьдесят знатных половцев во главе с Шаруканом привезли подарки для имовитых русичей.
На этот раз хозяева и гости расположились под открытым небом на разостланных на траве коврах. Бояре Всеволода и Святослава сидели вперемежку с беками и беями Шарукана. Толмачи с ног сбились, поспевая всюду, то объясняя половцам смысл какой-нибудь русской поговорки, то растолковывая русичам тот или иной половецкий обряд.
Шарукан похвалялся своими лошадьми, коих Святослав и Всеволод уже поделили между собой.
– В моём кочевье кони лучших степных кровей, легки, как ветер, выносливы, как сайгаки, а статью своей арабским скакунам не уступят!
На другой день половцы построились по-походному и двинулись на юг, к реке Суле. Русичи взирали на то, как идут на рысях мимо них тысячи половецких всадников на гривастых поджарых лошадях, как катятся повозки с большими колёсами, сминая степную траву, как текут и текут следом за половецкими обозами стада коров и отары овец.
Светлое Христово Воскресение Святослав праздновал в Переяславле.
Шумно и многолюдно стало во дворце у Всеволода, когда там разместился его брат со своей свитой. В застольях и на выходах к храму только и разговоров было, что о предстоящем походе к Тмутаракани. Впрочем, Всеволод старался отмалчиваться, даже если Святослав заговаривал с ним о выступлении против Ростислава.
В один из вечеров Святослав вызвал брата на откровенный разговор.
Всеволод не стал таиться.
– Ещё в марте побывал у меня гонец от Изяслава, – признался он. – Уступает мне Изяслав Ростов и Суздаль. Туда мне ныне предстоит дружину слать с надёжным воеводой.
Святослав выругался от досады. И тут же рассмеялся:
– Обскакал меня Изяслав. Как хитро он всё провернул! Не иначе, Гертруда его надоумила. Не жена, а золото!
– Опять же от половцев летом всегда беды можно ожидать, – добавил Всеволод. – С Шаруканом я замирился, а десять его сородичей голодными волками в степи рыщут. Как я Переяславль без войска оставлю!
– Понадеялся я на тебя, брат, – вздохнул Святослав, – да, видать, напрасно.
– Уговор наш я не забыл, – сказал Всеволод. – Вместо меня боярин Ратибор пойдёт с молодшей дружиной к Тмутаракани.
Хотел было Святослав упрекнуть Всеволода в двоедушии, но удержался от этого. Кто знает, может, и ему когда-нибудь придётся вилять между Изяславом и Всеволодом.
…Окропило землю первым весенним дождичком, и сразу разомлела почва от тепла и влаги, в рост пошла трава луговая, оделись свежей клейкой листвой деревья. Смерды на полях вышли сеять ранние яровые. Как говорили на Руси: пришёл Егорий (6 мая) с теплом. На Егорьевской неделе ласточки прилетают.
Собрался Святослав к Тмутаракани с крепкой силою – в пять тысяч конных дружинников. Двух старших сынов в поход снарядил Святослав, Глеба и Давыда. Первый должен был опять на тмутараканский стол сесть, второму предстояло ратному делу поучиться. Не всё же время Давыду книги листать да с дворовыми девками миловаться, рассудил князь. Черниговский стол Святослав оставил на своего третьего сына – Олега, которому вот-вот должно было исполниться семнадцать лет. При Олеге Святослав оставил троих советников надёжных: боярина Веремуда с братом Алком и варяга Регнвальда.
Пешее войско Святослав решил дома оставить, не взял он с собой в поход и повозки, повелев всё необходимое в пути на лошадей навьючить. Намеревался Святослав двигаться через степи скорыми переходами, чтобы внезапно нагрянуть в гости к Ростиславу.
Ранним майским утром, когда роса ещё не высохла и ещё не смолкли соловьи в ольшанике над речкой Стриженью, отворились ворота града Чернигова. Вышла из ворот конная рать и растаяла в рассветной туманной мгле.
На бревенчатой башне детинца стояли Ода, Олег с братом Романом, боярин Веремуд, варяг Регнвальд и саксонский барон Ульрих, на днях приехавший в Чернигов. Барон Ульрих являлся доверенным лицом графа Штаденского Леопольда, отца Оды, это был не первый его приезд в столицу северских земель[56].
Всё случившееся на глазах у барона за последние три дня: приготовления к выступлению войска, суета в княжеском тереме, совещания Святослава с боярами, затем прощальный пир и напутственный молебен – всё это порядком утомило щепетильного немца. К тому же Ульриха уязвило то, что Святослав уделил для беседы с ним каких-то полчаса, а потом и вовсе забыл про него.
«Наконец-то убрался крикливый черниговский князь! – сердито думал барон Ульрих и первым стал спускаться по дубовым ступенькам в тёмное чрево высокой башни. – Не сломать бы здесь шею. Да уж, это не каменный замок графа Леопольда!»
Вслед за бароном Ульрихом последовал Регнвальд отчасти лишь затем, чтобы оказать помощь немецкому послу, если у того возникнут затруднения во мраке глухих стен, на крутых неудобных ступенях. Следом за варягом скрылся в четырёхугольном тёмном люке боярин Веремуд. Было слышно, как поскрипывают дубовые доски лестничных пролётов под его грузным телом.
Покуда конное войско удалялось по дороге от города к холмам, поросшим лесом, стоящие на башне люди не произнесли ни слова. Войско скрылось в тумане, ещё какое-то время виднелись над туманной завесой длинные копья дружинников, но вскоре исчезли и они. Перед взором оставшихся на башне лежала опустевшая дорога, уходившая в туманную даль.
Внезапно чуткую рассветную тишину нарушил протяжный свист коростеля.
Роман вздохнул, посмотрел сбоку на Олега, потом на Оду, стоящую у самого заборола спиной к нему. Как он завидовал своим старшим братьям! А ведь у него стрелы всегда летят точно в цель, не то что у Глеба, и мечом он владеет намного ловчее Давыда. Любой дружинник подтвердит это. Однако с отцом спорить бесполезно.
Расстроенный Роман молча покинул верхнюю площадку сторожевой башни.
Олег и Ода остались одни на башне.
Невдалеке снова пропел коростель.
Ода зябко пожала плечами, по-прежнему глядя вдаль.
Олег скинул с себя тёплое корзно[57] и укрыл им плечи молодой женщины. Ода прошептала: «Благодарю», слегка повернув голову. Сдавленная интонация её голоса насторожила Олега.
Но вот мачеха повернулась к нему, и княжич увидел слёзы у неё на глазах.
Это пробудило в Олеге сострадание к Оде. Ни разу доселе он не видел свою мачеху плачущей. Отец и раньше ходил в походы, однако Ода всегда провожала его без слёз. И вдруг такое…
– Не печалься, матушка, – промолвил Олег, – коль Глеб всего с двумя сотнями гридней сумел миновать половецкие вежи, то батюшке моему с его-то дружиной все ханы половецкие нипочём.
– Конечно, нипочём, мой юный князь. – Ода постаралась улыбнуться. – Помоги мне сойти вниз.
С самых юных лет Олег чувствовал на себе обаяние этой красивой женщины, своей мачехи, которая вошла в его жизнь, когда ему исполнилось четыре года. Свою родную мать Олег не помнил, зато он надолго запомнил восхищённые отзывы о ней своего отца, вырвавшиеся у него в порыве откровения. Ода с её немецкой речью, режущей слух, первое время казалась маленькому Олегу гостьей из чужого далёкого мира, который незримой стеной стоит за нею, и от него веет чем-то непонятным и холодным. В том мире люди имеют странные имена, носят непривычные для славян одежды и служат сатане, так рассказывал о католиках юному Олегу инок Дионисий, обучавший его грамоте.
Самое первое незабываемое впечатление маленький Олег испытал в шесть лет, когда он и пятилетний Роман ехали вместе с Одой в крытом возке. В ту зиму умер дед Олега, киевский князь Ярослав Мудрый. Той же зимой вся семья Святослава Ярославича, его челядь и дружина переезжали из града Владимира в скрытый за лесами и далями Чернигов. Дорога была длинная. Однажды вечером порядком измучившийся Олег долго не мог заснуть. Ода уложила Олега головой к себе на колени и стала напевать немецкую колыбельную песенку. Олег заснул, не дослушав колыбельную до конца. Он не понял ни слова из этой песни с таким необычным мотивом, с простым «ля-ля» вместо припева, но нежный голос мачехи буквально заворожил и усыпил его.
Уже в Чернигове подросший Олег рассказывал Оде русские былины, а она переспрашивала его, не понимая значения того или иного русского слова. Всё-таки русский язык давался Оде с трудом. Вот почему Ода так любила беседовать по-русски именно с Олегом и Романом: ведь они никогда не подсмеивались над ней за её произношение. Более того, Олег и Роман сами охотно слушали рассказы Оды о Саксонии, о германских королях, о походах рыцарей в Италию… Ода знала, чем заинтересовать мальчишеские умы.
Став постарше, Олег и Роман гораздо реже встречались с мачехой наедине, ведь почти весь их досуг был занят книжным учением, греческим языком, богословием и постоянно усиливающейся подготовкой к ратному делу. Ода же стала уделять больше внимания своему первенцу от Святослава – княжичу Ярославу.
Кроме того, под наблюдением Оды воспитывалась её падчерица Вышеслава. Как-то незаметно для всех Ода обучила Вышеславу немецкой речи, научила её играть на лютне, танцевать саксонские танцы и петь саксонские баллады. Святослав однажды раздражённо заметил при сыновьях, мол, была одна немка в доме, теперь стало две!
Никакой особенной ласки и внимания со стороны Святослава Ода не видела. С годами Олег всё больше замечал усиливающееся отчуждение между отцом и Одой. В глубине души Олег всегда был на стороне Оды, не понимая отца, как можно было не любить такую жену-красавицу. Казалось бы, теперь, когда Ода хорошо говорит по-русски и одевается в славянские наряды, она должна стать ближе Святославу. Выходило же всё наоборот.
…Дела и заботы свалились на Олега с первого же дня. Утром к Олегу пришёл княжеский тиун и два часа утомлял его именами недоимщиков, перечислял, сколько берковцев[58] овса и жита взяла с собой ушедшая рать Святослава, сколько осталось в княжеских амбарах, сколько ржи, ячменя и проса приготовлено им для сева и сколько зерна можно пустить на продажу. Говорил тиун и про серебряные гривны, полученные им с какого-то булгарского купца за «залежалый товар».
– Не гневайся, князь, что мало взял с басурманина, – лебезил перед Олегом пронырливый тиун, – товар уж больно бросовый был. Почитай, два года лежал в закромах.
– Пустое, Аксён, – махнул рукой Олег, мысли которого были совсем о другом.
В переходах терема Олег столкнулся с сестрой Вышеславой, спешащей куда-то. По лицу сестры Олег догадался: что-то случилось в женских покоях.
– Мати наша рыдает не переставая, – поведала брату Вышеслава. – Похоже, по отцу нашему убивается. Я говорю ей, что нельзя так по живому плакать, беду накликать можно, а она меня прочь гонит. И Регелинду гонит от себя, и Ярослава…
Олег задумался. Ему показалось странным, что выдержка вдруг изменила Оде. Может, отец сказал ей что-нибудь обидное при прощании? А может, это барон Ульрих что-то наговорил Оде втихомолку? Вечно этот немчин объявляется не ко времени!
К обеду Ода не вышла из своих покоев.
В трапезной сидели Олег, Роман, Вышеслава и Ярослав. Впервые за княжеским столом было так пусто и неуютно. Ярослав ел молча, не поднимая головы. Вышеслава сидела невесёлая, почти не прикасаясь к яствам.
– Эдак будешь вкушать, сестрица, бёдер-то не нарастишь, – обратился к Вышеславе острый на язык Роман. – За что парни-то на вечёрках тебя хватать станут, а?
Вышеслава вскинула на Романа гнвные глаза:
– А тебе бы токмо нажраться до отвала!
Челядинки, видя царящее в трапезной мрачное напряжение, бесшумно и быстро скользили по деревянному полу, уносили одни блюда, приносили другие.
Неуёмный Роман принялся подтрунивать над старшим братом:
– Что же ты, светлый князь, голову повесил? Не отведал почти ничего. Иль нынешний кус не на княжий вкус?
Олег промолчал, лишь холодно посмотрел на Романа.
Роман опять повернулся к Вышеславе:
– Почто матушка не обедает с нами? Нездоровится ей, что ли?
– Недомогает она, – сухо ответила Вышеслава.
Служанки принесли горячее говяжье жаркое. На какое-то время в трапезной повисло молчание, нарушаемое лишь чавканьем Романа и стуком костей об пол, которые он бросал собакам.
Ярослав поднялся со стула и попросил разрешения у старшего брата удалиться в свою светлицу. Олег кивком головы позволил Ярославу покинуть трапезную.
Роман подозрительно взглянул на Олега, потом на Вышеславу и спросил с усмешкой:
– Вы, часом, не поругались?
– Ешь своё мясо, – бросила Вышеслава Роману. – Не отвлекайся.
– А ты почто не ешь?
– Не хочу, чтобы парни меня за бёдра лапали!
Роман прыснул в кулак.
Неунывающий бесёнок жил в нём. Не умел Роман долго кручиниться, а без шуток и прибауток и вовсе жить не мог. Из всех сыновей Святослава один Роман красотою уродился в мать, но и пересмешник был таков, каких поискать. Этим Роман вышел в отца.
Роман схватил Вышеславу за руку, едва та встала из-за стола:
– Куда ты, сестрица? А у светлого князя позволения почто не спросила?
– Пусти, Ромка! – попыталась высвободиться Вышеслава. – Слышь, пусти!
– Поклонись князю, тогда отпущу, – засмеялся Роман и подмигнул Олегу.
Однако старшему брату было не до смеха.
– Роман, – сурово произнёс Олег, – не балуй!
Роман отпустил Вышеславу и вновь принялся за жаркое с таким видом, будто ничего не случилось. Он знал, в каких случаях Олегу не стоит прекословить.
Вышеслава направилась к дверям, обойдя лежащих на полу собак. Походка у неё была лёгкая и немного величавая. Вышеславе было пятнадцать лет, но держалась она по-взрослому и во многом старалась подражать своей любимой мачехе. Вот и сейчас на Вышеславе было надето длинное белое платье, как у Оды, с узкими рукавами и глухим воротом. Голова её была покрыта белым саксонским убрусом[59], поверх которого была наброшена тонкая прозрачная накидка, скреплённая на лбу серебряным обручем.
В дверях Вышеслава задержалась и, обернувшись, бросила на Олега благодарный взгляд. В стройной фигуре Вышеславы уже явственно угадывались приятные мужскому взгляду округлости. Это особенно подчёркивалось её узким платьем.
Олег поймал себя на этой мысли и слегка смутился в душе, словно невзначай подглядел за обнажённой сестрой. А ведь всего несколько лет тому назад он, Роман и Вышеслава, бывало, засыпали в одной постели и даже вместе ходили в баню.
Поздно вечером, отпустив мытников[60] и вирников[61], коих привёл в княжеский терем услужливый тиун Аксён, Олег вышел в сад, примыкающий к терему с южной стороны. Ему захотелось побыть одному, прийти в себя после суматошного дня.
В необъятной вышине перемигивались яркие звёзды. Тёплые сумерки окутывали всё вокруг. Сочный аромат свежей листвы смешивался с запахом чернозёма и сухой прошлогодней листвы. Птицы давно умолкли. В чуткой тишине глубокая ночь опускалась на улицы и переулки Чернигова.
Олег не заметил, как оказался под окнами женских покоев.
Внезапно одно из окон на втором ярусе со стуком распахнулось, жёлтый свет восковых свечей вырвался наружу, упав на высокую яблоню, под ветвями которой затаился Олег. До его слуха донеслись мелодичные переборы струн лютни.
«Похоже, матушка и Вышеслава разучивают новую балладу», – подумал Олег.
Он задержался под кроной яблони, чтобы послушать песню. Вышеслава была прекрасной исполнительницей, немецкий язык в её устах, казалось, становился мягче и мелодичнее. Даже барон Ульрих, этот строгий ценитель, несколько раз хвалил Вышеславу, услышав её пение.
Однако песню запела Ода.
Олег замер, поражённый печальной торжественностью музыки, грустными напевами струн, – как они звучали! – будто сама тоска настраивала их лады, а приятный голос Оды лишь дополнял дивное сплетение звуков чувственным напевом, таким негромким, что даже при знании немецкого Олегу всё равно было бы не разобрать всех слов песни. Одно Олегу было совершенно ясно: песня Оды шла от самого сердца, израненного болью и страхом за любимого человека. Душевные переживания Оды изливались в этой старинной саксонской балладе.
Олегу стало не по себе, словно он стал невольным свидетелем чужого горя. Уйти он тоже не мог, ноги не слушались его.
Когда песня смолкла, струны лютни ещё звучали под пальцами Оды, и высокая печаль, постепенно стихая, отдвалась отголосками в растревоженном сердце Олега.
Уже лёжа в постели, Олег долго не мог заснуть, печальная песня Оды продолжала звучать в его ушах. То высокое чувство, которое притягивает мужчину к женщине, о котором сложено так много песен, вдруг осенило его своим крылом. Есть что-то божественное в истинной любви, и любое проявление её способно возвысить человека. Ценит ли Олегов отец этот дар, коим по воле судьбы стала Ода, его жена? Постиг ли он глубину чувств этой удивительной женщины?
Олег почему-то был уверен, что его отец не питает к Оде сильных чувств и Ода отвечает ему тем же. Стало быть, печаль Оды явно о другом человеке, но никак не о своём супруге. И тот, другой, похоже, пребывает где-то далеко от Чернигова.
А не Глеб ли это?..
Олега даже пот прошиб от этой догадки. Ему тут же вспомнилось, как Ода обрадовалась возвращению Глеба из Тмутаракани, как она уединилась с ним в своей светлице. Ода и Глеб довольно долго беседовали наедине, и при этом не присутствовала даже Регелинда, которая обычно ни на шаг не отходит от своей госпожи. Ода выставила Регелинду за дверь. Не впустила Ода к себе и Вышеславу.
В сердце Олега зашевелилась ревность. Осуждать свою мачеху он не смел, в её-то годы любой женщине хочется внимания и ласки. Не мог Олег осуждать и Глеба: Ода всего на десять лет его старше, разве может Глеб устоять перед её чарами! Значит, не просто так Ода и Глеб катались верхом на лошадях в бору за рекой Стриженью. И ехидные намёки Романа, видимо, попадали в цель, если они так сердили и вгоняли в краску всегда столь невозмутимого Глеба.
В утро прощания Ода, находясь на крепостной башне, явно не хотела никому показывать своих слёз, дабы не вызвать подозрений, но своей песней она выдала себя.
Догадка Олега быстро переросла в уверенность, что он докопался до истинной сути, а уверенность ещё сильнее разожгла в нём ревность. Конечно, Глеб самый старший из братьев Олега, поэтому Ода на него и обратила внимание. К тому же Глеб такой вежливый и внимательный. Вот только когда успело окрепнуть чувство Оды к Глебу, коего отец отправил в пятнадцать лет на княжение в Тмутаракань? Ода и Глеб четыре года пребывали в разлуке. Это Олегу было непонятно.
А Глеб тем временем день ото дня всё дальше углублялся вместе с черниговской дружиной в объятые солнцем бескрайние степи, не ведая о душевных муках Олега. И мысли Глеба были совсем не об Оде.
На третий день пути впереди показались всадники в замшевых куртках, в островерхих шапках, с луками и колчанами за спиной. Помаячив на дальнем холме, таинственные всадники быстро исчезли. Русичи усилили дозоры. От степняков можно ожидать любой хитрости, ведь в Степи они у себя дома.
К вечеру войско Святослава наткнулось на следы половецкого становища. На берегу небольшой мелководной речки чернели головешки потухших кострищ, валялись обломки жердей, вокруг на истоптанной луговине виднелись кучки лошадиного помёта.
– На юг подались степняки, – сказал Гремысл Святославу, разглядывая в траве колеи от тележных колёс.
– Давно ли? – спросил Святослав.
Гремысл поворошил рукой пепел одного из кострищ и, подумав, ответил:
– Уже минуло не менее шести часов.
– Не мы ли их спугнули, как думаешь? – опять спросил Святослав.
– Наверняка степняки нашего воинства испугались и убрались отсюда поскорее, – сказал Гремысл.
– Ладно, – Святослав спрыгнул с седла, – заночуем здесь.
Русичи расседлали лошадей, разожгли костры, стали кашу варить. Палаток не ставили, укладывались спать прямо на траве, подстелив под себя лошадиные попоны и закутавшись в плащи.
С первыми лучами солнца двинулись дальше.
Проводниками были Гремысл и торчин Колчко.
Воевода и торчин ехали впереди войска, не перекидываясь порой за весь день и парой слов. Колчко плохо говорил по-русски и больше изъяснялся знаками. Гремысл и вовсе не знал ни слова на языке торков. Беседы между ними всегда были краткими, очень выразительными и касались только дороги.
Если Гремысл показывал рукой на юго-запад, цокал языком, изображая топот копыт, и называл какую-нибудь речку в той местности, через которую предстояло пройти русским полкам, то это означало, что до захода солнца воинству Святослава необходимо добраться до этой степной реки. Колчко понимающе кивал головой и одному ему ведомыми путями вёл полки к указанной Гремыслом реке, обходя овраги и солончаки.
Иногда проводники затевали спор, остановив коней посреди ровного поля, каждый на своём языке пытаясь убедить другого в правильности выбранного им направления. Войско останавливалось и ждало разрешения спора. Бывало, спор затягивался. Тогда Гремысл слезал с седла и ножнами кинжала принимался что-то чертить на земле. Колчко наблюдал за ним, сидя на своей низкорослой буланой лошадке. Затем торчин быстро спешивался и, вынув саблю из ножен, начинал её остриём вносить свои дополнения в рисунок воеводы. При этом оба так и сыпали словами, каждый на своём языке, размахивая руками перед носом друг у друга.
Дружинники смеялись, глядя на них.
Святослав, теряя терпение, кричал:
– Друг дружку не зарежьте, спорщики!
В другой раз Святослав сунул в рот два пальца и пронзительно свистнул. Гремысл оглянулся на князя. Махнул ему рукой Святослав, мол, уступи, пусть торчин ведёт войско как знает.
Гремысл уступил.
После этого случая пришлось Гремыслу уступать и впредь, ибо только он упрётся на своём, Колчко пальцы в рот и давай свистеть. Так и получилось, что до Дона два проводника войско вели, а после Дона до самого Лукоморья уже один.
Близ реки Тор вдруг русичам преградили дорогу несколько тысяч конных половцев.
Русские полки изготовились к сече, ощетинились копьями.
Святослав объехал ряды дружинников, возле сыновей своих придержал коня и строго произнёс:
– Чур, отца не срамить!
По знаку князя полки на рысях двинулись на кочевников.
От половцев прискакал гонец с сообщением, мол, желает половецкий хан с русским князем разговаривать.
– Ишь, чего захотел чёрт узкоглазый! – усмехнулся Святослав и кивнул Колчко: – Спроси у гонца, как зовут хана. Не Шарукан ли?
Оказалось, что хана зовут Токсоба.
Святослав вспомнил предостережения Шарукана, и захотелось ему посмотреть на храброго Токсобу.
На переговоры с ханом Святослав взял с собой помимо Гремысла и Колчко обоих своих сыновей.
Токсоба выехал навстречу Святославу в сопровождении пяти военачальников-беев.
Хан был крепкого телосложения, с жилистой шеей, с коротким приплюснутым носом, с густыми светло-золотистыми бровями под цвет длинных волос, заплетённых в две косы. Глаза у хана были жёлтые, как у рыси. Рыжеватые усы и бородка обрамляли его рот, который постоянно кривился в хитрой усмешке.
К удивлению Святослава, Токсоба заговорил с ним на ломаном русском:
– Здрав будь, княс. Куда путь держишь?
– И тебе доброго здоровья, хан, – сказал Святослав. – В свои владения тмутараканские поспешаю.
– Иль стряслось что-то, княс? – допытывался Токсоба.
– Да так, по своим делам еду, – нехотя ответил Святослав.
Токсоба покачал головой и сощурил глаза, словно кот на печи.
– Ай, ай, княс!.. По своим делам едешь, но по моим степям. За это деньга платить надо!
– Сначала, хан, ты заплати мне за то, что вот уже много лет под моим небом живёшь, – быстро нашёлся Святослав.
Улыбка исчезла с широкого лица Токсобы.
– Как так, княс? – озадаченно пробормотал он. – Небо никому не принадлежит, оно ничьё…
– Поскольку небо ничьё, поэтому я и взял его себе, – с серьёзным видом промолвил Святослав.
Токсоба несколько мгновений размышлял, не спуская пристального взгляда с невозмутимого Святослава. Потом хан рассмеялся отрывисто и резко, обнажив крепкие белые зубы:
– Ай, какой хитрый княс!.. Как степная лисица! Хочу дружить с тобой.
– От дружбы никогда не отказываемся, – сказал Святослав.
Обменялись князь и хан оружием и поклялись не сражаться друг с другом.
Глядя на удаляющегося Токсобу и его беев, Гремысл недовольно проворчал:
– Сколь ещё половецких ханов по Степи рыскает, на всех мечей не напасёшься!
На исходе восьмого дня далеко впереди на краю зелёной холмистой равнины обозначилась обширная бледно-голубая гладь, сливающаяся у горизонта с синим небом.
– Гляди-ка, Давыдко, – весело воскликнул Глеб, – море!..
Давыд привстал на стременах и вытянул шею, впившись жадными глазами вдаль. Ему захотелось погнать коня, чтобы увидеть вблизи необъятную морскую ширь. Глебу хорошо смеяться, он-то прожил на берегу моря четыре года.
В этот вечер русичи расположились станом недалеко от морского берега.
Давыд отлучился из становища. Он зачерпнул пригоршней морской воды и попробовал её на вкус. Горько-солёная морская вода обожгла княжичу горло. Давыд закашлялся и утёр рот рукавом рубахи.
Маленькие волны лениво лизали песок у самых ног Давыда.
Красное закатное солнце медленно погружалось вдали прямо в морскую пучину. Небеса на западной стороне полыхали багрянцем. Тёплый ветер шевелил волосы на голове Давыда. То был чужой ветерок с солёным морским запахом.
…Вернувшийся в стан Давыд услышал отцовский голос у костра:
– Ещё прадед мой Святослав Игоревич[62] примучил здешние земли у морского пролива вместе с городом Тмутараканью. Навёл он свои храбрые полки после разгрома волжских хазар на хазар тмутараканских и обложил их данью. Все здешние народы признали власть и силу Святослава Игоревича, а он перед своим походом на Дунай посадил князем в Тмутаракани своего двоюродного брата. Токмо недолго тот княжил здесь, умер он через год после гибели Святослава Игоревича. При князе Ярополке[63], сыне Святослава Игоревича, в Тмутаракани сидел воевода Сфирн, племянник Свенельда[64]. Уже при нём ясы и касоги[65] отказали русичам в дани. Владимир Святой, брат Ярополка, посадил в Тмутаракани своего сына Мстислава[66]…
– Тот, что от венгерки был рождён? – спросил воевода Ратибор.
– Не от венгерки, а от немки, – ответил Ратибору Гремысл.
– Как же от немки, когда от венгерки! – возразил Ратибор. – Была она четвёртой женой Владимира Святого, и звали её… Звали её Гизелла.
– Гизелла родила Владимиру Позвизда, а матерью Мстислава была немка Адель, – стоял на своём Гремысл.
– А я думал, что Мстислав был рождён чехиней, – проговорил черниговский боярин Перенег.
– От чехини у Владимира Святого был сын Святослав, – пустился в разъяснения Гремысл. – Адель же родила ему кроме Мстислава ещё Станислава и Судислава. Так ведь, княже?
Дружинники посмотрели на Святослава, который с улыбкой слушал этот спор.
– Верно молвишь, Гремысл, – заметил Святослав, вороша палкой уголья в костре. – Адель родила Владимиру Святому троих сыновей, токмо она была не немка, а чехиня. Немку же звали Малфрида, и умерла она в один год с Рогнедой, моей бабкой[67].
– Развёл путаницу, пустомеля! – Перенег шутливо толкнул в плечо сидящего рядом Гремысла. – Я же говорил, что Мстислав был рождён чехиней.
– От кого бы ни был рождён Мстислав, воитель он был хоть куда! – сказал Гремысл. – Притоптал Мстислав своими полками и ясов, и касогов, и обезов[68]… До сих пор все тихо сидят!
– Чего стоишь в сторонке, Давыд, – окликнул сына Святослав, – садись к огню, места всем хватит. Подвинься-ка, Глеб!
Дружинники заговорили о Мстиславе Храбром и о том, как он вышел из Тмутаракани с сильным войском и в сече при Листвене разбил полки своего брата Ярослава Мудрого. Как не пустили киевляне к себе Мстислава, несмотря на то, что Ярослав бросил их, убежав в Новгород. Тогда Мстислав сел князем в Чернигове, а сын его Евстафий вокняжился в Тмутаракани. Вскоре замирился Мстислав с Ярославом, и стали братья вместе править на Руси. Вместе они ходили походом на ятвягов, на восставших ясов, вместе отвоёвывали у поляков червенские города. Всё делали вместе, покуда не умер Мстислав в 1036 году.
Со времён Мстислава Храброго и закрепилась за Черниговом далёкая Тмутаракань.
Ещё три дня скакали дружины Святослава вдоль берега Сурожского моря.
На четвёртый день взорам черниговцев открылись жёлтые стены и башни из кирпича-сырца на вершине каменистого холма. За крепостными стенами виднелись верхушки пирамидальных тополей, крыши теремов, сияли золотом купола и кресты белокаменного храма. Крепость на холме окружали кварталы обширного града, узкие улицы которого, словно ручьи, сбегали к большой бухте, у причалов которой теснились крутобокие торговые суда.
– Вот и Тмутаракань! – невесело проронил Глеб.
Давыд, конь которого шагал рядом с конём Глеба, удивлённо взглянул на брата. Отец Глебу княжество возвращает, а тот не выглядит радостным.
«Чудак, да и только!» – подумал Давыд.
Предместья Тмутаракани утопали в садах и виноградниках. Ветер разносил аромат цветущей черешни, благоухали абрикосовые и грушевые деревья. Повсюду густо росли орех и слива.
Местные жители при виде войска, поднявшего густую пыль на дороге, побежали под защиту городских стен. Многие гнали за собой мулов, коз и коров.
На башнях крепости замелькали копья и шлемы воинов.
– Неужели Ростислава успели упредить? – нервничал Святослав.
Однако штурмовать Тмутаракань черниговцам не пришлось. Ворота города были распахнуты.
Черниговского князя вышли встречать здешние старейшины, хазарский тадун и епископ Тмутараканский Варфоломей. Следом валила толпа именитых горожан, среди которых были и греки, и арабы, и хазары, и персы…
Святослав въехал в Тмутаракань, одной рукой сжимая поводья коня, другой – рукоять меча. Грозным взглядом князь озирал кривые улицы, полные народа, плоские крыши домов, с которых наблюдали за происходящим женщины и дети. Давно он не был здесь. Какие перемены ожидают его в этом приморском разноплемённом городе? Почему без боя впускает его Ростислав в Тмутаракань?
Святослав спешился на площади перед княжеским дворцом. Сопровождаемый своими боярами, он приблизился сначала к епископу Варфоломею, сняв с головы островерхий позолоченный шлем. Епископ осенил князя крестным знамением и прочёл короткую молитву во здравие. Затем Святослав шагнул к старейшинам.
– Где Ростислав, коего вы у себя князем посадили, изменники? – громко промолвил Святослав, не слушая разноголосых приветствий. – Где вы его прячете?
Святослав схватил за шиворот подвернувшегося под руку щуплого старикашку в длинном восточном халате и белом колпаке:
– Где Ростислав? Отвечай!
– Ростислава нет в городе… Ушёл Ростислав вместе с дружиной. Ещё вчера ушёл… – наперебой заговорили старейшины и замахали руками куда-то на восток.
Святослав оттолкнул от себя старика в белом колпаке, и тот тоже торопливо заговорил, тряся бородой:
– Нету в городе Ростислава. Бежал он отсель, княже.
Святослав в недоумении оглянулся на своих бояр. Те тоже ничего не могли понять.
Вперёд выступил Гремысл и жестом подозвал к себе хазарского тадуна.
Хазарин подошёл и поклонился сначала Святославу, потом Гремыслу.
– Как поживаешь, Азарий? – с усмешкой проговорил Гремысл. – Всех конокрадов в округе переловил?
– С этим злом бороться бесполезно, воевода, – опустив глаза, ответил тадун, – а жизнь моя токмо в седле и проходит.
– Жаловал тебя Ростислав своими милостями?
– Жаловал, но с собой, однако, не взял.
Святослав подступил к хазарину:
– Говори, где Ростислав?
– Ушёл он в горы к касогам, князь.
– Когда?
– Вчера поутру.
– Со мной сечи убоялся Ростислав иль замыслил что-то?
– О том не ведаю, князь.
В беседу вступил епископ Варфоломей:
– Перед своим уходом из Тмутаракани Ростислав обмолвился, мол, из всех дядьёв ему люб лишь Святослав Ярославич, а потому не посмею поднять меч на него. Не хочу за добро злом платить.
– Куда же отправился Ростислав, святой отец? – нетерпеливо спросил Святослав.
– Люди поговаривают, что восхотел Ростислав на службу к грузинскому царю наняться, – ответил епископ. – Может, это и правда.
Святослав бросил вопросительный взгляд на Гремысла.
Воевода отрицательно помотал головой:
– Не таковский человек Ростислав, чтоб к кому-то на службу наниматься. Чаю, иное у него на уме, а вот что именно – не могу понять!
– Вот дал Бог племянничка! – сердито промолвил Святослав и выругался.
Епископ Варфоломей поспешил осенить себя крестным знамением и осуждающе посмотрел на князя.
Святослав разместил свою дружину в городе. Глеб, его гридни и челядь снова поселились в белокаменном дворце, выстроенном ещё Мстиславом Храбрым.
Не один день Святослав ломал голову над тем, вернётся Ростислав в Тмутаракань или нет, далеко ли он направил бег своих коней. Жаловался Святославу катепан[69] корсуньский Дигенис. Мол, Ростислав грозился изгнать византийцев из Тавриды[70] и Зихии[71], с этой целью корабли строить начал.
Не лгал катепан, корабли эти Святослав узрел своими глазами на берегу бухты, большие, прочные, пахнущие свежей сосной, со звериными головами на носу. Иные уже почти готовы к плаванию. Разговаривал Святослав и со строителями-корабелами, в основном это были русичи с Волыни и из Новгорода. Никто из них не скрывал, что Ростислав собирался идти в поход на греков по морю. Недружелюбно поглядывали корабельщики на черниговского князя, видно было, что сердцем каждый из них за Ростислава.
Не мог понять этого Святослав. Ведь сын его Глеб не притеснял русских людей, живущих в Тмутаракани. К тому же удел тмутараканский Глебу по закону достался. Почему Глеб не люб здешним людям? Почему народ местный с такой охотой готов служить изгою Ростиславу?
– Не иначе, приворожил Ростислав здесь всех и каждого, – зло молвил Святослав, отмеряя нервными шагами мраморный пол дворцовых покоев. – Не золотом же купил Ростислав тмутараканцев, откель ему взять столько злата! Ох, попался бы мне в руки этот злыдень!
Бояре черниговские лишь молча переглядывались друг с другом: что они могли сказать? И глупцу понятно, что люд здешний не желает видеть князем Глеба. Хотя открыто никто об этом не говорит, но общее настроение местной знати и простолюдинов именно таково. Коль воротится Ростислав в Тмутаракань, опять все за него горой встанут.
– Может, гонца послать к грузинскому царю, дабы он придержал Ростислава, ежели он у него объявится, – высказался боярин Перенег.
– Тогда уж и к касогам гонца слать надобно, – заметил Гремысл.
– Пустое это дело, – махнул рукой воевода Ратибор, – искать ветра в поле.
– Что же век тут сидеть, Ростислава дожидаючись? – раздражённо обронил Святослав.
Ратибор в раздумье пошевелил густыми бровями.
– Думается мне, княже, что Ростислав где-то недалече, – медленно произнёс он. – Верных людишек у него в Тмутаракани хватает, вот Ростислав и ждёт от них известия, когда полки наши уйдут отсель.
Святослав нахмурил лоб: может, и верно мыслит Ратибор.
– В таком случае надо оставить Глеба с малой дружиной в Тмутаракани, а самим с остатним войском к северу податься, домой будто бы, – сказал Перенег. – Эдак мы заманим Ростислава в Тмутаракань. Сами же обратно нагрянем, как снег на голову!
Святослав задумался. И Перенег дело говорит. Если пустился на хитрости Ростислав, то хитростью его и одолеть нужно. А сидеть в Тмутаракани и ждать возвращения Ростислава – без толку.
– Быть по сему, – сказал Святослав, – завтра утром поднимаем полки. В Тмутаракани останется Глеб с тремя сотнями воинов, воеводой при нём будет Гремысл. О том, как гонцами ссылаться станем, после поговорим.
Давыд попросил было у отца дозволения остаться с Глебом в Тмутаракани, но получил непреклонный отказ.
В начале июня черниговская дружина вышла из Тмутаракани и двинулась к переправе через реку Кубань, растянувшись длинной змеёй на узкой дороге.
В этот же день Глеб собрал народ на площади. Молодой князь произнёс короткую речь, в которой он упомянул о преемственности княжеской власти в Тмутаракани. Мол, происходит это волею черниговского князя, ибо так повелось ещё с Мстислава Храброго. Ростиславу, ежели придёт он с повинной головой, дядья его дадут стол княжеский на Руси. Ему же, Глебу, выпало на долю сидеть князем в Тмутаракани не по своей воле, но по воле отцовской.
Народ внимал Глебу Святославичу в глубоком молчании. Гладкие речи ведёт молодой Святославич, но как на деле править станет после того, как указали ему путь от себя тмутараканцы?
На рынках Тмутаракани не стихает суета и толчея, там даже слепой прозреет и растеряет глаза. Что ни день, приходят из-за моря торговые суда, расцвеченные разноцветными парусами. Горы товаров громоздятся на пристани, ещё больше добра по хранилищам распихано. В Тмутаракани, кроме русских и хазарских купцов, в летнюю пору проживают торговцы со всех концов света.
На улицах Тмутаракани, примыкающих к торжищам, живут ремесленники: древоделы, камнерезы, кузнецы, стеклодувы, гончары, кожевники… Не всяк по-русски разумеет, но всяк своё дело знает.
Ходят здесь по рукам самые разные монеты, хотя наибольшим спросом пользуются серебряные арабские дирхемы и золотые греческие номисмы. Повсюду на торговых площадях стоят низенькие столы менял, восседающих на сундуках с самой разнообразной монетой. Подходи, заезжий гость, здесь тебе живо поменяют медные персидские фельсы на славянские куны[72] и гривны или франкские солиды на золотые киевские змеевики.
Спокойно было в Тмутаракани с уходом отсюда черниговских полков, однако витала в воздухе какая-то смутная тревога. Помимо княжеских мытников повсюду ходили вооружённые Глебовы дружинники в кольчугах и шлемах, днём и ночью на крепостных стенах дежурила недремлющая стража. Начеку был князь Глеб, а вместе с ним и весь город.
Тадуна хазарского Гремысл отправил куда-то с глаз долой якобы с поручением, а сам воевода с таинственным видом как-то обмолвился Глебу: «Скоро вернётся хитрец Азарий и Ростислава за собой приведёт».
Дни проходили за днями, но Ростислав не объявлялся.
Прошёл июнь, начался июль…
К Андрееву дню (17 июля) иссякло терпение Святослава. Отправил он к Глебу гонца с отрядом всадников. Послание Святослава было коротким: «Уповай на себя, а не на Бога, сын мой. Даю тебе ещё две сотни гридней для укрепления твоего духа. Будь здоров!»
…Покуда добрался Святослав до Чернигова, наступил август, уже вовсю хлеба заколосились. Созрели яблоки в княжеском саду. Жара стояла такая, что хоть из речки не вылезай.
Отпустил Святослав домой переяславскую дружину. Приветлив и радостен он был в те дни.
На вопрос Олега, что стало с Ростиславом, Святослав с улыбкой ответил:
– Прослышал тетерев, что охотник приближается, и упорхнул подальше, сынок.
– А коль вернётся Ростислав в Тмутаракань, что тогда? – осторожно спросила Ода.
– Глеб ныне крепко сидит в Тмутаракани, – не без самодовольства ответил Святослав. – Я ему пятьсот воинов оставил и Гремысла в придачу. К тому же катепан корсуньский обещал Глебу триста пешцев прислать. Да из хазар-христиан набралось две сотни охочих молодцев служить моему сыну. Пусть-ка сунется Ростислав!
Едва собрали смерды урожай и завыли осенние холодные ветры, дружина Глеба вдруг объявилась под Черниговом. Увидев стяг Глеба, Святослав поначалу своим глазам не поверил. Потом, придя в ярость, Святослав прямо в воротах детинца стащил Глеба с коня и так угостил его кулаком, что одним ударом с ног сбил.
Гремыслу тоже досталось. Обругал его Святослав непристойными словами в присутствии бояр своих.
– Что это за напасть такая! – возмущался Святослав. – Мой старший сын свой княжеский стол отстоять не может! И дружина у него есть, и воевода, и меч держать он обучен, а от сечи бежит!..
– Э-э, князь, не горячись, – вступился Гремысл за Глеба. – На сей раз Глеб вывел свою дружину на сечу с Ростиславом. Да уклонился от битвы Ростислав, хотя касогов и ясов пришло с ним великое множество. Гоняться за Ростиславом мы не стали, повернули назад в Тмутаракань. Глядим, а ворота заперты. На стенах городских народ шумит, кричат Глебу, чтоб уходил он обратно в Чернигов. Глеб дружину на штурм повёл, но сзади опять подошёл Ростислав с касогами. Так и метались мы меж двух огней два дня и две ночи. На третий день ушли от Глеба те немногие тмутараканцы, что с ним были, ушли и хазары-христиане, а от катепана Дигениса подмога так и не подошла. Что нам оставалось делать, князь? Посовещались мы с Глебом и повернули коней на Русь. Ростислав нам в этом не препятствовал, наоборот, ествы дал на дорогу.
– Ну, прямо рыцарь из Одиных баллад! – сердито фыркнул Святослав.
– Рыцарь – не рыцарь, но одолел нас Ростислав не копьём, а умом, княже, – с тяжёлым вздохом произнёс Гремысл. – Мне-то что, я за свою жизнь немало сражений прошёл и ни разу бит не был, а Глеб сильно переживает. Ущемил его мужское самолюбие Ростислав.
– Поделом Глебу, – проворчал Святослав, – меньше Псалтырь читать будет.
Глеб и впрямь мрачнее тучи вступил в отчий дом, и та восторженная радость, с какой встретила его Ода, привела его в недоумение. Ода запечатлела столь пламенный поцелуй на устах Глеба, какой, пожалуй, дарят лишь горячо любимому человеку.
Смущённый этим отнюдь не материнским поцелуем, Глеб отстранил от себя Оду и хмуро обронил:
– Недостоин я твоих ласк, матушка. Без битвы побил меня Ростислав…
– Это Господь не дал пролиться ни твоей, ни Ростиславовой крови, сынок, – убеждённым голосом сказала Ода. И, не давая Глебу возразить, она тут же добавила: – Это Господь возжелал, чтоб вы с Ростиславом не стали врагами. Это Господь! Он услыхал мои молитвы!..
Глеб даже онемел от неожиданности: неужели его очаровательная мачеха молилась за него?! В этот миг ни о чём не догадывающийся Глеб почувствовал себя счастливейшим из людей.
Глава третья. Недобрые знамения
(1065) В это же время случилось знамение небесное. На западе явилась звезда великая с лучами как бы кровавыми, с вечера выходившая на небо после захода солнца.
Повесть временных лет
Дивился Святослав, зачем это Изяслав столь спешно его к себе вызывает. Иль проведал Изяслав о неудаче Святослава в Тмутаракани и надумал вмешаться. Именно эта мысль и сподвигла Святослава без задержки в Киев примчаться.
Изяслав был приятно удивлён скорым приездом Святослава на его зов.
Уединился Изяслав с братом и поведал ему о своих печалях:
– Покуда ты ходил в Тмутаракань, брат мой, на Руси недобрые знамения появлялись то тут, то там. На Ивана Купалу вечером звезда кровавая взошла на небе, и являлась та звезда семь дней кряду. Народ напуган был, люди из храмов не выходили. Кто-то слух пустил, что конец света близко. Я с митрополитом разговаривал, и поведал мне Ефрем, что не к добру сие знамение.
В древние времена, при римском кесаре Нероне в Иерусалиме тоже звезда великая с вечера воссияла над городом: предвещало это нашествие римского войска. При кесаре Юстиниане звезда двадцать дней блистала над Константинополем. Стала она предвестницей крамол и болезней среди людей.
На Максима (11 мая) в Новгороде видели, как почернело солнце средь бела дня, словно его щитом прикрыли, и мрак упал на землю. Ефрем сказывал, что при царе Ироде над Иерусалимом случилось такое же знамение и через сорок дней после этого царь Антиох напал на Иерусалим.
Но это ещё не всё, брат мой. Совсем недавно рыбаки на речке Сетомли выловили неводом мёртвого младенца. Устрашились они вида его и принесли в Киев, чтобы показать знающим людям. Видел того младенца и я. Уродец сей таков: вместо ног у него были руки, вместо рук ноги, а на лице срамной мужской отросток. Ефрем сказал мне, что при кесаре Маврикии некая женщина близ Царьграда родила ребёнка без глаз и без рук. После чего был голод в империи ромеев и междоусобная война. Вот так-то, брат мой.
Святослав презрительно усмехнулся:
– Ты больше Ефрема слушай, брат. Он тебе наплетёт небылиц!
– Грех такое молвить, брат, – нахмурился Изяслав. – Ефрем ведь не выдумками меня тешит, всё это в книгах прописано. Такое, слава Богу, случается не каждый год, поэтому люди испокон веку наблюдали, к чему могут привести такие знамения.
– А нам-то чего ждать от этих знамений, Ефрем тебе поведал? – спросил Святослав.
– Усобица разгорится на земле Русской, – печально ответил Изяслав, – или же нахлынут поганые из Степи, поскольку звезда была красная, предвещающая кровопролитие. Я ведь зачем тебя к себе призвал…
– Про знамения поведать, – вставил Святослав, не скрывая скептической усмешки.
– Знамения – это присказка, а сказка будет впереди, брат, – хмуря брови, продолжил Изяслав. – Слыхал, что Всеслав Полоцкий учинил?
– Нет, не слышал, – насторожился Святослав.
– На Ильин день (2 августа) подступил окаянный Всеслав с ратью ко Пскову и бил пороками в стены. Три дня отбивались псковичи, на четвёртый день Всеслав пожёг всю округу и ушёл в свои Подвинские леса. Сбываются знамения-то!
– Неужто трое Ярославичей одного Брячиславича не одолеют! – Святослав покачал головой. – Скликай рать, великий князь, до зимних холодов успеем добраться до Всеслава.
Изяслав оживился, повеселел:
– Мыслишь, брат, стоит проучить Всеслава?
– Непременно нужно проучить наглеца! – Святослав поднял правый кулак и потряс им.
– Моя дружина уже готова выступить, – сказал Изяслав. – По чести говоря, не хотел я, брат, без тебя войну начинать, дабы Всеслав не подумал, будто между нами сладу нет. Ждал я, когда ты из Тмутаракани возвратишься.
– А Всеволод согласен ли воевать со Всеславом? – спросил Святослав.
– Всеволод токмо сигнала ждёт, чтоб двинуть свою дружину в поход, – ответил Изяслав. – Едины мы помыслами с ним.
– Думается мне, с той поры вы с ним едины помыслами стали, как уступил ты Всеволоду Ростов и Суздаль. Не так ли, брат?
В глазах Святослава сверкнули коварные огоньки.
Изяслав смутился и не нашёлся, чем ответить на это. Умеет Святослав его огорошить!
А Святослав, как ни в чём не бывало, глаза опустил, завздыхал:
– Не повезло мне в Тмутаракани, брат. Ростислав бежал от меня в горы, но стоило моей дружине уйти обратно в Чернигов, он вернулся и опять согнал сына моего с тмутараканского стола. Придётся мне вдругорядь к Лукоморью полки вести.
Изяслав мигом вставил своё слово:
– Вместе пойдём, брат мой. Доберёмся и до Ростислава!
Святославу лишь того и надо было.
Договорились братья соединить свои дружины у городка Любеча в середине октября. После отъезда Святослава Изяслав послал гонца в Переяславль, к брату Всеволоду.
…Осень выдалась сухая и тёплая. С Семёнова дня (14 сентября) помочило немного землю дождями и перестало.
Святослав дождался, когда смерды сметают сено в скирды, и только тогда разослал по сёлам бирючей[73], созывая охочих людей в своё войско. На сборы ушло пять дней. Покуда добрались до Чернигова ратники из Курска, Рыльска, Путивля, Стародуба и других городов, покуда воеводы распределили всех по сотням и тысячам да вооружили тех, кто пришёл с голыми руками, – а из деревень таких пришло немало, – покуда подвезли съестные припасы с княжеских погостов и амбаров.
Черниговская дружина готовилась к походу особенно тщательно – Всеслав враг опасный. Гудит воинский стан у стен Чернигова, на берегу реки Стрижень.
Накануне выступления Святослав собрал воевод и своих старших сыновей на военный совет.
– Двигаться скрытно будем, дабы не почуял Всеслав беды, – сказал Святослав, – а посему чёрные люди и пеший полк порознь к Любечу выступят.
– Как же им порознь идти, княже, ведь дорога-то на Любеч одна, – заметил Гремысл.
– По одной дороге, да не в один день, – пояснил Святослав, бросив на Гремысла строгий взгляд. – С пешим полком ты пойдёшь, а чёрных людей Путята Прокшич возглавит. Во главе молодшей дружины Глеб встанет, во главе старшей дружины – Регнвальд.
Воеводы незаметно переглянулись. Похоже, сердит князь на Гремысла, коль не доверил ему старшую дружину, а поставил его над пешей ратью.
Глеб же после слов отца преобразился, в его очах огонь заиграл. Приосанился он. Наконец-то и его отец поставил вровень с главными воеводами!
На другой день спозаранку пеший полк ушёл в сторону Любеча. В полдень следующего дня Путята Прокшич двинул по той же дороге чёрную рать.
Пробудившись как-то на рассвете, Ода поднялась с постели, глянула в окно на далёкое поле за Стриженью. Там больше не дымили костры, не стояли повозки, не было видно ни шатров, ни шалашей. Опустел широкий луг.
Услышав, как заворочался на ложе Святослав, Ода оглянулась на него и насмешливо промолвила:
– Проспал ты войну, князь мой. Ушло войско без тебя.
Сонный Святослав приоткрыл глаза и взглянул на жену.
– Утопали, стало быть, мужички… – пробормотал он. – Вот и славно!
Князь вновь закрыл глаза.
За утренней трапезой Ода сидела за столом между Глебом и Вышеславой.
Сидящий напротив Олег то и дело кидал на мачеху взгляды исподлобья. Ода поймала на себе один из таких взглядов и обратилась к Олегу с шутливым вопросом:
– Тебе, наверно, хочется сегодня закусить не этим налимом, а мною, коль ты пожираешь меня такими взглядами. Не так ли, Олег?
Олег смутился и ничего не ответил.
– Матушка, Олег пожирает завистливыми взглядами Глеба, а не тебя, – с улыбкой сказал Давыд, – ведь это ему батюшка доверил молодшую дружину.
Ода повернулась к Глебу:
– Это так, сынок?
Глеб молча покивал головой, поскольку рот его был набит жареной рыбой.
Вышеслава и Ярослав засмеялись.
Потом посыпались остроты Святослава, на которые лишь Роман достойно отвечал своими остротами. И снова за столом звучал смех, причём звонче всех смеялась Вышеслава.
Вышеслава вышла к завтраку без платка, с волосами, заплетёнными в длинную косу. Румянец на щеках и вьющиеся на висках локоны придавали Вышеславе необыкновенное очарование. Юный Ярослав не спускал восхищённых глаз со своей старшей сестры. Мать и Вышеслава являлись для Ярослава самыми близкими людьми, так как именно с ними он виделся чаще, с ними он разговаривал на немецком, ставшем для него вторым родным языком.
Святослав не жаловал своего младшего сына особым вниманием, его холодность к жене постепенно перешла и на Ярослава, который унаследовал все черты сходства с Одой. Старшие сыновья Святослава уже вышли из детского возраста и относились к Ярославу скорее с дружеской опекой, нежели с братской любовью. Отчасти в этом была виновата и Ода, которая изначально старалась пробудить в своих пасынках не сыновние, а дружеские чувства к себе. Материнское начало проснулось в Оде лишь с рождением Ярослава. Тогда Оде самой исполнилось двадцать лет. К тому времени пасынки отдалились от Оды, попав под опеку воспитателей. Оде оставалось изливать пробудившуюся в ней нежность на Ярослава и Вышеславу, которые всегда были подле неё.
Став постарше, пасынки порой позволяли себе держаться на равных с Одой, цветущий вид которой и непринуждённая манера общения не воздвигали перед ними барьера в виде излишней почтительности. Пасынки называли Оду матушкой, но между собой они звали её по имени или употребляли прозвища, подходящие для хорошенькой молодой женщины. Между взрослеющими старшими сыновьями Святослава незримо шла непрестанная борьба за внимание Оды, первенство в которой держал Глеб до своего отъезда в Тмутаракань. Затем место Глеба ненадолго занял Давыд, не умеющий облекать свои мысли в красивые фразы и напрочь лишённый остроумия, поэтому Ода стала оказывать больше внимания Олегу и Роману, оставив Давыда в тени.
Возвратившийся из Тмутаракани Глеб вновь завладел вниманием и расположением Оды. Это обстоятельство пробудило в Давыде чувство зависти и уязвлённой гордости. Втайне Давыд не мог не восхищаться Глебом, ведь тот так непринуждённо держится с Одой! Глеб умеет рассмешить мачеху остроумной шуткой и заставить её задуматься, переведя беседу в серьёзное русло. Глеб, в отличие от Давыда, не просто много читает, он запоминает и переосмысливает всё прочитанное.
Олег, как и Давыд, сильно ревновал Оду к Глебу. Это выводило Олега из себя, ибо он привык повелевать своими чувствами. И только Роман ко всяким переменам относился спокойно. Быть может, из-за того, что Ода никогда не забывала напоминать ему о том, как он красив!
Наконец и княжеской дружине пришло время выступать в поход.
Конница, сотня за сотней, выходила за ворота детинца. Всхрапывали кони, звенела под копытами мёрзлая земля. Ярко алели на фоне белокаменных стен Спасского собора и княжеских хором красные плащи и щиты всадников.
– Что же, княже, ни тулупов, ни полушубков с собой не берёте, – молвил тиун, торопливо спускаясь по ступеням крыльца следом за Святославом. – Ведь холода на носу. Помёрзнет твоё воинство!
– Какие холода, Аксён? – засмеялся Святослав. – Лист с вишнёвых деревьев ещё не опал. Стало быть, до Дмитриевской недели нам снегу не видать!
– А коль установится санный путь сразу после Дмитриевской недели да прихватит морозцем, – не отставал тиун, – тогда как, князь?
– Не будет нынче зима морозной, – беспечно отозвался Святослав. – Видал небось: журавли низко на юг летели. Эй, соколики! – окликнул князь сыновей. – Довольно прощаний, живо по коням! Труба уже дважды пропела!
Сам Святослав уже успел проститься и с женой, и с дочерью, и с боярином Веремудом, коего он оставлял вместо себя в Чернигове.
Роман первым взлетел на своего белогривого жеребца и поскакал вслед за отцом к распахнутым настежь воротам. Давыд выпустил из объятий Вышеславу и с кряхтеньем взобрался в седло. Не привык он подниматься в такую рань.
Олег перебросил поводья через голову коня, но медлил вступать ногой в стремя, следя краем глаза за тем, как прощаются Ода и Глеб. Мачеха держала Глеба за руку и что-то негромко говорила ему. Глеб кивал ей головой в островерхом шлеме. Вот к ним приблизилась Вышеслава, ведя за руку Ярослава. Ода быстро поцеловала Глеба в щеку и обернулась, ища кого-то глазами. Мимо неё проехал Давыд на рыжей лошади. Ода помахала ему рукой. В следующий миг она встретилась взглядом с Олегом.
Олег сунул ногу в стремя, намереваясь вскочить в седло, но Ода, подбежав, задержала его.
– Мой юный князь! – промолвила Ода. – Чувствую, я в немилости у тебя. За что?
Олег отвернулся:
– Мне пора, Ода. Прощай!
Молодая женщина невольно замерла: Олег впервые назвал её по имени! Только в этот миг Ода вдруг догадалась, что творится в душе Олега. Лишь сейчас Ода осознала, что скованность Олега и его пристальные взгляды, обращённые к ней, порождены тем чувством, которое со временем превращает юношу в мужчину. Чему удивляться? Олегу уже семнадцать лет, это пора первой любви. Но как ей вести себя в этом случае, Ода не знала.
Поэтому она в лёгкой растерянности застыла посреди опустевшего двора, глядя на распахнутые ворота, за которыми исчез вскочивший на своего гнедого Олег. Его красный развевающийся плащ мелькнул раза два и исчез – улица, идущая по городу от детинца, шла под уклон.
Теперь Оде придётся следить за тем, чтобы Вышеслава не заметила в Олеге того состояния, какое обычно даже молоденькие девочки замечают в мужчинах в силу заложенного в них дара природы. Оде придётся также следить и за тем, чтобы чувство влюблённости к ней Олега не переросло в нём в жгучую страсть.
Поднявшись в свои теремные покои, Ода взглянула на себя в овальное венецианское зеркало на длинной ручке. Ей придётся хоть чуточку подурнеть, придётся стать более строгой и неприступной, дабы её повзрослевшие пасынки не видели в ней объект вожделения!
Ночью Оде приснилось, что она целуется с Ростиславом где-то в саду среди яблонь, а рядом нетерпеливо роет копытом землю горячий Ростиславов конь. Душа Оды тает от блаженства, её пальцы тонут в густых кудрях Ростислава. На них изливает свои горячие лучи ласковое солнце, и птицы заливаются у них над головой…
Ода спрашивает у Ростислава, кивая ему на коня: «Далече ли собрался, любый мой?»
Ростислав с улыбкой отвечает: «Далече, моя ненаглядная. В Тмутаракань!»
«Побудь хоть пару денёчков со мной, – просит Ода, – муж мой ныне далеко, и сыновья его с ним. Нам никто не помешает!»
«В тереме глаз много, а в Чернигове и того больше», – возражает Ростислав.
«Хочешь, в лес ускачем, – восклицает Ода, прижимаясь к Ростиславу, – там нас никто не увидит!»
«Мы в лес поскачем, а за нами слух потянется», – молвит Ростислав и понемногу отступает от Оды к коню.
Ода чувствует, как выскальзывают пальцы любимого из её вытянутых рук, хочет она побежать за ним и не может сойти с места. Ноги Оды словно окаменели.
Улыбка исчезла с лица Ростислава, и голос его стал тише:
«Прощай, Ода. Видать, не дано нам счастья изведать».
«Возьми меня с собой, Ростислав! – крикнула Ода. – Я согласна с тобой хоть на смерть!»
Не послушал Оду Ростислав, вскочил он на коня и умчался.
Напрасно звала его плачущая Ода.
Толчок пробудил Оду от сна. Она открыла глаза, не сознавая вполне, где находится, в её ушах ещё звучал топот удаляющегося коня.
Над Одой возвышалась полуобнажённая Регелинда с распущенными по плечам волосами и укоризненно качала склонённой набок головой.
– Госпожа, кого это ты звала во сне? – спросила служанка с язвинкой в голосе.
Ода легла на спину и сжала виски ладонями, приводя мысли в порядок.
– Неужели я разбудила тебя, Регелинда? – пробормотала она.
– Нет, госпожа. Я уже встала и расчёсывала волосы, когда услышала, что ты зовёшь кого-то.
– Кого же я звала?
– По-моему, Ростислава… – помедлив, ответила служанка, а в её глазах Оде почудился упрёк.
– Тебе показалось, Регелинда.
– Нет, госпожа.
– Так ты подслушивала под дверью, негодница! – рассердилась Ода. – О Дева Мария, я слишком добра к тебе!
По лицу Регелинды промелькнула тень хмурой улыбки.
– Я подошла к двери, думая, что зовут меня. Я разбудила тебя, госпожа, поскольку не хочу, чтобы о твоей тайной любви прознали другие служанки. Мне думается, неспроста ты и Ростислав ходили осматривать строящуюся церковь на Третьяке в то лето, когда Ростислав гостевал в Чернигове. Вы оба ещё довольно поздно вернулись тогда. Святослава не было в Чернигове. Я помню, госпожа, как блестели твои глаза после той долгой прогулки с Ростиславом…
– Замолчи, Регелинда! – Ода стремительно вскочила с постели, намереваясь ударить служанку, но под её прямым взглядом она вдруг сникла и бессильно опустилась на край кровати, склонив голову. Длинные спутанные после сна волосы закрыли Оде лицо. – Об этом никто не должен знать, Регелинда, – сдавленным голосом произнесла Ода. – Я люблю Ростислава.
Регелинда наклонилась и поцеловала склонённую голову Оды.
– Разве ж я не понимаю! – ласково проговорила она. – Вижу, как изводишься. Токмо бы муж твой сего не заметил.
Регелинда ушла.
Ода ещё долго не выходила из спальни, терзаемая отчаянием безысходности и стыдом вынужденного признания. Разве можно что-то скрыть от проницательной Регелинды, которая знает Оду с детских лет, хотя сама старше неё всего на пять лет.
Не принесло Оде успокоения и посещение храма, той самой церкви на Третьяке, с которой у неё были связаны столь сладкие воспоминания. В храме совсем недавно была закончена последняя отделка, в нём было светло и чисто, со стен строго взирали лики святых угодников, остро пахло известью…
Ода долго молилась на более привычной ей латыни, преклонив колени перед алтарём. Она просила у Божьей Матери прощения – уже в который раз! – за то, что совершила плотский грех в Её храме два года тому назад. В конце молитвы Ода, как всегда, попросила Пресвятую Деву Марию помочь ей вновь встретиться с Ростиславом.
«…Отврати от Ростислава копья и стрелы, болезни и наветы и просвети его на добрые дела во славу Господа нашего, – мысленно молилась Ода. – Укажи ему путь, ведущий ко мне, и пусть он не сойдёт с него, даже если путь сей будет длиною в десять лет!»
Ода подняла голову и взглянула на иконостас, на его верхнюю часть: там над иконой «Тайная вечеря» была помещена большая, в половину человеческого роста, икона с изображением Иисуса Христа в архиерейском[74] облачении с Богоматерью справа от Него и с Иоанном Предтечей слева. Мужественное лицо Иисуса было спокойно и торжественно, взор Его был устремлён к дверям храма, в нём застыла тихая грусть, словно Сын Божий видел всю тщету человеческую по избавлению от грехов своих, но поделать ничего не мог. В глазах же Девы Марии Ода заметила сострадание – сострадание к ней!
«Женщина не может не понять женщину, – подумала Ода. – Богородица поможет мне!»
Конные и пешие полки Святослава и Всеволода Ярославичей расположились лагерем на низком берегу Днепра под Любечем. Князья ожидали подхода киевской рати. Ожидание их длилось уже два дня.
Святослав места себе не находил, возмущался нерасторопностью Изяслава.
– Небось с сокровищами своими расстаться никак не может братец наш! – молвил он. – Затеял дело бранное, а сам не чешется! Вот-вот ноябрь наступит, не успеем до зимы разбить Всеслава.
Всеволод ничего не сказал на это, лишь перевернул страницу большой книги в кожаном переплёте, которую он читал.
Святослав раздражённо расхаживал по просторной светлице от окна к окну, посматривая то на широкий двор, где его гридни пробовали остроту своих мечей на вбитых в землю берёзовых кольях, то на высокий частокол, за которым виднелись тесовые крыши теремов любечских бояр.
– Послушай, брат, что сказал царь Филипп Македонский[75] о взятии городов, – с усмешкой обронил Всеволод и зачитал: – «Ни один город не сможет устоять, ежели в его ворота войдёт осёл, гружённый золотом». Каково, а?
– Это ты Изяславу прочитай, – отозвался стоящий у окна Святослав, – с его-то казной можно подкупом города брать.
Наконец, на исходе второго дня на широкой глади Днепра показались насады[76] с войском Изяслава. С трудом преодолевая сильное течение, крутобокие суда подошли к берегу и сгрудились у мелководья близ любечской пристани в местечке, именуемом Кораблище. Там находились корабельные верфи любечан.
Конная дружина Изяслава прибыла по берегу Днепра.
Братья собрались на совет.
– Я мыслю, надо сразу на Полоцк двигать, – заявил Изяслав.
– Верно мыслишь, брат, – согласился Святослав. – Как пойдём, посуху иль рекой?
– Пешую рать отправим по Днепру до Смоленска, а конница берегом двинется, – сказал Изяслав.
– Разместим ли всех-то пешцев на ладьях? – засомневался Всеволод. – Ведь пеших ратников нами собрано более десяти тыщ, не считая киевлян.
Всеволод посмотрел на Святослава; было понятно, что без черниговских ладей никак не обойтись. Пешее войско Всеволода добиралось до Любеча сухим путём.
– Разместим, – уверенно проговорил Святослав, – а коль ладей не хватит, то я у гостей торговых суда возьму. Нужно выступать не мешкая, братья, покуда не разнюхал Всеслав, что тучи над его головой собираются.
– Нынче же и двинем в путь! – согласился Изяслав.
Однако примчавшийся из Чернигова гонец своим известием спутал все замыслы братьев Ярославичей. Половецкий хан Искал опять вторгся на Русскую землю.
Воевода Веремуд извещал Святослава о том, что хан Искал разбойничает в Посемье, сёла жжёт, смердов в полон уводит. Осадил было Искал город Курск, но отступился, не по зубам пришлись хану курские стены. Теперь становища половцев замечены под Путивлем. Разоряют поганые тамошнюю округу и держат Путивль в осаде.
Спешно подняли князья Ярославичи свои войска.
От Любеча до Чернигова русские полки двигались почти без передышек и поздно вечером вступили в город.
Веремуд сразу же ошарашил Святослава и его братьев новым недобрым известием: половцы оставили Путивль в покое, переправились через реку Десну и теперь хозяйничают на реке Сновь. Большой отряд степняков ушёл на переяславские земли.
Князья разделились. Всеволод повёл переяславскую дружину и пеший полк в свой удел, а Изяслав и Святослав со своими ратниками двинулись к городу Сновску.
У селения Чернеча Гора дозоры русичей наткнулись на половцев.
Святослав переобувался, сидя на трухлявом пне. Его конь оступился при переходе вброд реки Сновь, поэтому князь промочил ноги.
Стоящий рядом Изяслав хмуро заметил:
– Плохая примета, брат.
Святослав пропустил слова Изяслава мимо ушей.
– Слышал, поганые не ждут нас! Чают нехристи, что далече князь черниговский. – Святослав зловеще усмехнулся. – Вот ужо попотчую я нехристей железом и стрелами, они у меня не отъикаются, не откашляются!
Натянув на ноги сухие сапоги, Святослав лихо притопнул сначала правой, потом левой ногой, проверяя, впору обувка или нет. Затем Святослав встал и надел на голову металлический островерхий шлем, поданный ему дружинником.
Подозвав к себе одного из дозорных, Святослав ещё раз расспросил его о половцах.
– Я эти места хорошо знаю, – негромко молвил Святослав Изяславу, пробираясь вместе с ним через молодой березняк. – Нападём на поганых с двух сторон, когда рассветёт. Мои черниговцы обойдут оврагами Чернечу Гору и ударят на нехристей с востока. Ты, брат мой, с запада нагрянешь. Гремысл неприметно проведёт твою рать через лес. Да вели своим воеводам двигаться сторожко, не спугни зверя!
Изяслав подчинился, хотя в душе он был недоволен. Как выступили полки из Чернигова, Святослав только и делает, что всем распоряжается. Изяслав понимал, что Святослав в своих владениях и знает местность как свою ладонь, поэтому не пытался оспаривать приказы брата.
«С чего это Святослав решил, что половцы близко? – сердился Изяслав, шагая по тёмной чаще во главе своих дружинников, ведущих коней в поводу. – Может, ошибся черниговский лазутчик! Мои-то дозорные степняков поблизости не приметили. Теперь тащись ночью по лесу незнамо куда!»
– Далече ещё? – недовольно спросил Изяслав у Гремысла, идущего рядом с ним.
– Лес скоро кончится, княже, – ответил воевода, – а далеко ли от его опушки до половецкого стана, о том не ведаю.
Как-то незаметно растаяла промозглая осенняя ночь. Сумерки стали призрачными, обозначились просветы между деревьями. В этих просветах далеко впереди стал виден широкий луг с побелевшей от инея травой. На лугу паслись лошади, не одна сотня: рыжие, каурые, гнедые…
По знаку Гремысла киевские дружинники остановились.
Тысячи русичей, сжимая в руках оружие, притаились за деревьями. Кое-кому из дружинников с опушки леса были видны вдалеке буро-рыжие пятна других половецких табунов. Русичи прикрывали ладонями и плащами ноздри своим лошадям, чтобы не учуяли они своих степных собратьев. По рядам воинов шёпотом передавали приказ Изяслава: не шуметь и готовиться к сече. Враг близко!
Изяслав изрядно продрог на утреннем цепком морозце. Он злился на Гремысла, который куда-то исчез, прихватив с собой двух молодых гридней.
Рядом с Изяславом зябко топчется на месте воевода Коснячко. Плечи Коснячко укрыты плащом, подбитым волчьим мехом, но, видимо, и тёплый плащ не спасает от холода довольно тучное тело воеводы. За спиной Изяслава вполголоса выругался боярин Чудин, согревая дыханием свои окоченевшие руки.
Уже совсем рассвело. Где-то в чаще леса дробно застучал дятел.
Наконец из кустов вынырнул Гремысл, раскрасневшийся от быстрого бега.
– Заметили-таки нас пастухи половецкие, – выпалил воевода. – Одного нехристя мы сразили из лука, но двое других к своему становищу ускакали. Я велел гридням твоим, княже, настичь их. Пришло время вынимать мечи из ножен!
– А Святослав далеко ли? – спросил Изяслав.
– Думаю, Святослав не замедлит ударить на поганых, – уверенно сказал Гремысл.
Изяслав повернулся к своим воеводам:
– Начнём, перекрестясь, други мои!
Взобравшись на коня, Изяслав вдруг ощутил в своей груди прилив сил и жажду битвы. Он рывком выхватил из ножен длинный меч и срубил им верхушку у тонкой стройной берёзки. Деревце вздрогнуло от сильного удара, с его ветвей сорвалось облако сбитого инея.
Нетерпение Изяслава передалось и киевской дружине. Воины вскакивали на коней, обнажали мечи. Сталь звенела, когда клинки сталкивались невзначай в скученном строю дружинников.
Тишину спящего леса нарушил топот множества копыт, треск сучьев, позвякивание уздечек и пустых ножен, бьющихся о стремена. Русская конница густым потоком хлынула из леса на равнину, уходившую к невысокому косогору. Туда же помчались табуны половецких лошадей, ведомые своими гривастыми вожаками.
Гремысл замешкался, отвязывая от дерева своего коня. Едва он выехал из леса, как мимо него потекла густая колонна киевских пешцев с большими красными щитами, с тяжёлыми копьями-рогатинами.
– Эй, борода! – окликнул Гремысла один из пеших ратников, по-видимому сотник. – Ты князя нашего не видал?
– Видал, друже, – ответил Гремысл, поудобнее устраиваясь в седле. – Видал и князя вашего, и воевод ваших, даже разговаривал с ними.
– Куда же они ускакали? – возмущался сотник. – Нас бросили, где строиться для битвы – не указали. «Поспешайте за дружиной!» А как поспешать, ежели я почти сутки не евши!
Сотник сердито выругался.
Рядом с недовольным сотником остановился другой киевский военачальник и спросил у него, кивнув на Гремысла:
– Это наш воевода?
– Угадал, приятель, – сказал Гремысл. – Велено мне князем Изяславом возглавить пеший киевский полк.
– Что-то лицо твоё мне незнакомо, – недоверчиво проговорил киевлянин, оглядывая Гремысла.
– Так я же черниговский воевода, – обронил тот.
– Неужто у Изяслава своих воевод мало?
– Мало – не мало, а ещё один не помешает, – промолвил Гремысл. – Слушайте меня!..
Гремысл построил пешую киевскую рать длинными плотными шеренгами, поставив впереди копейщиков, а фланги защитив лучниками. В таком боевом строю пешие киевские ратники двинулись к косогору, за которым скрылись табуны степняков и конная дружина Изяслава.
Киевские дружинники уже вовсю рубились с половцами, когда в спину степнякам ударила Святославова дружина. Половцев было больше, чем русичей, но царившее в их стане смятение помешало им использовать это преимущество. Многие половецкие воины были заняты тем, что ловили разбежавшихся лошадей. Хан Искал пытался собрать своих батыров, но его почти никто не слушал. Беки и беи действовали каждый сам по себе, ведя в сражение свои полуконные-полупешие сотни, стараясь отбросить русичей от своего становища.
Лишь один вид наступающих с двух сторон русских ратей лишил половецких военачальников мужества. Они повернули коней и устремились на юг, к Десне. За Десной половцы оставили свои повозки, семьи и скот. За Десной расстилались спасительные степи.
Русичи гнали и рубили бегущих половцев. Холодная равнина на многие вёрсты покрылась телами убитых степняков.
Изяслав предложил было на спешно собранном у костра совете прекратить преследование разбитого врага, но Святослав твёрдо стоял на своём: гнать поганых дальше и захватить их вежи со всем добром.
– Второй раз Искал на Руси разбойничает, нельзя этого пса живым в Степь отпускать, дабы прочим половецким ханам неповадно было соваться к нам! Попленим жён и детей половецких, греки и булгары отсыплют нам серебра за невольников. Табуны половецкие поделим, дружинники наши обогатятся ханским добром, золотом и всяким узорочьем. Полагаю, в шатрах и кибитках степняков есть чем поживиться!
Святослав оглядел своих бояр. Загалдели бояре черниговские, соглашаясь со своим князем. К ним присоединили свои голоса и киевские воеводы. Мол, дело верное, зачем с пути сворачивать, коль богатство врагов само к ним в руки идёт!
А Святослав подливал масла в огонь:
– Не смогут поганые уйти от нас со своими повозками и стадами. Воинов половецких мы истребим, а их жён и дочерей голыми руками захватим. К тому же наверняка у шатров нехристей томятся в неволе пленённые русичи. Негоже нам собратьев-христиан в беде бросать!
Не стал спорить Изяслав со Святославом. На другое утро, закусив сухарями, русское воинство двинулось в погоню за половцами.
Конные дозоры русичей широко рассыпались далеко впереди, отыскивая следы бегства половецкой орды. Княжеские дружины шли споро на рысях, следом за ними скорым шагом двигались пешие полки.
За Десной русичи повсюду натыкались на сожжённые сёла, на вытоптанные поля и огороды. На местах стоянок половцев валялись загнанные лошади и убитые пленники, в основном дети.
– Плохи дела у поганых, коль они коней своих не жалеют и вынуждены бросать желанную добычу, – заметил Святослав. И зловеще добавил: – А скоро будут дела у нехристей и того хуже!
Русичи настигли орду хана Искала у реки Сейм.
Степняки поставили свои повозки в круг и отбивались отчаянно. Однако пересилила русская рать половецкую, семь тысяч половцев полегло в битве. Пало много знатных беков.
К хану Искалу прорвался в сече горячий Роман Святославич, намереваясь сразить его своим мечом. Опытен и отважен был хан Искал, сабля в его руке сверкала, словно молния, над головой Романа. Снёс бы хан голову храброму княжичу, но вовремя подоспел варяг Инегельд, дружинник черниговский. Ловко отбивал Инегельд удары ханской сабли своим длинным узким мечом, затем, уловив момент, он проткнул знатного половца насквозь. Завалился мёртвый Искал на круп своей лошади, и та понесла его тело прочь из кровавой сумятицы в запорошенную первым снегом степь, откуда пришёл её хозяин и куда не суждено ему было вернуться.
Победоносное русское войско вступило в Чернигов, отягощённое добычей. Черниговцы глядели, как идут по улицам города пленные степняки в цветастых коротких кафтанах и замшевых штанах. Половчанки тоже были в шароварах, они прятали свои лица в шалях и покрывалах. Матери прижимали к себе испуганных детей, озираясь по сторонам. У половецких девушек в длинных косах позванивали маленькие колокольчики.
По случаю победы Святослав закатил пир.
В самом большом зале княжеского терема были накрыты длинные столы, за которыми восседали оба князя со своими боярами. Присутствовали на пиру и сыновья Святослава – все, кроме младшего Ярослава. Окропив свои мечи в сече вражеской кровью, братья Святославичи теперь стали вровень со старшими гриднями своего отца. И хотя сильнее прочих отличился в битве Роман, бросившийся на самого хана, смелость и ратное умение его братьев тоже были оценены по достоинству черниговскими воеводами.
На застолье было выпито много хмельного мёду за здравие князей, их жён и сыновей, за единство потомков Ярослава Мудрого.
В разгар веселья захмелевший Изяслав обратился к Святославу:
– Брат, порадовал бы нас сказаниями Бояновыми, благо повод для этого ныне подходящий.
Святослав с горделивой улыбкой утёр усы.
– Отчего же не порадовать гостей именитых. К тому же эдакий песнетворец лишь у меня и имеется. Эй, слуги, позовите Бояна!
Гости примолкли, когда в гридницу вступил высокий осанистый человек в опрятной, но небогатой одежде, через плечо у него висели гусли на широком ремне. Это был знаменитый Боян, сказитель и певец. Гусляр поклонился князьям и боярам, затем слуги усадили его на видном месте, поднесли ему пенного мёду в позолоченном турьем роге. Осушил рог Боян, утёрся ладонью и вскинул дерзко лохматые брови.
Пробежали его узловатые пальцы по струнам, и полилась дивная певучая мелодия. Вдохнул певец полной грудью, и будто наполнился просторный покой густым его басом:
- То не ветры клонят дерева могучие,
- То не громы гремят в поднебесье,
- То ведёт свои рати храбрый князь Мстислав
- Да от синя моря на горы Касожские.
- Заступили русичи на земли кубанские
- Тяжкой поступью да с конским топотом…
Повёл Боян сказ про стародавние времена, про тмутараканского князя Мстислава Владимировича. Воинственный нрав имел князь Мстислав, тяготился он мирной жизнью, примучив в походах все окрестные народы.
Самым упорным противником Мстислава был касожский князь Редедя.
Сошлись однажды на поле брани две рати, и колчаны уже были отворены, и луки были натянуты, как вдруг прискакал гонец от касогов. Предлагал Редедя Мстиславу не губить воинов в сече, но сойтись один на один в честном поединке. Победителю достанется земля побеждённого, его жена и дети. Мстислав ответил согласием.
И вот схватились два князя врукопашную на виду у своих войск. Силён был богатырь Редедя. Почувствовал Мстислав, что изнемогает в схватке с ним. Тогда выхватил Мстислав нож из-за голенища сапога и ударил Редедю прямо в сердце. Рухнул касожский князь бездыханным к ногам Мстислава.
Гости в гриднице, затаив дыхание, слушали сказ Бояна про князя Мстислава Владимировича. Челядь и та столпилась в дверях княжеской трапезной, заворожённая голосом сказителя. Известен был Боян не только в Киеве и Чернигове, но и в Переяславле, и в Смоленске, и в далёком Новгороде. Не было ему равных среди песнетворцев на Руси.
Ещё совсем юным начал Боян слагать песни и исполнять их на княжеских застольях. Многому в своих песнях Боян сам был свидетелем, ибо в дружине княжеской проделал он не один поход. С годами отошёл Боян от ратных дел, поскольку ослаб зрением после ранения в голову.
Закончив первый сказ, Боян затянул следующий о совместном походе Ярослава Мудрого и Мстислава Храброго на ляхов, захвативших червенские города. Крепко бились с русичами воины польского князя Мешко, но всё же были разбиты наголову. С победой возвратились русские князья домой, заключив с ляхами выгодный мир. Польских пленников Ярослав Мудрый расселил на реке Рось, а Мстислав свой полон поселил вдоль реки Сновь, притока Десны.
Изяслав слушал сказания Бояновы и недовольно хмурил брови.
Красиво славит Боян Ярослава Мудрого, но прежде он восхваляет Мстислава Храброго, его брата. В сказаниях Бояна Мстислав непременно на первом месте: он и храбрец отменный, и на милость щедр, и на злобу непамятлив… Выходит, что Ярослав Мудрый при Мстиславе вроде как советник, нежели правитель равноправный.
От Изяслава не укрылось, с каким удовольствием внимают Бояну бояре черниговские и брат его Святослав с сыновьями. Понимают, скоро и про них сложит Боян хвалебную песнь, благо не обеднела ратными людьми Черниговская земля.
«Святослав хоть и родной мне брат, однако же он тянется сердцем не к отцу нашему Ярославу Мудрому, но к памяти и славе нашего дяди Мстислава Храброго», – мрачно размышлял Изяслав, откинувшись на высокую спинку кресла.
Впрочем, это и понятно, ведь память о Мстиславе будет жить вечно в Чернигове. Мстислав поставил этот город на Десне вровень с Киевом. Мстислав же построил здесь каменный Спасский собор, в котором его прах обрёл последнее пристанище.
Дружинники-варяги после смерти Ярослава Мудрого почти все перебрались в Чернигов к Святославу, не считая Шимона и Торстейна, ушедших ко Всеволоду в Переяславль.
Варяги всегда были в чести у Святослава. Вот и на этом пиру по правую руку от черниговского князя восседает свей[77] Инегельд. Что и говорить, отличился Инегельд в битве с половцами! Такой витязь и Изяславу пригодился бы.
На почётных местах на этом застолье сидят и белобрысый Руальд с раскрасневшимся от вина лицом, и длинноволосый невозмутимый Регнвальд, женатый на дочери черниговского боярина Веремуда. Здесь же и задира Фрелаф, и огненно-рыжий Иллуге, бежавший на Русь за какие-то грехи от короля норвежского, и угрюмый Сигурд из страны данов. Все отъявленные сорвиголовы, хваткие на злато и жадные до сечи, а Святославу такие дружинники всегда были по сердцу. Потому-то и дружина у Святослава не чета киевской!
Совсем испортилось настроение у Изяслава от таких мыслей. Получается, что как старший сын унаследовал он лишь честь занимать киевский стол. Лучшие дружинники отцовские ушли от него к Святославу и Всеволоду, видать, не ждут они от князя киевского ратных подвигов и желанной добычи. Княгиня киевская во всём мужу перечит, только и слушает, что ей польские вельможи нашепчут. Изяслава и тут зависть берёт при оглядке на братьев.
Вот Всеволод живёт со своей супругой в любви и согласии. Анастасия родила Всеволоду двух дочерей-красавиц и сына смышлёного.
Святослав хоть и потерял до срока свою первую жену, зато Бог послал ему четверых сыновей, как на подбор, и дочь пригожую. Вторая жена родила Святославу ещё одного сына и вновь может родить, ведь Ода ещё молода. Ну, а коль не родит никого больше Ода, невелика беда. Святославу есть на кого удел свой оставить. Ода же до чего мила и мужу послушна, сыновья со Святославом почтительны, бояре черниговские слова ему поперёк не молвят, а с епископом местным Гермогеном Святослав и вовсе не считается. Истинный самовластец!
У Изяслава одна радость – это его младший сын Ярополк. Шестнадцать лет недавно исполнилось Ярополку. По красоте нет ему равных среди сверстников. Нрав у Ярополка кроткий и сердце отзывчивое, и тянется он сильнее к отцу, а не к матери, в отличие от братьев своих. Те полностью подпали под влияние Гертруды. Грустно делается Изяславу, глядя на них.
Мстислав, старший сын Изяслава, на брани резв, но вместе с тем и жесток сверх меры. Иной злодей невольно перекрестится, глядя на зверства Мстислава. Изяслав не может взять в толк, в кого его старший сын уродился таким душегубом! Не иначе, в родню с материнской стороны, а может, и в саму Гертруду. Ей бы порты[78] мужские да меч в рученьки белые, уж она-то щедро пролила бы кровушки христианской!
Святополк, средний сын Изяслава, увалень увальнем. Ни слова сказать, ни шагу ступить без совета не смеет. И главной советчицей для Святополка является его мать: её речами он говорит, её головой мыслит. Когда пришла пора Святополку стать мужчиной, Гертруда сама подыскивала девиц ему на ложе, всё из своих служанок-полек. Изяслав тут поделать ничего не мог. Спорить с Гертрудой бесполезно, лучше уступить ей старших сыновей, лишь бы она оставила в покое младшего Ярополка.
Дочерей от Гертруды Изяслав уже не ждал, какие дочери в её-то тридцать восемь лет!
Всеволод слывёт образованным человеком, любой посол иноземный слышал о нём. Ещё бы, ведь Всеволод – родня византийским императорам! Греки с дарами постоянно обивают пороги в Переяславле. Вот так бы польский князь почитал Изяслава. Да куда там! От родичей Гертруды даров не дождёшься, они сами норовят урвать что-нибудь на Руси.
Святослава знают в Царьграде и в Германии как воинственного князя, потому и шлют к нему послов василевс ромеев и король германский в обход киевского князя, а Гертруда этим попрекает Изяслава. Получается, что лишь богатством превосходит Изяслав братьев своих, а те превосходят его удалью воинской, умом и размахом в делах. Пожалуй, при таком раскладе Святослав и Всеволод скоро и златом-серебром превзойдут казну князя киевского. Ведь честолюбия не занимать ни Святославу, ни Всеволоду.
Глава четвёртая. Ода
(1066) 3-го февраля умер Ростислав в Тмутаракани.
Повесть временных лет
Зимовал в Чернигове фряжский купец Джованни Брага. Был он частым гостем в тереме черниговского князя. Святослав любил послушать по вечерам рассказы знающих людей про заморские страны, про чужеземные обычаи. Брага за свою жизнь повидал немало земель и городов, сам же он был родом из города Генуи. Проявила интерес к генуэзцу и Ода, узнав, что собирается Брага по весне идти донским путём на юг к Тмутаракани и далее до Царьграда. Замыслила Ода передать через генуэзца послание Ростиславу. Ода намеревалась упредить Ростислава о том, что опять исполчается на него Святослав.
Ода написала грамотку, в которой о грозящей Ростиславу опасности было всего три строчки, весь прочий текст письма состоял из признаний Оды в любви к Ростиславу и описания её душевных страданий из-за разлуки с ним. Также Ода умоляла Ростислава повиниться перед Изяславом, уступить Тмутаракань Святославу и принять под свою руку любой из городов на Руси, какой соблаговолит уступить ему киевский князь.
Внимание черниговской княгини льстило падкому на женщин генуэзцу. Джованни Брага постарался улучшить впечатление Оды о себе богатством своих нарядов и изысканностью манер, коих он насмотрелся при дворах итальянских герцогов. С Одой генуэзец разговаривал только по-немецки, который он знал гораздо лучше русского.
Накануне Рождественского поста Джованни Брага преподнёс Оде золотой перстень с сапфиром, а на Крещение Господне он подарил княгине золотой браслет. Ода в знак своего расположения позволяла генуэзцу целовать свою руку, когда этого никто не видел. Ода и не догадывалась, что любвеобильный купец жаждет гораздо большего. Ода полагала, что пленила черноглазого генуэзца своими чарами и тот готов на всё ради неё. Собственно, Ода этого и добивалась исподволь и с неустанной настойчивостью. Однако Ода не учла того, что она затеяла любовную игру не с юношей, а с сорокалетним мужчиной, уже вкусившим от греховного плода. Ода и не догадывалась, что Брага, растливший за свою жизнь немало дев и совративший немало замужних женщин, дал себе слово к весне «отпереть восхитительные интимные врата черниговской княгини своим чудо-ключом». Многочисленные победы в любовных похождениях сделали Брагу необычайно самоуверенным.
Однажды Ода отправилась на конную прогулку, взяв с собой Брагу.
Февраль был на исходе. Снег потемнел по обочинам дороги и осел под лучами пригревающего по-весеннему солнца. На проталинах желтела прошлогодняя трава.
Княгиня и генуэзец свернули с широкой дороги на узкую сосновую просеку. Они перевели коней на шаг и медленно ехали бок о бок под стрекот растревоженных сорок.
Ода решилась наконец посвятить Брагу в свою тайну.
Княгиня поведала Браге про письмо, вскользь намекнув ему о своих любовных отношениях с Ростиславом. К удивлению Оды, генуэзец вместо безоговорочной готовности доставить её послание к Ростиславу заговорил с нею о цене за эту услугу. Причём Брага намекнул Оде, что цена эта должна быть немалая, что он надеется получить от княгини не деньги, а нечто иное…
По глазам и голосу генуэзца Ода догадалась, к чему тот клонит, но притворилась глупышкой, желая поставить собеседника в неловкое положение.
– Конечно, милый Джованни, я щедро вознагражу тебя мехами, – сказала Ода. – Какие меха ты предпочитаешь? Беличьи?.. Куньи?..
– Я жду от моей обожаемой княгини не мехов, а ласк, – промолвил Брага с откровенно похотливой улыбкой на устах.
У Оды вспыхнули щёки, словно объятые пламенем. Она резко натянула поводья и остановила своего скакуна. Брага тоже остановил своего саврасого жеребца, повернув его боком перед конём Оды.
Их глаза встретились: гневные голубые и насмешливо-нахальные тёмно-карие.
– Не забывай, кто перед тобой, торгаш! – гневно воскликнула Ода и замахнулась плетью на генуэзца. – Это тебе за дерзость!
Плеть свистнула в воздухе. Брага, вскинув руку, ловко поймал конец кнутовища.
– Полегче, княгиня, – вмиг посерьёзнев, проговорил генуэзец, – не то твой вспыльчивый супруг сегодня же узнает про твоё любовное послание к Ростиславу.
Ода невольно смутилась от такой наглости. Да, она явно ошиблась в Браге! Кто бы мог подумать, что у столь весёлого и благородного на вид человека такая чёрная душа!
– Отныне я поверенный в твою тайну, княгиня, – тоном превосходства продолжил Брага, – поэтому меня нужно не бить, а лелеять.
Ода рванула плеть на себя. С каким удовольствием она исполосовала бы ею наглое лицо генуэзца!
Но Брага крепко держал кнут.
– Если моя княгиня будет сердиться на меня, я не стану ей мстить здесь из уважения к её гостеприимству, – молвил он, – но я отомщу ей в Тмутаракани при встрече с Ростиславом. Например, я могу сказать Ростиславу, что ты, краса моя, из ревности отравила его детей, которые ныне находятся в Киеве. Либо же я преподнесу Ростиславу вино, настоянное на дурман-траве, якобы от тебя, моя княгиня. И твой ненаглядный сойдёт с ума, отведав этого вина.
С этими словами Брага отпустил конец плети.
Ода не мигая глядела в лицо генуэзцу, её сухие губы были плотно сжаты. Она словно забыла про плеть в своей руке.
– Князь Святослав в разговоре со мной с неудовольствием упоминал про Ростислава, – добавил Брага, сузив свои чёрные глаза. – Святослав возненавидит Ростислава ещё сильнее, коль узнает, что его жена когда-то согрешила с ним. Сколько раз это было, милая княгиня?
– Ты решил меня исповедовать, друг мой? – со зловещим спокойствием произнесла Ода.
– Я интересуюсь этим лишь из зависти к счастливчику Ростиславу, – торопливо вымолвил Брага, видя, что Ода развернула коня и поехала обратно.
Генуэзец догнал княгиню и держался рядом с ней, сдерживая своего жеребца, рвущегося вперёд.
– Не гневайся на меня, дорогая княгиня, – мягким голосом заговорил Брага. – Я вижу, что оскорбил тебя своим откровением. Мне ведомо, что русские княгини крайне щепетильны в любовных делах с чужими мужчинами, их весьма трудно сбить с праведного пути. Но ведь ты – немка, моя обожаемая княгиня. И, судя по твоей тайной связи с Ростиславом, ты – женщина нормальная, без бредовых предубеждений. Ты изменяла мужу с Ростиславом, может с кем-то ещё, я не осуждаю тебя за это. Боже упаси! В той стране, откуда я родом, любая знатная женщина имеет любовника, а то и нескольких. Над глупышками, хранящими верность своим мужьям, на моей родине все просто смеются.
Ода хранила каменное молчание.
Брага продолжал делать попытки разговорить её.
– Значит, я ошибся, полагая, что прелестная княгиня влюблена в меня, – печально вздыхал он. – Напрасно я тешил себя мечтами…
– Интересно какими? – не удержалась Ода.
Генуэзец мигом преобразился, в его глазах появился блеск, смуглое лицо его с острым носом и чёрной бородкой будто озарилось тихой радостью, а его полноватые губы тронула лёгкая улыбка человека, познавшего счастье. Хитрец Джованни прекрасно знал женщин и умел при случае затронуть именно те струны в их душах, которые пробуждают в них опасные минутные влечения. Цветок красноречия Браги раскрылся во всём великолепии! Генуэзец умело расставил сети, как уже проделывал в прошлом много раз, и Ода, сама того не сознавая, запуталась в них. Даже горячее полуденное солнце, под лучами которого снег сделался мягким и прилипал к копытам лошадей, казалось, помогало коварному искусителю. Солнечные лучи били в глаза генуэзцу, такие выразительные и красивые, а как сверкали белизной перламутровые зубы Джованни! Как чувственно он причмокивал своими пунцовыми губами! Целоваться с ним приятно, наверно, любой женщине.
Впрочем, и слушать Брагу доставляло Оде немалое удовольствие, хотя поначалу она не хотела себе в этом признаться, но после второй или третьей шутки генуэзца она засмеялась. Затем Ода позволила Браге погладить себя по руке и вскоре забыла о ссоре с ним в сосновой просеке. В такой чудесный день грех сердиться на столь остроумного собеседника!
Княгиня и генуэзец неторопливо ехали по дороге. Впереди уже маячили бревенчатые стены и башни Чернигова.
Брага продолжал опутывать Оду своей льстивой речью. Ведомо ли его обожаемой княгине, что он может сделать её самой счастливой женщиной на свете?!
– Я буду счастлива только с Ростиславом, – сказала Ода.
– И я к тому речь веду, – вставил Брага.
Оказывается, в Кафе[79] у него есть знакомый вербовщик наёмников, а в Херсонесе[80] живёт богатый судовладелец, его давний друг. Отряд воинов и быстроходные корабли, вот что нужно Ростиславу! Любой итальянский герцог с радостью возьмёт его к себе на службу. Не нравится Италия, Ростислав может наняться на службу к византийцам, отменные воины везде нужны.
– А как же я? – спросила Ода.
– Ты будешь вместе с Ростиславом, – ответил Брага. – Я помогу тебе бежать из Чернигова в Тмутаракань. Счастье не ждут, за ним идут на край света, моя княгиня!
– Я не уверена, что Ростислав согласится служить византийскому императору и тем паче какому-то герцогу, – засомневалась Ода. – Ростислав слишком честолюбив для этого.
– В таком случае пусть Ростислав сам станет императором! – проникновенно воскликнул Брага. – У ромеев в прошлом случалось такое, когда военачальники занимали трон и правили империей. К примеру, Василий Первый, основатель Македонской династии ромеев[81], в юности был конюхом, потом выдвинулся в полководцы, потом выше… Сильный и отважный человек может всего добиться в жизни! Таков ли Ростислав?
– Да, он таков! – Ода улыбнулась восторженной улыбкой. – Ростислав не станет довольствоваться малым.
– Прекрасно! – Брага хлопнул в ладоши. – Для начала Ростиславу нужно захватить Херсонесскую фему[82] в Тавриде, это произведёт переполох в Константинополе. Я уверен, после этого русские князья сразу зауважают Ростислава. В Тавриде Ростислав при желании сможет основать собственное княжество, более выгодного места для этого просто не найти. С юга Тавриду надёжно защищает море, с севера – степи, с востока – высокие горы. И главное, в Тавриде сходятся торговые пути из Европы и Азии!
У Оды закружилась голова от тех перспектив, какие изложил ей Брага. Ода может стать женой Ростислава и княгиней тмутараканской, у неё будет дворец с фонтанами и белокаменными колоннами, из окон которого видно море. Послы и торговые гости станут толпиться у её трона, будут подносить ей подарки. Рядом с Одой будет восседать красавец Ростислав, князь тмутараканский и владыка Тавриды. Как станут гордиться Одой её отец и мать, все её саксонские родственники! Даже германский король удивится такому возвышению Оды. Супруги Изяслава и Всеволода умрут от зависти. Уезжая к Ростиславу, Ода возьмёт с собой Регелинду и сына Ярослава. Ей будет горько расставаться с Вышеславой, но в жизни всегда приходится чем-то жертвовать ради счастья.
Брага продолжал восторженно описывать, как Ростислав при его мудрой поддержке сумеет заручиться военной помощью генуэзцев и герцога Тосканского. Причём себя Брага уже мнил флотоводцем Ростислава. Он расписывал Оде, как они с Ростиславом обезопасят границы Тмутараканского княжества от вторжений кочевников, как приберут к рукам устья Днепра и Дона, построят большой флот, соберут огромное войско из половцев и кавказских народов, возведут крепости по берегам Греческого моря…
– Но всё это произойдёт лишь после того, как моя обожаемая княгиня допустит меня ко всем тайникам своего прекрасного тела, – молвил генуэзец, заглядывая Оде в глаза. – Это отнюдь не плата за мои будущие услуги, но своеобразный залог доверия ко мне, милая княгиня.
Оду смутил прямой и откровенно вожделенный взгляд Браги. Она подхлестнула коня и поскакала к распахнутым городским воротам.
Обернувшись на скаку, Ода звонко крикнула:
– Я подумаю, синьор Джованни!..
Вечером, закрывшись в своей светлице, Ода ещё раз перечитала своё письмо к Ростиславу. После удивительной картины прекрасных возможностей, расписанных Брагой, это послание показалось теперь Оде жалким и лишённым всякого смысла. Ростислав скорее умрёт, чем склонит голову перед Изяславом!
Ода сожгла письмо и села за стол, обдумывая текст нового послания к своему любимому. Ей хотелось кратко и убедительно изложить в нём всё услышанное от Браги. Однако в голове у Оды вертелись сплошные признания в любви к Ростиславу. Вот если бы Брага сам написал это письмо…
Но уже через минуту Ода отказалась от этой мысли. Пусть лучше Брага посвятит Ростислава в свои замыслы при встрече с ним, так будет вернее. Зачем что-то писать, если Брага всё равно увидится с Ростиславом. К тому же, если Ода окажется в Тмутаракани вместе с Брагой, она сама сможет объясниться с Ростиславом. Ода представила удивлённые глаза Ростислава и улыбнулась. Впрочем, рассказать так, как умеет Брага, у Оды не получится, и бежать из Чернигова без его помощи она тоже не сможет. Стало быть, Оде никак не обойтись без хитрого генуэзца.
На воскресной службе в Спасо-Преображенском соборе Ода стояла на хорах рядом с мужем, слева от неё стояли Ярослав и Вышеслава, а за спиной у неё плечом к плечу выстроились молодцы-пасынки.
Глянув вниз, Ода заметила среди боярских шуб малиновую куртку Браги. Пронырливый генуэзец протолкался почти к самому амвону[83], но он не столько молился, сколько таращился на стоящую на хорах Оду. Увидев, что и княгиня заприметила его, купец принялся строить ей глазки и дарить улыбки. Боярские жёны и дочери недовольно косились на генуэзца, который ко всему прочему ещё и толкался локтями.
На кривлянья Браги обратила внимание и Вышеслава. Она переглянулась с Одой, и обе едва не рассмеялись. Вышеслава подумала, что генуэзец, с которым она была в дружеских отношениях, именно ей оказывает знаки внимания в столь неподходящем для этого месте. Не желая, чтобы это заметил отец, Вышеслава отступила назад и нечаянно наступила на ногу Олегу, тот тоже слегка попятился и упёрся спиной в грудь Гремыслу. На хорах произошло небольшое замешательство. Однако строгий взгляд Святослава мигом восстановил прежний порядок.
Вышеслава опустила голову и закусила губу, чтобы не рассмеяться, краем глаза следя за генуэзцем. Шутовство Браги узрел и Ярослав, который несколько раз прыснул в кулак, получив за это подзатыльник от отца.
Никакие молитвы не шли на ум Оде, малиновая куртка притягивала её взор, отвлекая от золочёного стихаря[84] епископа и длинных риз пресвитеров[85], возвышенный настрой её мыслей сбивался, до неё с трудом доходил смысл богослужения, происходящего у алтаря. Наконец на Брагу обратил внимание и Святослав. Князь обжёг жену таким взглядом, что у Оды по спине пробежали мурашки. Ода сделала вид, будто не замечает генуэзца.
По окончании службы, когда Ода рука об руку со Святославом выходили из храма, Брага вдруг закричал: «Многие лета князю и княгине!»
Толпа прихожан подхватила этот крик.
Ода по лицу супруга поняла, какие мысли обуревают его. Она приготовилась к буре, которая разыгралась в тот же день.
– Тебе, супруга дорогая, допрежь слово на людях молвить, не единожды подумать следует, тем паче блюстися поступков ветреных, о коих молва разойтись может, – суровым голосом сказал Святослав, придя в покои жены и выгнав оттуда всех её служанок. – Мне нужна жена неблазная, ибо Богом мне уготовано власть над людьми держать и людям же примером служить.
– Разве разошлась обо мне молва дурная? – спросила Ода, не теряя своего спокойствия.
– Люди видели, и не раз, как ты вместе с фряжским купцом по Чернигову разъезжаешь, – холодно промолвил Святослав. Он приподнял за подбородок голову Оды, заглянув ей в глаза. – Иль приглянулся тебе сей купчишка, чаровница моя? Молви без утайки. Не хочу, чтоб ложь промеж нами гнездо свила.
На губах Оды появилась и тут же пропала хитрая улыбка. Взгляд её голубых глаз из насмешливого превратился в пытливо-пристальный, словно она хотела сказать взглядом: «Не тебе бы, муженёк, спрашивать, не мне бы отвечать!»
Святослав схватил Оду за плечи и встряхнул:
– Молви же! Ну!..
– Ты надумал снять одежды с молчания, мой князь, – тихо, но твёрдо произнесла Ода. – Что ж, будь по-твоему. Я повинуюсь тебе, как супругу. Токмо прошу тебя, не делай мне больно.
Святослав нехотя отпустил Оду.
– Я ещё не стара и могу притягивать мужские взгляды, уж не это ли, муж мой, ты хочешь поставить мне в вину? – продолжила Ода. – Даже старшие сыновья твои подчас смотрят на меня как на желанную женщину, а не как на мачеху. Запрети же им видеться со мной за это, а я постараюсь запретить себе видеть лица тех мужчин, кои мне приятны, если они тебя раздражают. Брага умеет развеселить меня, он тонко чувствует малейшую смену моего настроения. Тебе же, Святослав, это безразлично. Или я не права?
– Ты же знаешь, горлица моя, сколь забот на мне, – вздохнул Святослав, – об ином и помыслить некогда.
– И весь-то ты в трудах, сокол мой, – с коварной улыбкой проговорила Ода. – Однако половчанку свою ты не забываешь.
Глаза Святослава так и впились в Оду:
– Не ведаю, о чём ты.
– Про пленницу я толкую, милый, которую ты за городом в усадьбе своей держишь.
– Откель проведала, лиса?
– Люди сказывают…
– Ох, хитра! – засмеялся Святослав. – Тем же мечом меня поразить норовишь!
– Тебе, муж мой, надлежит блюстися поступков ветреных, о коих молва разойтись может, – язвительно обронила Ода.
– Не всему слышанному верь! – Святослав отошёл от Оды и сел на стул. – Пленница эта – ханская дочь, за неё выкуп должны дать, потому и держу её в своём загородном сельце. Подальше от глаз.
– От глаз подале, а к сердцу поближе, – заметила Ода. – Не так ли, свет мой?
Святослав сдвинул брови, не любил он оправдываться, тем более перед женой, которую ценил лишь за постельные утехи, да и то до недавнего времени. Половчанка же страсть до чего хороша и в одеждах, и без одежд! Танцует так, что засмотришься, песни поёт – заслушаешься, а на ложе с нею и старик помолодеет – огонь-девица!
– Как зовут-то пленницу? – допытывалась Ода. – Сколь ей лет?
– Имя у неё языческое, сразу и не упомнишь, – ответил Святослав, пряча глаза, – и про возраст её я не ведаю, но по всему видать, что отроковица она ещё несмышлёная.
– С тобой, сокол мой, и отроковица быстро войдёт во вкус любовных утех, – с ехидцей произнесла Ода.
Святослав резко поднялся со стула.
– Дочь ханскую я на поле брани взял, – раздражённо сказал он, – что захочу, то с ней и сделаю! Донеже наложница она моя, а далее видно будет. Ты же с фрягом[86] своим где-нибудь за городом милуйся, коль он люб тебе. Ну а ежели о вас слух срамной по Чернигову пройдёт, то не взыщи, княгинюшка. Брагу твоего евнухом сделаю, а тебя в монастырь упеку. Таков мой сказ.
Святослав повернулся и вышел из светлицы.
Этот эпизод ещё раз подтвердил, что черниговскому князю порой присущи рыцарские жесты, но Ода также понимала, что угроз своих Святослав на ветер не бросает, поэтому она запретила Браге появляться в княжеском тереме. Запретила Ода генуэзцу приходить и на воскресные службы в храм. Теперь княгиня посылала Регелинду на Подол, где жили все иноземные купцы, и через неё договаривалась с Брагой о встрече там, где их никто не мог увидеть.
Впрочем, после размолвки со Святославом Ода и Брага встретились всего единожды на угловой башне детинца. Там они договорились о совместном побеге из Чернигова, едва река Десна вскроется ото льда.
На следующую встречу Брага пригласил Оду на свой корабль, который был вытащен на берег рядом с судами других купцов. Брага якобы хотел показать Оде помещение под палубой, где она сможет разместиться с сыном и служанкой, а также трюм, куда княгиня сможет сложить всё необходимое в дороге.
Ода догадывалась, что истинная цель приглашения совсем иная, однако после короткого раздумья она согласилась прийти на судно Браги. Оду одолевало сомнение относительно обещаний Браги поспособствовать возвышению Ростислава. Быть может, генуэзец просто жаждет утолить с нею свою похоть и добивается этого всеми способами. Ода решила посмотреть, как поведёт себя Брага, добившись своего.
На заговенье перед Великим постом в гости к Святославу пожаловал Всеволод со своим семейством. Для Оды это стало полнейшей неожиданностью. Святослав не сказал жене, что он пригласил Всеволода заговляться к себе в Чернигов ещё накануне Масленицы. Это было похоже на Святослава, предпочитавшего советоваться лишь с самим собой.
Вместе с Анастасией, очаровательной супругой Всеволода, в покои Оды проник аромат восточных благовоний, душистой розовой воды и мускатного ореха. Дочери Анастасии, Янка и Мария, разместились в светлице Вышеславы, а сын её Владимир временно потеснил Ярослава в его комнате. Мальчики быстро подружились, благо разница в их возрасте была невелика: Владимир всего на девять месяцев был старше Ярослава.
Ода сразу догадалась, что приезд Всеволода с женой и детьми неслучаен и более смахивает на смотрины. Не зря же старшим сыновьям Святослава были созданы все условия для тесного общения с Янкой и Марией. Ода заметила также, что Всеволод настроен против супружества между двоюродными братом и сестрой, но не смеет противиться воле своей горячо любимой супруги, которая вознамерилась соединить брачными узами красавца Романа и свою дочь Марию. Янке же прочили в женихи Глеба или Олега – на выбор.
Светло и радостно стало в княжеском тереме от девичьих улыбок, от громкого юношеского смеха, от ярких нарядов. За повседневными хлопотами Ода совсем позабыла про Брагу и не пришла к нему на судно в условленный день.
На Оду вдруг обрушилась лёгкая безмятежность. Она просыпалась в прекрасном настроении и засыпала с ним же.
После торжественного молебна, ознаменовавшего начало Великого поста, на чувствительную Оду словно снизошла Божественная благодать, её душа будто заново родилась. Все дни напролёт Ода проводила с Анастасией, черпая в общении с ней отдохновение от серого однообразия зимних дней. Супруга Всеволода была умна, в меру кокетлива, не злоречива и не злопамятна. Красота и душевная чуткость Анастасии обезоруживали даже самых угрюмых бояр Святослава. Из любого затруднения Анастасия могла найти выход, устраивающий всех.
В скором времени выяснилось, что златокудрый Роман приглянулся Марии, которая призналась в этом своей матери. Однако на шестнадцатилетнего Романа не произвела должного впечатления одиннадцатилетняя застенчивая девочка с голубыми глазами, прямым греческим носом и длинной светло-русой косой. Красота младшей дочери Анастасии ещё не распустилась в полной мере. Те задатки прекрасной внешности и сложения, коими наградила Марию природа, были замечены лишь Одой и Святославом, но никак не Романом.
– Дурень ещё Ромка, – высказался о сыне Святослав, – но ничего, время покуда терпит.
Огорчило Оду и то, что Янке сильнее понравился Глеб, а не Олег.
Для своих четырнадцати лет Янка была необычайно серьёзна и, судя по её метким высказываниям, умом своим уродилась в мать. Помимо этого Янка унаследовала от матери-гречанки статность телосложения, оливковый цвет кожи и красиво очерченные уста. У Янки были тёмно-синие глаза с поволокой, пышные золотисто-русые волосы, расчёсывать которые доставляло Вышеславе огромное удовольствие. Когда Янка распускала свои тяжёлые толстые косы, то она могла укрыться спереди и сзади распущенными волосами, как плащом.
Янка очень льнула к Оде и всё выспрашивала у неё про Глеба. Желание Янки выйти замуж за Глеба проявлялось в её поведении всё явственнее. Глеб приглянулся Янке своей мягкостью, спокойствием и многознанием.
Однажды Ода, оказавшись наедине с Олегом, напрямик спросила у него, нравится ли ему Янка. Что двигало ею? Ода не смогла бы ответить на этот вопрос, но ей почему-то очень хотелось сблизить Янку именно с Олегом. Ода чувствовала своим женским чутьём, что Олег, в отличие от Глеба, способен на более приземлённую страсть к женщине и не будет витать в облаках неких возвышенных чувств и переживаний. Евангельский взгляд на семейные отношения не очень-то устраивал Оду. Пылкая по своей натуре Ода желала Янке полноценной земной любви с её будущим мужем.
Олег искренне ответил мачехе, что Янка ему не по сердцу. При этом Олег столь выразительно посмотрел на Оду, что у той разлился жар в груди и приятная волна прокатилась по всему телу. Олег поспешил уйти и весь оставшийся день старался не показываться Оде на глаза.
Ода была благодарна Всеволоду и Анастасии за душевный покой, установившийся в ней с их приездом в Чернигов. Ода была почти счастлива, забыв на время про свои печали и не подозревая о жестоком ударе, уготованном ей судьбой.
– Ну вот, милая моя, Прощёное воскресенье мы со Всеволодом провели в Чернигове, чем остались весьма довольны, – обратилась как-то Анастасия к Оде. – Теперь мы ждём вас со Святославом и детьми на Светлое Христово Воскресение к нам в Переяславль. Приедете?
– Я с превеликой радостью побывала бы у вас в гостях, – призналась Ода, – но Святослав вряд ли на Пасху поедет в Переяславль. Он намеревается опять, как растают снега, идти с дружиной к Тмутаракани.
– Так ведь Ростислав-то умер, – понизив голос, сказала Анастасия. – Разве Святослав ничего тебе не говорил об этом?
Ода похолодела. Она глядела на Анастасию остановившимся взглядом. Услышанное не укладывалось у неё в голове. Нет, этого не может быть!
– Видимо, муж твой запамятовал, – между тем продолжила Анастасия. – Катепан херсонесский побывал в гостях у Ростислава, да и отравил его, подмешав яду в вино. Случилось это ещё в конце января. Ростислав умер не сразу, а лишь на восьмой день. Катепан, вернувшись в Херсонес, не таясь стал повсюду хвастать, мол, как ловко он отравил Ростислава. Херсонеситы испугались гнева русичей и побили камнями своего катепана. Всеволоду эту весть принёс какой-то греческий купец, прибывший в Переяславль по своим торговым делам.
Анастасия умолкла, заметив, как побледнела Ода.
Неимоверным усилием воли Ода заставила себя справиться с сильнейшим волнением, чтобы расспросить Анастасию поподробнее.
– Может быть, этот слух пустой? – промолвила Ода. Она была готова осыпать Анастасию золотом, лишь бы та согласилась с этим.
Анастасия качнула своей красивой головой и произнесла с печальным вздохом:
– К великому сожалению, это правда. Я бы многое дала за то, чтобы это было ложью. Ростислав был такой красавец! Он называл меня «синеокая пава» и так почтительно целовался со мной при встречах и прощаниях, словно стеснялся выдать свои чувства ко мне. Я не раз подсказывала взглядом Ростиславу, что со мной он может быть и посмелее в объятиях и поцелуях. Ростислав хоть и доводился мне племянником, но он был моложе меня всего на четыре года. Разве думаешь о каком-то там родстве, когда рядом с тобой на редкость красивый молодой витязь. В такие моменты в голове витают совсем иные мысли, пусть это и грех. – Анастасия посмотрела на Оду с какой-то подкупающей доверительностью. – Не поверишь, я жутко завидовала Ланке, которой так повезло с мужем. Сколько ночей я не могла заснуть, думая о Ростиславе. Я всё время ждала встречи с ним и одновременно боялась этого. Порой один взгляд Ростислава или случайное прикосновение его руки пробуждали во мне сильное желание отдаться ему. В такие минуты я сгорала от стыда. Мне казалось, это заметно всем окружающим и только Ростислав ничего не замечает. – Анастасия тяжело вздохнула. – Бедный Ростислав!.. Несчастная Ланка!.. – тихо добавила она.
Ода слушала Анастасию со смешанным чувством изумления и ревности.
«Так вот ты какая, неприступная греческая богиня! – подумала она. – Выходит, не столь уж ты и неприступна!»
Неприступной греческой богиней за глаза называл Анастасию Святослав, который как-то во хмелю признался боярину Перенегу, не подозревая, что его слышит Ода, что ему было бы приятно помять руками дивные перси[87] и бёдра Всеволодовой супруги. Однако Святослав тут же посетовал, мол, надежд на это у него нет из-за строгого целомудрия Анастасии.
Молчание, воцарившееся между двумя княгинями, было недолгим.
– У тебя что-то было с Ростиславом? – придвинувшись к Оде, тихо спросила Анастасия. – Ведь он довольно долго жил в Чернигове после того, как его изгнали из Новгорода.
Ода поняла, что чем-то выдала себя, и, не желая на откровенность Анастасии отвечать недоверчивой холодностью, призналась:
– Было… Один раз.
– Счастливая! – прошептала Анастасия.
Ода бросила на Анастасию удивлённый взгляд: она не успела уловить, какой оттенок прозвучал в этом единственном слове – беззлобной зависти или скрытой неприязни.
– Разве у тебя не всё благополучно… со Всеволодом? – промолвила Ода, мягко взяв Анастасию за руку. – Всеволод так сильно любит тебя!
Анастасия хранила молчание, словно не желая говорить об этом, потом недовольно проронила:
– Если бы ты знала, милая, как мне опостылел Всеволод со своей извечной ревностью!
И опять Ода была изумлена и ошарашена таким неожиданным признанием Анастасии.
– К сожалению, Всеволод не даёт мне повода для блуда с другими мужчинами, он уважает меня, не притесняет, не спит с наложницами, хотя красавиц в Переяславле очень много, – молвила Анастасия с какой-то обречённостью в голосе. – Мой супруг жаждет на ложе лишь меня, доказывая это ночью и днём.
– И днём? – невольно вырвалось у Оды, которая в последнее время и по ночам редко делила постель со Святославом, увлечённым юной половчанкой.
– Да, дорогая моя, – ответила Анастасия с какой-то брезгливой усмешкой. – Это у вас в тереме я отдыхаю, а в Переяславле мне порой приходится несколько раз на дню отдаваться Всеволоду. Дивлюсь я его плотской ненасытности! Был один человек, с кем и я хотела бы вот так же часто грешить, но и тот умер. Потому и завидую тебе, дорогая моя. Ты хоть разок, да вкусила счастья!
Печаль по Ростиславу ещё сильнее сблизила Оду и Анастасию. Судьбы их оказались схожими: обе имели нелюбимых мужей и втайне любили одного и того же человека, столь же недоступного для их ласк, сколь и желанного. И то, что красавец Ростислав ушёл из жизни, в какой-то мере уравнивало ту, что побывала однажды в его объятиях, с той, для которой близость с ним так и осталась в мечтах. Теперь Оду и Анастасию связывала сокровенная тайна – одна на двоих.
Поздним вечером в ложнице Святослава и Оды разыгрался скандал.
Ода, лежавшая в постели и тщетно пытавшаяся заснуть, услышала, как пришёл её муж, как он раздевался, как шёпотом читал молитву перед иконой. В конце молитвы Святослав стал благодарить Господа за то, что Его всевышней волею он наконец-то избавился от строптивца Ростислава.
Эти слова Святослава резанули Оду по нервам, будто острым лезвием.
– Стыдись, князь черниговский! – вскричала Ода, выскочив из-под одеяла. – Как тать[88], молишь ты Бога о милости, через которую в помыслах своих корыстных видишь себя во главе земли Русской! Помышляешь о богатстве и славе, не довольствуясь отцовым наследием и почестями княжескими. Таишь злобные замыслы против братьев своих, как таил эти же тёмные мысли против Ростислава. Мнишь о себе как о светломудром властителе, но не признаёшь этого качества в своих братьях, как не признавал в Ростиславе. Бога в союзники взял, благодаришь Властителя Небесного за подмогу против родного племянника, перед коим ты сам оказался бессилен и жалок, ибо одолел тебя Ростислав без войска, одной хитростью. Попроси же Всевышнего, чтоб послал Он скорую смерть Изяславу и Всеволоду и всем их сыновьям. Представляю, сколь роскошные поминки справил бы ты за их упокой, князь черниговский!..
Ода не могла продолжать, подступившие рыдания душили её.
Святослав, поначалу оторопевший от неожиданности, шагнул было к супруге, желая её успокоить. Однако Ода отпрянула от него, как от прокажённого:
– Не приближайся!.. Гадок ты мне!
– Что с тобой, горлица моя? – растерянно пробормотал Святослав. – Одумайся! Куда ты?
Видя, что Ода направляется к дверям, Святослав бросился наперерез и схватил её за рукав длинной исподней рубашки.
Ода рванулась, послышался треск раздираемой тонкой ткани. Святослав хотел подхватить Оду на руки, но после сильной пощёчины он невольно отпрянул от неё.
Ода выбежала из спальни.
Ласковые объятия Регелинды вызвали у Оды целые потоки слёз. Она принялась жаловаться служанке на судьбу, на мужа, на братьев Святослава, на своё одиночество, вспомнив при этом и о Ростиславе, которого «отравили подлые люди, такие же подлые, как Святослав и его братья!».
Регелинда ничего толком не поняла из слезливых жалоб Оды. Она уложила свою госпожу у себя в горенке, напоив её чистой родниковой водой, освящённой епископом Гермогеном в ночь на Крещение Господне. Регелинда не допустила к Оде Святослава, который пришёл взглянуть на состояние супруги.
– Что с ней, Регелинда? – допытывался князь. – Жар у неё, что ли? В таком состоянии я Оду ещё не видывал.
– Хворь у неё чисто женская, княже, – шёпотом молвила Регелинда. – Завтра встанет твоя супруга как ни в чём не бывало. Не кручинься. Ложись-ка спать.
Святослав стоял перед Регелиндой с толстой восковой свечой в руке. Жёлтый язычок пламени освещал встревоженное лицо князя, участок каменной стены, украшенной изразцами. Глаза Святослава в упор глядели на Регелинду с каким-то недоумением, словно он силился понять, что кроется за выражением «женская хворь».
Вдруг в тишине раздалось шлёпанье босых ног, из-за спины Святослава выскочила Вышеслава в одной ночной сорочке со светильником в руке.
– Что случилось? – выпалила девушка. – Я услышала рыданья матушки. Где она?
Регелинда всплеснула руками:
– Да ничего не случилось, глупая. Спать иди!
– А вы-то отчего не спите? – подозрительно спросила Вышеслава.
Святослав выругался сквозь зубы и, резко повернувшись, удалился в свою опочивальню.
– Так что же стряслось, Регелинда? – подступила к служанке Вышеслава. – Неужели батюшка осмелился ударить…
– Чушь-то не городи! – оборвала девушку Регелинда. Она взяла княжну за руку и повела за собой. – Распрекрасных тебе снов, лада моя. – С этими словами служанка втолкнула Вышеславу в её спаленку, отняв у неё светильник.
Возвращаясь обратно, Регелинда услышала, как скрипнула дверь в комнату князя Всеволода и его жены. Она невольно замедлила шаг, прикрыв светильник ладонью. Впереди во мраке коридора Регелинда различила смутную женскую фигуру в белых, ниспадающих до пят одеждах, – Анастасия!
Регелинда не успела сообразить, что сказать гречанке, если та тоже заведёт речь об Оде, дверь снова приоткрылась и вместе с узкой полоской света в коридор высунулась обнажённая мужская рука, силой втащившая Анастасию обратно в спальню.
Путь освободился, и Регелинда на цыпочках двинулась дальше. Проходя мимо двери, за которой скрылась Анастасия, Регелинда не удержалась и приложилась к ней ухом. До неё донёсся раздражённый голос Анастасии:
– Пусти меня!.. Грех это – в Великий пост сладострастьем заниматься! Коль ты о теле не думаешь, Всеволод, так о душе своей промысли!
– Иль ты не жена мне, Анастасия? – прозвучал голос Всеволода.
– Жена, но не рабыня! – ответила гречанка.
«А у этих свои кочки да ухабы! – с усмешкой подумала Регелинда. – Гречанка-то вельми набожна, видать, а муж её сластолюбив. Что и говорить, такому молодцу, как Всеволод, любая на ложе будет рада!»
Под «любой» Регелинда имела в виду себя. Она давно положила глаз на князя Всеволода, ещё в ту пору, когда увидела его впервые в Киеве десять лет тому назад.
Наступила вторая суббота Великого поста: день поминовения усопших.
Спасо-Преображенский собор был полон молящегося люда. На этот раз князья, их жёны и дети стояли перед алтарём. Бояре со своими жёнами и детьми широким полукругом теснились позади княжеских семей. Чёрный люд заполнил все проходы у пяти мощных столпов храма, толпился у распахнутых главных врат.
После выноса Святых Даров епископ Гермоген начал службу, гулкое эхо вторило его сильному зычному голосу в высоких сводах белокаменного собора. Торжественное молчание многих сотен людей, стоящих плотно друг к другу, придавало этому обряду нечто завораживающее.
Анастасия сбоку взглянула на Оду. Та сосредоточенно молилась, склонив голову в тёмном платке и куньей шапочке, беззвучно шевеля сухими губами. Гречанка догадалась, о ком думала Ода в эти минуты.
С самого утра Ода была бледна и неразговорчива. Святослав тоже был не такой, как всегда. Анастасия и Всеволод понимали: что-то случилось между Одой и Святославом минувшей ночью, но делали вид, что ничего не замечают.
Вот архидьякон[89] приблизился к Святославу с пучком тонких свечек. В наступившей глубокой тишине прозвучал негромкий голос черниговского князя:
– Светлая память отцу моему, великому князю Ярославу Владимировичу, в православии Юрию, матери моей, великой княгине Ирине, в иночестве Анне, старшему брату Владимиру Ярославичу, в православии Василию, моей первой супруге, княгине Брониславе, в православии Елизавете, моему младшему брату Вячеславу Ярославичу, в христианстве Петру, и другому младшему брату, Игорю Ярославичу, в христианстве Фёдору.
После каждого произнесённого имени Святослав брал свечку, возжигал её от свечи, горевшей перед распятием, и ставил на канун – подсвечник в форме круглого стола.
Упомянув брата Игоря, умершего шесть лет тому назад, Святослав перекрестился на распятие и направился обратно к алтарю. В этот миг Ода стремительно подошла к архидьякону, выхватила из его руки свечку и громко воскликнула:
– За упокой души христолюбивого племянника нашего Ростислава Владимировича, в православии Михаила.
Установив зажжённую свечку на кануне, Ода вернулась на своё место.
Святослав кивком головы дал понять священнику, что тот может продолжить поминальную службу. При этом лицо у Святослава было хмурое и недовольное, выходка Оды ему явно не понравилась.
Архидьякон нараспев затянул поминальную молитву:
– Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей и сродников князей Святослава и Всеволода Ярославичей: великого князя Юрия, жены его, инокини Анны, сыновей его Василия, Петра и Фёдора Юрьевичей, а также внука его Михаила Васильевича, и княгини черниговской Елизаветы, и всех православных христиан, и прости им все прегрешения вольные и невольные, и даруй им Царствие Небесное!..
В конце марта весеннее солнце растопило снежные сугробы, потекли по кривым улочкам Чернигова, по крутым переулкам на Третьяке и Подоле весёлые ручейки. В лужах отражались голубые небеса. Скаты крыш украсились бахромой из сосулек, истекающих прозрачной холодной влагой. Крупные сосульки срывались вниз, не выдержав единоборства с жаром солнечных лучей, и со звоном разбивались о твёрдую наледь, а их блестящие продолговатые обломки искрились на солнце, как горный хрусталь.
В один из солнечных дней уходящего марта Ода объявила Святославу о своём намерении поехать в Саксонию к своей родне. Ода попросила Святослава, чтобы он отпустил вместе с нею Ярослава и Вышеславу. Святослав не стал противиться. Его отношения с женой сразу после отъезда Всеволода и Анастасии день ото дня становились всё хуже. На раздражительность Оды и на её замкнутое молчание Святослав отвечал вспышками гнева и бранью на русском и немецком языках.
Ода быстро собралась в дорогу. Помимо Ярослава и Вышеславы, с ней также отправлялись в Саксонию две юные служанки-немки и Регелинда. Ехать решено было верхом из-за надвигающейся распутицы.
В свиту супруги Святослав отрядил полсотни дружинников, молодых удальцов. Во главе этого воинского отряда Святослав поставил свея Инегельда, свободно владеющего немецким языком.
Прощание Святослава с Одой получилось сухим и коротким. Князь едва коснулся губами бледной щеки супруги. Затем Святослав протянул Оде пергаментный свиток, промолвив, не глядя на неё:
– Вот письмо твоему отцу от меня.
Ода с безразличным видом взяла свиток и, не проронив ни слова, передала его Регелинде.
Обняв поочерёдно Ярослава и Вышеславу, Святослав удалился в терем.
Вышеслава расцеловала на прощание братьев. Олег помог сестре сесть на коня, после чего он приблизился к Оде, чтобы пожелать ей счастливого пути. Глеб, Давыд и Роман тоже садились на коней, собираясь сопровождать караван Оды до речной переправы.
Ода мягко притянула к себе голову Олега и коснулась его лба горячими губами.
– Прощай, мой юный князь, – тихо сказала она.
– Мыслю, не навек прощаемся, – постарался улыбнуться Олег.
– Бог ведает, – прошептала Ода.
Опираясь на руку Олега, Ода села в седло. Лошадь под ней была смирная, она даже не тронулась с места, лишь пошевелила ушами.
Ода взяла в руки поводья, и, перед тем как направить лошадь со двора в распахнутые ворота, она подняла голову в круглой шапочке и перекрестилась, глядя на купола Спасского собора. Олегу показалось, что Ода навсегда прощается с Черниговом. Олег снял с головы шапку, чтобы помахать ею, если Ода вдруг оглянется на него.
Но Олег ждал напрасно: Ода не оглянулась.
Глава пятая. Молитва Мытаря и Фарисея
Едва подсохли дороги после весенней ростепели, в Киев прибыли послы от венгерского короля Шаламона. Возглавлял венгерское посольство родной дядя короля, герцог Левенте. Речь герцога, свободно говорившего по-русски, пришлась не по душе великому князю Изяславу.
– Русские князья стремятся к родству с европейскими королями, но при этом в делах государственных они с родством не считаются, сие странно и непонятно, – возмущался герцог Левенте. – Уже только то, что венгерская королева Анастасия-Агмунда Ярославна является родной сестрой киевского князя, вызывало почтение у соседних государей… до недавнего времени. Со смертью короля Андраша овдовевшая Анастасия-Агмунда вместе с сыном Шаламоном бежали в Германию, опасаясь козней двоюродного брата умершего короля – Белы. Анастасия просила Киев о помощи, о том же просил германский король, но глух был князь киевский к этим просьбам. Не русские дружины, а немецкие рыцари возвели на венгерский трон сына Анастасии-Агмунды.
Ныне сыновья умершего Белы нашли приют у польского князя Болеслава Смелого. Они точат мечи, собираясь сражаться с Шаламоном за власть над Венгрией. Польский князь готов помогать им в этом. А князь киевский, женатый на тётке Болеслава, и пальцем не пошевелил, дабы унять воинственных поляков и проявить заботу о своём племяннике Шаламоне, который не преследует православных христиан в своём королевстве, в отличие от Болеслава.
Сидящий на троне Изяслав угрюмо взирал на низкорослого коротконогого герцога, облачённого в длиннополый кафтан из красного аксамита[90]. В свите Левенте было двенадцать длинноусых черноволосых господарей в одеждах, расшитых золотыми нитками.
Изяславу вспомнился Андраш, сын герцога Ласло Сара, изгнанник Андраш, по-русски Андрей. Приютил его некогда в Киеве отец Изяслава Ярослав Мудрый, как приютил он в то же самое время и Гаральда, не поделившего норвежский трон со своим братом Олавом. Ярослав Мудрый любил повторять своим сыновьям: «Благо получает тот, кто умеет ждать».
Прошли годы, умер норвежский король Олав Святой. Освободился и венгерский трон. Вспомнили про изгнанников в далёкой Норвегии и в граде Эстергом, что стоит на берегу полноводного Дуная. Стали Гаральд и Андраш королями каждый в своей стране, а в жёны они взяли дочерей Ярослава Мудрого, Елизавету и Анастасию.
Анастасия Ярославна была счастлива в супружестве с Андрашем, однако спокойной жизни у неё не было, поскольку в Венгрии тянулась долгая и ожесточённая грызня за власть между потомками короля Иштвана Святого и его двоюродного брата герцога Ласло Сара.
В своё время Иштван Святой породнился с германским королевским домом, взяв в жёны Гизеллу, сестру короля Генриха. Владимир Святославич, дед Изяслава, не собирался уступать Венгрию латинянам, поэтому он заключил с Иштваном дружественный союз, отдав в жёны его двоюродному брату Ласло свою дочь Премиславу.
С той поры и разгорелась вражда между сыном Иштвана Петром, тоже женатым на немке, и сыновьями Ласло Сара, Андрашем и Левенте. По закону у потомков Иштвана было больше прав на трон, но им всегда не хватало воинственности и удачи, в отличие от потомков Ласло Сара. Потому-то Андраш и стал королём венгров сразу после смерти Петра, сына Иштвана.
– Иль не слышит князь киевский, как в Польше гремят оружием, собираясь воевать с его племянником Шаламоном? – прозвучал вопрос герцога Левенте к Изяславу.
– В Польше испокон веку оружием гремят, – раздражённо ответил Изяслав. – Я не собираюсь совать нос в дела Болеслава.
Бояре киевские, сидящие на скамьях вдоль стен обширного покоя, одобрительно загудели.
– Таково твоё последнее слово, великий князь? – громко спросил Левенте.
– Да, – ответил Изяслав. И, не сдержавшись, добавил: – Законному правителю чужие мечи не нужны, а родственники не опасны.
– Что ж, у великого киевского князя впереди ещё полжизни, чтоб получить возможность разувериться в собственных словах, а посему я не стану тратить время на переубеждения, – склонив голову, промолвил Левенте. – Хочу лишь попросить дозволения повидаться со вдовой Ростислава, княгиней Ланкой.
– Могу обрадовать тебя, герцог, – криво улыбнулся Изяслав. – Княгиня Ланка надумала возвратиться в Венгрию, так что ты будешь ей в пути и собеседником, и телохранителем. Передавай поклон от меня сестре моей Анастасии и королю Шаламону. Скажи, помнит о них князь киевский. Не забыл!
При последней фразе брови Изяслава сдвинулись на переносье, а в глазах блеснули недобрые огоньки.
Герцог отступил на шаг, неуклюже поклонился, прижав правую руку к груди, – вместе с ним отвесила поклон и его свита, – затем распрямился, бросил на Изяслава пристальный взгляд и зашагал к дверям с высоко поднятой головой. Венгерские вельможи, шаркая сапогами по каменному полу, последовали за Левенте.
Изяслав без колебаний дал согласие на отъезд Ланки в Венгрию, но троих её сыновей он решил оставить в Киеве. Изяслав опасался, что, выйдя из отроческого возраста, Ростиславичи могут стать мстителями за своего отца, если их воспитанием будут заниматься мать и бабка. Это решение Изяслава не понравилось Гертруде, которая немедленно поспешила выразить мужу своё неудовольствие.
