Дизайн для лучшего мира. Новая философия для современных дизайнеров бесплатное чтение
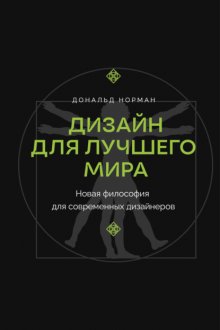
Copyright © Don Norman
© Перфильев О.И., перевод, 2024
©ООО «Издательство АСТ», 2025
I. Искусственное
Почти все вокруг меня искусственно
1. Почти все искусственное уже спроектировано
Сейчас, когда я пишу эти строки, слева от меня окно с видом на юг. Я живу на крутом холме в Сан-Диего, штат Калифорния (местные называют его горой Соледад), и взгляд мой простирается на многие мили, на покрытую деревьями и прочей растительностью местность, где обитают пчелы, ящерицы, колибри, соколы с воронами, краснозобые ястребы и прочие существа, названия которых я не знаю. Иногда встречаются даже кролики. Вдалеке видны воды залива Мишен-Бэй с множеством маленьких лодок, справа – Тихий океан с большими судами и кораблями, а в ясный день можно даже разглядеть холмы островов Коронадо и горную цепь в соседней стране, Мексике.
Почти все, что я вижу, искусственное, спроектированное. Дом построен людьми, но и двор его располагается на искусственной местности – люди выкопали одни участки и засыпали другие землей, часть которой перевезена в ходе создания залива Мишен-Бэй на месте бывших болот. Результатом таких преобразований стал крупнейший в США водный парк, в котором, как это часто бывает, экологические соображения отошли на задний план перед требованиями развлечений и отдыха.
Растения и животные, конечно же, природного происхождения, но за ними тщательно ухаживают люди, которые убивают или устраняют тех, кого нам не хотелось бы видеть. Дома и дороги четко спроектированы, растения тщательно высажены и ухожены – от травы на газонах до высоченных пальм, высота некоторых из которых достигает более 100 футов (30 метров). Сорняки не были запланированы – это своего рода «побочный эффект», за исключением того, что они всегда ожидаемы.
А что насчет животных? Дикие животные естественны, но их среда обитания и выживание полностью зависят от защиты, которую обеспечивают им люди, предлагающие им укрытия и укромные места для норок и гнезд. Все они пользуются наличием пищи: одни птицы питаются листьями и цветами, другие – насекомыми и червями, третьи, хищные, – мелкими птицами и животными. Так что можно сказать, что присутствие всей этой живности – еще один побочный эффект (подозреваю, что одних люди ждали и приветствовали, но другие, как и сорняки, считаются помехой или вредителями, включая сусликов и гремучих змей).
Обратите внимание, что даже термины «сорняки» и «вредители» искусственны, потому что в самой природе ничего подобного нет. Сорняк – это обычное растение, так же как и животное, которое называют «вредителем», – просто оно живет так, как приспособилось жить в процессе эволюции. Это люди навешивают ярлыки на естественные организмы, в зависимости от отношения к таким растениям, как пальмы и одуванчики, или к таким животным, как колибри и суслики. Люди предпочитают смотреть на аккуратно подстриженную и ухоженную траву, а сорняки кажутся им некрасивыми. Людям нравятся животные, не нарушающие их покой или созданную ими среду (или, по крайней мере, делающие это вне поля зрения людей). Суслики роют норы в земле, тем самым разрушая искусственные подстриженные и ухоженные газоны. И это неплохая метафора для многих так называемых «болезней» мира. Нам нравятся разнообразие и естественность, но только до тех пор, пока они не мешают нам жить.
Мы живем в мире, созданном людьми. В нем множество артефактов, то есть искусственных предметов, – от наших домов и одежды до инструментов и книг. Понятия «государство» или «форма правления» тоже искусственные. Воздействию людей подверглось даже то, что мы считаем естественным, частью природы, например земля, окружение, многие животные и растения. Причем это касается не только предметов. Люди изобрели – «спроектировали» – организационные структуры и способы управления другими людьми. Изобрели охоту и земледелие. Способы выращивания и приготовления пищи. Что еще? Почти все, что придет вам в голову, – искусственное. Деньги, законы и юристы, одежда, понятие страны, имена людей. И точно так же, как придуманные концепции формируют и определяют эти вещи, они определяют и формируют нас, наши представления об окружающем мире, так что нас тоже уже нельзя назвать «естественными».
Проектируемые нами вещи и понятия – искусственные – меняют наше поведение и наши поступки, и точно так же, как мы меняем окружение с помощью наших проектов, мы влияем на собственные поведение и жизнь. Мы проектируем почти все искусственное в мире, а он, в свою очередь, «проектирует» нас. Каждый из нас – это лишь одна из многих частей сложной, взаимодействующей, динамичной системы, охватывающей все человечество, всю Землю и, если уж на то пошло, всю Солнечную систему, ведь наша жизнь, даже наша генетика и все, что окружает нас, развивались в соответствии с циклами погоды, океанских приливов, дневного света и климата, а на эти явления сильно влияет положение Земли в Солнечной системе. Мы не можем ни выживать, ни даже действовать в одиночку, но только как часть этой сложной системы.
Почему наш искусственный мир кажется таким естественным?
Британское правительство во время оккупации Индии поддерживало жесткие ограничения и правила поведения для индийцев, относясь к ним как к гражданам второго сорта. В 1947 году, после того как индийцы заставили британцев покинуть страну, первым премьер-министром независимой Индии стал Джавахарлал Неру. Но хотя детям представителей высших каст индийского общества было разрешено получать образование в лучших учебных заведениях Англии (Итоне, Харроу, Винчестере, Кембридже и Оксфорде), по словам Неру, «их раса [все еще] низводила их до второго ранга». Впоследствии Неру писал, что удивительно, «насколько мы, или большинство из нас, приняли ее [эту иерархическую систему] как естественное и неизбежное устройство нашей жизни и судьбы». То же самое верно и для всех нас. Наш способ существования, наш способ бытия кажутся нам совершено естественными. В конце концов, мы видим и ощущаем это с рождения. Нам очень трудно представить альтернативы, трудно понять, что мир не обязательно должен быть устроен именно таким образом. Слишком часто, испытывая сложности с технологиями, мы виним себя. «Нет, – говорю я, – это не ваша вина, это вина плохого дизайна». При этом я имею в виду не тот дизайн, которым занимаются современные профессиональные дизайнеры, а «дизайн» (устройство, проектирование, выдумывание вещей), которым занимались те, кто на протяжении всей истории человечества изобретал, строил и развивал мир, каким мы его знаем сегодня.
Мы долгое время считали: Земля настолько огромна, что ее ресурсы практически безграничны. Аналогичным образом правящие классы просто считали само собой разумеющимся, что не все люди равны, что к ним следует относиться по-разному, в зависимости от принадлежности к слою общества, цвета кожи, религии, места происхождения или системы убеждений. Люди, по всей видимости, способны формировать небольшие группы, члены которых работают сообща и поддерживают друг друга, но эти группы склонны отличаться от других человеческих групп множеством черт. Такую тенденцию подметил в 1930‐х годах антрополог Грегори Бейтсон в изучаемых им сообществах и назвал ее «схизмогенез». Вместо того чтобы заимствовать что-то друг у друга и копировать, группы стремились усиливать свои различия. В результате образовывались группы, кардинально отличавшиеся друг от друга, а схожие сообщества приобретали радикальные различия – зачастую искусственные и экстремальные, образующиеся практически на «пустом месте».
Люди способны подчеркнуть практически любое заметное различие и с помощью схизмогенеза или аналогичных механизмов породить разделение и предрассудки там, где их не было. Эта тенденция, по-видимому, дает толчок дискриминации и предрассудкам, основанным на цвете кожи, поле, религии, места происхождения, языке или акценте. Искусственные различия становятся основными определяющими характеристиками, отличающими одну группу от другой. Усиление небольших, порой незначительных различий может привести к серьезным разногласиям.
Мы должны изменить основы нашей жизни и бытия. Мы должны изменить наш способ существования на этой земле, осознав, что все вместе – люди, природа и окружающая среда – мы образуем сложную систему и изменение любой части может повлиять на целое. Чтобы понять эту систему, мы должны также рассмотреть ее историю, поскольку текущее состояние нашей системы зависит от ее прошлых состояний.
Изменить наш образ жизни означает изменить практически все: способ существования и паттерны поведения, то, что мы создаем и во что верим. Мы должны подвергнуть сомнению и пересмотреть все, что считается самим собой разумеющимся, какими бы обычными, разумными и логичными ни казались эти предметы или понятия. Для многих из нынешних убеждений и действий вполне могут существовать совершенно иные рамки. Начать с чистого листа мы сможем, только осознав, что многие идеи и вещи, которые мы считаем обыденными, являются искусственными конструкциями, созданными существовавшими до нас людьми.
Если к сегодняшнему беспорядку нас привел «дизайн», то сможет ли он избавить нас от него?
Мир в полном беспорядке. На ум в первую очередь приходит, конечно же, изменение климата, но это симптом, а не причина наших проблем. Да, для решения проблемы изменения климата мы должны купировать симптомы, но если не устранить глубинные причины, то подобные проблемы продолжат накапливаться. Главная трудность заключается в нашем образе жизни, в нашей манере жить на Земле, в нашей вере в то, что мы, люди, имеем право свободно использовать ресурсы Земли в своих целях, то есть для повышения уровня комфорта и стабильности. И трудность эта усугубляется тем, что под словом «мы» подразумевается далеко не все человечество, а лишь правящие классы – те, кто обладает властью и богатством, позволяющими одним господствовать над другими, улучшать свою жизнь, завоевывать территории и властвовать над проживающими на них людьми. Господствующие страны доминируют над более слабыми, колонизируя их сначала физически, а затем и экономически, отнимая у них ресурсы.
Мы живем в сложной социотехнической системе, охватывающей все аспекты нашего существования: общественное устройство, экономику, верования и поведение, торговлю, образование, здравоохранение, распространение болезней и экологические катастрофы. Некоторые связи очевидны, но большинство из них косвенные, не очень заметные и не так уж быстро проявляющиеся. И именно они зачастую представляют собой наибольшую опасность, так как действуют тихо и незаметно, и к тому времени, как мы их осознаем и попытаемся принять меры, может стать слишком поздно. Примеров множество: несмотря на предугадывание возможных эпидемий, реакция на разразившуюся в 2019 году пандемию COVID‐19 была небыстрой и растерянной; восстановление тоже проходило медленно и неорганизованно, с чередованием периодов оптимизма и депрессии, с неоднозначными рекомендациями разных стран и организаций – даже в пределах одного политического влияния. Тем временем коронавирус изменчив: появляются все новые и новые штаммы, не поддающиеся прежним методам лечения и заставляющие ученых менять подходы и рекомендации. Вполне естественно, что с эволюцией вируса должны эволюционировать и научные рекомендации, но в результате в этом обвиняют ученых, а не вирус. Как следствие, доверие к научным подходам снижается.
Рост предрассудков, крайнего национализма и социальной несправедливости – это тоже косвенный результат работы сложной системы, в которой мы живем. Большой разрыв в уровне доходов и жизни между небольшим процентом тех людей, которые наслаждаются комфортом, и подавляющим большинством, живущим в недостатке, часто становится причиной смены правительств; к власти приходят люди, пользующиеся недовольством большинства и обещающие улучшения, но затем эти же люди пользуются властью ради собственной наживы.
Один из виновников создавшегося положения – система современного капитализма. Сама по себе концепция капитализма не так уж плоха. Дело, скорее, в том, что с течением времени концепция капитализма исказилась и ее недостатками стали пользоваться крупные корпорации – некоторые богаче многих стран, – а также авторитетные финансовые учреждения и мировые банки. Они стремятся к прибыли без оглядки на последствия для людей и окружающей среды. Прибыль не обязательно должна быть основана на чем-то существенном – достаточно лишь моментального изменения в оценке вещей (и иногда моменты измеряются крошечными долями секунды). Экономисты создали модели, в которых успех оценивается как увеличение денежной стоимости, независимо от влияния на человеческие жизни или окружающую среду, и выражается исключительно в денежных суммах, а не в общественной пользе. Более того, формальные модели влияют на поведение людей, даже если содержат неверные предположения об этом поведении.
Изменить сложившуюся систему не сможет один человек или одна группа людей. Для этого потребуется мобилизация усилий многих, особенно если мы хотим изменить мир так, чтобы успех измерялся не деньгами или другими показателями, вроде валового внутреннего продукта (ВВП), а благополучием и счастьем людей – всех людей.
Но как частью решения всех этих проблем может стать дизайн? Поначалу утверждение о том, что дизайн поможет изменить мир, большинству кажется бессмысленным, как поначалу и мне. Однако по мере проведения исследований, необходимых для написания книги, обсуждения этих вопросов со многими людьми со всего мира и переосмысления собственных базовых предположений я понял, что в центре многих проблем стоит как раз дизайн, и поэтому избавиться от них нам помогут переопределение самого понятия дизайна и его реструктуризация. Убеждения и модели поведения, образующие структуру нашей жизни, – это «дизайн», созданный первыми «разработчиками» правительств и религий. Возникшие в результате социальные классы и предрассудки носят искусственный характер. Показательна в этом отношении и сама профессия дизайнера. Она возникла как инструмент современного капитализма, чтобы помочь продавать товары эпохи промышленной революции. Как следствие, дизайн и дизайнерское образование сегодня определяются необходимостью получения прибыли компаниями и клиентами, которые нанимают дизайнеров.
Сфера современного дизайна невольно усугубила проблемы, создавая товары, которые вредят экосистеме добычей природных материалов; вредят в процессе производства и потребления этих продуктов из-за использования энергии; вредят тем, что их трудно ремонтировать или модернизировать, и вредят окружающей среде при утилизации – все это обсуждается в части III («Устойчивость»). Вред этот скорее наносится не преднамеренно, а является прямым результатом отсутствия системного мышления, непонимания влияния этих продуктов на существующие в обществе установки и модели поведения, особенно в культурах, отличающихся от западного мира.
Все эти модели создания и использования продуктов искусственны в том смысле, что они представляют собой результат человеческого поведения, а следовательно, их можно изменить, но только посредством переосмысления и переопределения сути и смысла профессии дизайнера, посредством переосмысления роли, которую дизайн играет в жизни, управлении и промышленности. Именно эти темы я и затрагиваю в книге. Задача облегчается тем, что многие дизайнеры все чаще признают необходимость переосмысления сферы своей деятельности. Первые предупреждения о проблемах звучали еще в конце XIX и начале XX веков. Сегодня среди этих обеспокоенных голосов звучат все больше дизайнерских. Я звучу с ними в унисон. Моя трактовка проблем уникальна тем, что основной акцент я делаю на человеческом поведении; но тот факт, что так много людей – как дизайнеров, так и не дизайнеров – выказывают озабоченность и предпринимают какие-то действия, дает нам повод для оптимизма и внушает веру в то, что мы можем изменить ситуацию.
2. Наш искусственный образ жизни неустойчив
Я начал эту книгу с утверждения: «Почти все, что я вижу, – искусственное, и почти все искусственное спроектировано». Почему? Потому что сам акт проектирования, или «дизайна», подразумевает создание чего-то искусственного. Наука о дизайне – одна из «наук об искусственном», концепцию которых разработал нобелевский лауреат Герберт Саймон, назвавший так одну из своих книг («Науки об искусственном»). Более того, несмотря на то, что дизайн и академическая дисциплина, и практика, люди на протяжении всей истории человечества проектировали и создавали инструменты и структуры, меняющие их жизнь и образ жизни задолго до появления этой дисциплины и ее названия.
Дизайном занимаются все. Под этим я подразумеваю, что любое сознательное решение изменить структуру или метод выполнения какой-либо деятельности, чтобы она стала проще или эффективнее, – это по своей сути «дизайнерское» решение. В результате получается некий «артефакт»: физическое устройство (например, инструмент), способ управления природными явлениями (например, использование огня для тепла, защиты, освещения и приготовления пищи) или группами людей, регистрации событий, подсчета объектов и манипулирования идеями.
Профессиональные дизайнеры тоже занимаются подобными вещами, но они обучены применять эти навыки для решения фундаментальных задач или, возможно, для того, чтобы сделать идею доступной множеству пользователей понятными, эффективными и экономичными способами. Мир, каким мы его знаем, создали «дизайнерские проекты» профессиональных дизайнеров, механиков, мастеров, ученых, инженеров или художников, среди которых были и королевские особы, и слуги. И этот мир неустойчив, не поддерживает сам себя. Это мир, в котором богатые и сильные противостоят бедным и слабым.
Коренные причины сложившегося положения – политические и экономические, глубоко укоренившиеся в наших системах управления, экономике, законах и процедурах, представляющих собой искусственные структуры и способы практической деятельности, создававшиеся на протяжении многих веков.
Многие из этих структур и способов – результат колонизации мира европейскими державами. Колонизация заменила культуры коренных народов так называемой европейской культурой, прежде всего, экономической структурой капитализма, практикуемого в Европе (и США) с упором на научные измерения и необходимость поставлять сырье и рабочую силу для фабрик промышленной революции. Но поскольку культуру создают люди, ее можно изменить. Многие нынешние проблемы – непредвиденный результат более ранних «дизайнерских проектов», которые часто реализовывались людьми без специального дизайнерского образования, поэтому, несмотря на хорошо продуманные физические структуры в некоторых из этих проектов, в них практически не учитывалось влияние на окружающую среду или на людей и их жизнь, не учитывались возможные отходы. На этот раз нам необходимо привлечь к работе профессиональных дизайнеров, людей, обученных учитывать влияние продукции на человека и общество.
К счастью, дизайнеры, дизайнерские школы и различные фонды начинают заниматься этими вопросами. Все больше и больше дизайнеров решают серьезные социальные проблемы. Настало время изменить принципы функционирования мира, проектировать устойчивые системы, учитывать воздействие дизайна на людей, учитывать интересы каждого и ставить во главу угла устойчивость, равенство и справедливость.
Все мы дизайнеры
Поскольку проектированием в той или иной степени занимаемся мы все, мы все дизайнеры, и задача изменить мир возложена на всех нас. Но на профессиональных дизайнерах лежит еще бóльшая ответственность, ведь они обладают достаточными подготовкой и знаниями, чтобы влиять на жизнь людей, а значит, и Земли, в большем масштабе. Многие проблемы сегодня – горы мусора, неразбираемые на части устройства, которые нельзя использовать повторно, – частично связаны именно с профессиональным дизайном. На нас, профессиональных дизайнерах, лежит большая ответственность за исправление проблем, к которым привел наш образ жизни и паттерны поведения.
Если дизайн спасет мир, это должен быть другой вид дизайна
Если к сегодняшней неразберихе привел нас дизайн, то, возможно, именно он и сможет нас вытащить из нее, хотя и не в том виде, в котором дизайн задумывается и практикуется сегодня. Нам нужна новая форма дизайна, подходящая для взаимодействия с огромным разнообразием проблем, людей, политиков и предприятий по всему миру. Нам нужен дизайн как способ мышления, подхода к большим социотехническим системам, признания каждого человека элементом сложной системы мира, включающей в себя все живые существа, землю, сушу и море, в которой каждый компонент влияет на остальные. Для существования человечества эта сложная система должна быть устойчивой, жизнеспособной, воспроизводимой. Сегодня же она не соответствует ни одному из этих определений.
Дизайн должен превратиться из неосознанно разрушительного в осознанно конструктивный: он должен исправлять ошибки, прислушиваться к маргинальным голосам и сохранять ограниченные ресурсы Земли. Масштабные изменения, которые мы должны произвести, требуют от нас переосмысления основ нашего образа жизни, в том числе системы образования, систем управления и экономических систем, – а также переосмысления того, что считается «хорошим». Поскольку наш образ жизни искусственный, то есть создан людьми на протяжении истории, то его можно изменить, и изменить его смогут люди в будущем.
3. Важность истории
Те, кто не помнит прошлого, обречены на его повторение.
– Джордж Сантаяна, «Жизнь разума», т. I
Только это неверно. История не повторяется, независимо от того, помнят о прошлом или нет. Тем не менее отсутствие повторения не умаляет важности истории: поступки людей в истории действительно значительно влияют на будущее. Наши убеждения и представления о плохом и хорошем, о нашем месте в мире, о поступках и действиях, которые мы считаем подобающими и уместными, – все это основано на нашем собственном опыте и личной истории, на которые, в свою очередь, влияет опыт наших семей и окружающих людей, а на них – общая история. Мы не повторяем историю, но формируемся под ее влиянием.
Зависимость от пути: прошлое имеет значение
История не повторяется, но прошлое имеет значение. В естественных науках простейшие модели подчиняются принципу «независимость от (пройденного) пути». Текущее поведение модели не зависит от ее истории и определяется текущим состоянием вещей. К нему могло подвести несколько путей, но сейчас история не имеет значения, и настоящее не зависит от пути, то есть от прошлого.
Концепция независимости пути, как и многие другие научные предположения, упрощает вычисления и верна для классической физики. Если я бросаю мяч, то его траектория не зависит от исторического опыта мяча, а только от его текущего состояния и приложенных к мячу сил в тот момент, когда он покидает мою руку. Физический мир во многих отношениях проще для понимания, чем мир людей. Не следует заблуждаться, полагая, что методы, используемые в науках о физическом мире, подходят для понимания биологического мира, и тем более эти методы непригодны для понимания мира людей. Мы не подбрасываемые в воздух мячи. У людей есть воспоминания и история, влияющие на их убеждения и эмоции. Поведение людей и обществ зависит от пройденного пути. И эти пути, по которым люди приходили к нынешним убеждениям и мыслям, часто можно проследить на протяжении веков.
Взять для примера некоторые из длительных противостояний между странами или даже между различными группами внутри одной страны. Люди до сих пор вспоминают высказанные сотни лет назад оскорбления, произошедшие века или даже тысячелетия назад катастрофы или злодеяния, и они определяют их нынешние действия и убеждения. История расизма и предрассудков, колонизации и непростительного обращения со многими колонизированными народами, история уничтожения культур коренных народов и изуродования земли – все это часть нашей истории.
Именно поэтому нам необходимо понять и осознать историю колониализма, капитализма и угнетения слабых сильными.
История мировых обществ, империй и наций – это не что-то абстрактное, независимое от текущего момента. Помним мы прошлое или нет, но на наше нынешнее состояние повлияло прошлое. Поэтому единственный способ преодолеть несправедливость прошлого – не просто помнить о ней, но и понять ее, осознать ее влияние на сегодняшний мир и, следовательно, понять, что нужно сделать, чтобы изменить этот путь. В противном случае мы действительно обречены повторять грехи прошлого.
Многие люди, за исключением ученых, которые изучают и прослеживают исторические пути, часто не знают о влиянии истории на современность. Мы рождаемся в этом мире, и усвоенные нами в детстве опыт и система убеждений кажутся настолько естественными и очевидными, что нам трудно представить себе что-то другое. Люди считают самими собой разумеющимися основы повседневной жизни: семейный быт, посещение школы, изучение преподаваемых там определенным образом предметов, прием на работу и так далее. Во многих странах работа отрывает человека от семьи на большую часть дневного времени, а нередко и на ночь. Все это воспринимается как должное. Но почему работа должна разделять семьи? Почему некоторые культуры требуют от своих граждан работать по многу часов, часто от рассвета до заката, шесть дней в неделю, пока их родные занимаются чем-то своим? Потребность в концентрации большого количества работников на одном месте возникла еще на заре истории – например, когда египетские фараоны собирали людей для строительства пирамид. Отчасти это явилось естественным результатом роста городов и государств с увеличивающимся и уплотняющимся населением. Обеспечение продовольствием большого количества людей требовало скопления рабочих, будь то кулинарные соревнования в Багдаде в IX веке или корабельные верфи Венеции начала XII века. В начале промышленной революции XVIII века труд на фабриках стандартизировался – поначалу в ткацкой индустрии Великобритании, а также в сфере производства бытовых товаров.
Путь, выбранный западными странами и распространившийся по всему миру, контролировал жизнь рабочих, и их воспринимали как машин, которыми можно пользоваться до тех пор, пока они не износятся, а затем заменить. Рабочие жили по жесткому распорядку: начинали и заканчивали день по звонкам и гудкам, по часам следили за небольшими перерывами, когда можно было перекусить, после чего продолжали работу. Время контролировало работу, а работа доминировала над благополучием, удовлетворением своих потребностей и семьей. Должно ли было быть так? Нет.
Почему история важна? Потому что она показывает искусственность многих из этих убеждений. Искусственный – не значит неправильный; это значит, что нынешняя структура работы основана на предпосылках, охватывающих весь период письменной истории за последние примерно 5000 лет, а также на возникших в позапрошлом веке или в последние несколько десятилетий обычаях. Важнейшая часть истории – это то, что произошло до рождения каждого из нас. Мы рождаемся в мире, уже оформленном под влиянием исторических событий, но не знаем обо всех них, не знаем, что точно произошло, в результате чего образовался современный мир. Мы воспринимаем свой образ жизни как естественный. Одни рождаются в комфорте, другие – в жизни, полной борьбы и предрассудков. Чем комфортнее наша жизнь, тем сложнее распознать искусственность. Даже замечая некоторые недостатки или проблемы, влияющие на других, мы склонны считать их симптомами, которые можно устранить напрямую.
Нам кажется, что многие из основных проблем современного мира имеют простые ответы. Изменение климата? Давайте уменьшим загрязнение атмосферы. Засуха? Используем воду более эффективно, найдем новые источники. Повышение уровня воды, проливные дожди и наводнения? Построим более высокие дамбы. Предрассудки, основанные на национальности, расе, религиозных верованиях, месте происхождения и классовых различиях? Сложнее, но все же решаемо, если приложить усилия. Увы, но все эти предложения слишком просты. Некоторые купируют симптомы, но не устраняют глубинные причины, а что-то реализовать гораздо сложнее, чем сформулировать в простом предложении.
Чтобы добиться значимых перемен, мы должны переосмыслить глубинные причины, трудно поддающиеся воздействию. Некоторые связаны с усвоенными убеждениями и настолько устойчивыми предрассудками, что те, кто их придерживается, считают их не предубеждениями, а скорее простыми истинами, которые люди должны уважать. Эти предубеждения касаются наших методов управления, образа жизни, артефактов, способов производства и распространения продукции, способов вознаграждения, поощрения и наказания. Изменения не происходят благодаря борьбе с симптомами – мы должны воздействовать на причинные факторы – систему.
Образ жизни можно изменить, но это трудно. Изучение истории помогает понять, насколько искусственны многие убеждения, – но следует соблюдать осторожность. Говорят, что историю пишут победители, те, кто добился успеха, и поэтому потомки победителей отвергают изменения, которые кажутся им искусственными (а они и есть искусственные) и вредными для их убеждений и благополучия (а они могут быть таковыми). Те, кому исторический путь принес пользу, не видят причин для перемен – не обязательно из-за корысти, но потому, что просто не могут представить себе другой способ существования.
Как изменить наш нынешний образ жизни? Мы должны рассмотреть историю мира со всех точек зрения – как со стороны проигравших, так и со стороны победителей, – чтобы понять различные системы ценностей, идеи, способы управления и представления об образе жизни. Старое, освященное веками – еще не значит полезное. Но и альтернативные истории могут быть такими же предвзятыми и вводящими в заблуждение, как и истории, написанные победителями. Справедливость требует рассмотрения всех точек зрения, даже противоречащих друг другу, а скудость дошедших до нас сведений только смазывает общую картину.
В сегодняшнем взгляде на историю доминирует европейская мысль, или, если хотите, образ мышления, пришедший из западных, технологичных стран мира, иногда называемых Глобальным Севером. Обратите внимание, что эти названия – «европейский», «западный» и «Глобальный Север» – не географические, а политические термины. Соединенные Штаты и Канада точно так же являются частью «европейской» традиции, как и Австралия – частью Глобального Севера, западного и европейского. В целом западная мысль доминировала в мире идей, торговли и образовательных практик начиная с промышленной революции в середине XVIII века и распространялась по мере того, как эти страны создавали коммерческие предприятия, захватывали территории и колонизировали их. Колонизация уничтожила культуры коренных народов и заменила их европейским/западным образом мышления и поведения. В большинстве случаев это насаждалось силой.
Возьмем для примера мир хлопка. В своей книге «Империя хлопка» профессор Гарвардского университета Свен Беккерт описывает историю мирового господства британских купцов хлопком с конца XVIII века. Купцы основывали крупные торговые компании, вывозившие хлопок с Востока (Индонезии и Индии) и доставлявшие его в Британию, где из него изготавливали одежду, которую затем продавали по всему миру. Спрос на хлопок привел к колонизации Великобританией и другими европейскими державами Индии и других стран. Один из местных видов хлопчатника, родом с Нового Света, выращивали поселенцы на территории современной Флориды в середине XVI века, а в XVII веке американские хлопковые плантации начали снабжать растущую английскую текстильную промышленность. Выращивание и подготовка хлопка к отправке (с удалением семян) – дело чрезвычайно трудоемкое. Необходимой рабочей силой становились пленники, которых захватывали в ходе межплеменных войн в Западной Африке и переправляли на кораблях на юг США. По законам юга эти невольники считались собственностью, и поэтому их можно было законно покупать и продавать.
История хлопка – это лишь часть истории эксплуатации европейцами неевропейских территорий. Британия добилась доминирования в первую очередь благодаря самому большому и мощному флоту в мире. Весомую роль как в торговле товарами (хлопком, шелком и пряностями), так и в работорговле играла английская Ост-Индская компания, «созданная для эксплуатации торговли с Восточной и Юго-Восточной Азией и Индией». Порабощенные африканцы были важной частью общей американской системы выращивания и обработки хлопка, а также торговли в целом, включающей в себя доставку хлопка в Англию и получение в обмен на него тканей и одежды. Повышающийся спрос на рабочую силу приводил к еще большему притоку рабов из Африки. Хотя рабство известно еще с древности – о нем, например, говорится в Ветхом Завете, – невольники в США были преимущественно африканского происхождения, и рабство стали ассоциировать в первую очередь с цветом кожи, что стало одним из источников расовых предрассудков.
История хлопка длинная и сложная, но по ней можно проследить множество истоков сегодняшних проблем: военная мощь, колонизация, рабство, расовые предрассудки. Так история мира влияет на поведение людей и государств в наше время.
Роль технологий и модернизма
Одна из главных тем этой книги – доминирующая роль, которую играют в нашей жизни технологии и философия модернизма. Люди превратились в граждан второго сорта, вынужденных подгонять свое поведение под диктат технологий, будь то время, когда мы просыпаемся (или, скорее, когда нам говорят просыпаться); товары, которые нас убеждают купить; работа, которую мы должны выполнять, нравится она нам или нет. Но на самом деле настоящий виновник сложившегося положения не технологии. Технологии – это просто часть доминирующего образа жизни в промышленно развитых странах мира.
Главное – это связывающая все воедино философия модернизма, или же культ современности. Основополагающие принципы модернизма отражены в лозунгах проводившейся в 1933 году в Чикаго Всемирной выставки: «Наука открывает, гений изобретает, промышленность осваивает, а человек приспосабливается… Отдельные люди, группы, целые расы людей идут в ногу с медленным или быстрым маршем науки и производства».
Да, такие лозунги были (и во многом остаются) преобладающим мнением Запада. Модернизм – это наука и техника, рациональное мышление и, прежде всего, прогресс, причем определяемый в терминах технологии и торговли. Энциклопедия «Британника» дает более полное описание влияния этого феномена: «Модернизм ассоциируется с быстрым движением глобального капитала, спутниковой передачей изображений и системой мгновенных глобальных коммуникаций. Однако, несмотря на эти достижения, эпоха модернизма предопределила и дикое неравенство в глобальном масштабе – от индустрии, управляемой ради прибыли скрытых от посторонних глаз акционеров, до культурных предрассудков в системе общественного образования».
Философия модернизма охватывает практически все стороны жизни современного Запада, включая политику, управление, бизнес, экономику, представления о справедливости, отношение к работникам, социальные классы и взаимодействие между Глобальным Севером и Глобальным Югом, последний из которых часто служит источником основного сырья и дешевой рабочей силы для первого.
Чтобы понять доминирование технологий над людьми, необходимо разобраться в истории цивилизации, ведь с самых первых исторических записей технологии, особенно различные механизмы и виды оружия, позволяли одним племенам, обществам, регионам, династиям и странам доминировать над другими, развивать сельское хозяйство, торговлю, города и структуры управления. Такой образ жизни расширил возможности богатых, создав понятие классов, кастовую систему, в которой одни люди господствуют над другими с рождения до смерти. Уверенность в преимуществе технологий также породила постоянное стремление к «прогрессу», измеряемому масштабностью группы, количеством накопленных ею богатств и властью ее правителей. В результате богатые жили своей жизнью, а бедные – «модернизмом». Для многих людей прошлого, особенно в середине и конце XX века, модернизм был движущей силой прогресса. Сегодня, однако, многие считают его движущей силой зла, поскольку прогресс одной группы неизменно достигается за счет лишений других, будь то рабы или просто низкооплачиваемые работники на фермах, полях или фабриках.
Проклятие модернизма
Существуют профессии и более вредные, нежели дизайн, но их совсем немного.
Эта цитата – первое предложение книги «Дизайн для реального мира» Виктора Папанека, блестящего (и противоречивого) дизайнера XX века, ратовавшего за дизайн для реальных людей в реальных ситуациях и призывавшего создавать не безвкусные, дорогие и расточительные по отношению к ресурсам безделушки для Запада, а по-настоящему полезные вещи для мест с ограниченными ресурсами.
Почему Папанек так сказал? Да потому что, как продолжает он в том же абзаце, «создавая все новые виды мусора, захламляющего и уродующего пейзажи, а также выбирая материалы и технологии, загрязняющие воздух, которым мы дышим, дизайнеры становятся по-настоящему опасными людьми».
Примечание: Из первой цитаты я удалил слово «промышленный». В оригинале Папанек обвинял «промышленный дизайн», но я расширил критику до дизайна вообще. Почему я позволил себе такую вольность? Потому что я уверен, что Папанек одобрил бы ее. В то время, когда он писал книгу, промышленный дизайн действительно был виновником создавшегося положения, но в наше время столько дизайнеров занимаются системами, услугами, программным обеспечением и цифровыми продуктами (иногда называемыми «нематериальными»), что вину можно возложить на всю отрасль. Было бы несправедливо позволить избежать вины другим важным сферам дизайна.
Хотя в настоящее время высказывание Папанека широко известно, он далеко не первый, кто пытался убедить мир в этой истине. Аналогичные аргументы более чем за 20 лет до него приводил в своей масштабной и влиятельной книге «Механизация берет на себя командование» Зигфрид Гидион, и даже он не был первым.
Сделать это новым
В середине 1930‐х годов поэт Эзра Паунд написал серию эссе «Сделать это новым» (Make It New). Новое, согласно ему, – это хорошо, а старое – это, так сказать, «неполноценное». Паунд обращался к художникам и поэтам, утверждая, что они «должны порвать с формальными и контекстуальными стандартами современников». «Сделай это новым» – вполне подходящий девиз модернизма, но этой фразе и отраженным в ней убеждениям почти 1000 лет, и восходят они к ученому-неоконфуцианцу Чжу Си (1130‒1200), чьи работы читал Паунд.
Поначалу термин «модернизм» описывал эстетическое, архитектурное и, в более широком смысле, культурное движение, направленное на отказ от старых идей, разрыв с традициями и развитие новых форм изобразительного искусства, танца, театра и литературы. Эзра Паунд был проповедником как раз такого модернизма, по крайней мере, в изобразительном искусстве и поэзии.
Впоследствии термин «модернизм» распространился на все интеллектуальное течение с философским акцентом на рациональность, просвещение и, конечно же, масштабные перемены в науке и технике. Философия модернизма также повлияла на экономику и роль торговцев (позже названных бизнесменами), особенно в том отношении, что для достижения «прогресса», под каковым понималось получение прибыли, стали предлагаться различные научные методы бухгалтерского учета. При этом из области зрения полностью исчезли этические соображения. Виктор Папанек боролся с модернизмом в таком понимании, особенно с вредом, наносимом людям и окружающей среде, пока профессиональные дизайнеры помогали бизнесу выпускать непрерывный поток новых вещей для потребителей. Он был решительным противником рекламы, убеждавшей людей в том, что им действительно нужны эти предметы, даже если это не так или у них имелись старые, все еще прекрасно работавшие версии.
Аргументы Папанека достойны внимания, ведь они актуальны и сегодня. Но он был неправ, обвиняя профессию дизайнера, поскольку дизайнеры – тоже жертвы промышленной революции, и не они причина причиненного ею вреда. В мире дизайнеры занимают в основном средние позиции, как в рейтингах университетских факультетов, так и по уровню влияния в компаниях или в способности повлиять на желания клиентов в частных консультациях. Папанек указывает на симптомы, а не на суть проблемы. Основные проблемы возникают из-за философии модернизма, создающей сильную зависимость от науки и техники, от рационального мышления, в сочетании с меньшим вниманием к людям, человечеству и природе. Новое считается хорошим, а старое – плохим и неполноценным. Кроме того, модернизм – это еще и философия потребительства. Это представление о том, что ни наука, ни техника, ни их практические приложения в виде технологий не могут причинить вреда; что постоянное создание вещей, цифровых или физических, постоянное умножение компаний или организаций – это «прогресс» и что прогресс «хорош» по определению.
Может, такой «прогресс» и хорош для людей, обладающих богатством и властью, но точно не для всех. Огромное и все возрастающее число людей, не имеющих постоянного жилья, как в США, так и по всему миру, – это символ провала идеи «прогресса», равно как и растущее неравенство в доходах между очень немногими, обладающими властью и капиталом, и теми, кто их не имеет. Финансовые рынки усиливают разрывы. Компании призывают стремиться к краткосрочной прибыли в ущерб долгосрочному благу.
Это не тот капитализм, который описывал и к которому стремился экономист и философ XVIII века Адам Смит в своей книге «Богатство народов». И в самом деле, он предостерегал от тех эксцессов, которые мы наблюдаем сейчас. «Люди одной профессии редко встречаются вместе, даже для веселья и развлечений, – писал Смит, – но разговор заканчивается заговором против общества или какими-то ухищрениями для повышения цен». Теорию капитализма Адама Смита не следует путать с современной практикой капитализма: человеческая жадность исказила теорию.
Что же касается тем, которые я поднимаю в этой книге, то три наиболее важные исторических концепции, влияющие на современный мир, – это модернизм, промышленная революция и экономическая теория (Адама Смита часто называют ее отцом). Эти три концепции тесно переплетены между собой. Все они зародились примерно в одно время, в середине XVIII века, и породили системы политического управления и экономические системы, которые мы видим сегодня, а также сильно повлияли на практику ведения бизнеса и на занятость рабочих в промышленности. Над многими решениями и активностями в этих сферах до сих пор ощущается тяжелая рука зависимости от пути, даже несмотря на то, что с XVIII века все эти концепции значительно развились. Сейчас модернизм стремительно уходит в прошлое, хотя его менталитет продолжает жить. Промышленная революция в настоящее время находится в своей четвертой итерации, но некоторые уже рассуждают о том, как может выглядеть пятый ее этап.
Первая промышленная революция. Первый этап – внедрение машин, приводимых в движение паром и водяными колесами, начиная с текстильной промышленности, но с быстрым расширением в сферу изготовления многих бытовых товаров и инструментов. Цены на такие товары быстро упали, так как резко увеличился объем их производства.
Вторая промышленная революция. Второй этап проходил со второй половины XIX века до начала XX века. Многие аспекты деловой и семейной жизни изменили новые методы связи, особенно телеграф и телефон, а также средства передвижения, особенно легковые и грузовые автомобили и быстро распространившийся железнодорожный транспорт, сеть которого охватила все континенты. В качестве источников энергии стали широко использоваться электричество, газ, нефть и уголь. Генри Форд разработал сборочный конвейер, позволяющий производить автомобили гораздо дешевле, чем раньше, что привело к быстрому повышению мобильности семей и расселению людей из городов в пригороды.
Третья промышленная революция. Третий этап начался в середине 1940‐х годов, после окончания Второй мировой войны, и ознаменовался появлением электроники и первых компьютеров, переходом от господства механических машин к господству информационных, чья мощность и гибкость быстро росли.
Четвертая промышленная революция. Четвертый этап, стартовавший в начале XXI века и продолжающийся по настоящее время, знаменует развитие персональных интеллектуальных машин и появления возможности мгновенного доступа к информации практически из любой точки мира благодаря интернету и прочим информационным сетям. Появляются автономные машины и транспортные средства, компьютеры заменяют людей на многих производствах, которые ранее считались невозможными для машин, – теперь они выполняют задачи юристов, бухгалтеров и даже врачей низкого уровня (например, читают магнитно-резонансные и рентгеновские снимки и даже выписывают рецепты).
Пятая промышленная революция. Пятый этап, который на данный момент является скорее мечтой, чем реальностью, открывает возможности квантовых вычислений, полностью автоматизированных и высокоинтеллектуальных систем, повышения безопасности с помощью шифрования и блокчейна, а также кибервалют. Новые открытия происходят в биологии, где разрабатываются всевозможные методы для работы с ДНК: секвенирование, синтезирование, вырезание и так далее. Умные сенсоры кардинально меняют возможности машин, науки и медицины. Туристы совершают космические путешествия (по непомерно высоким ценам). По всему миру распространяются новые пандемии. И несмотря на растущую озабоченность опасностью глобального потепления, на разработку вооружений и армий тратится больше денег, чем на общественные нужды и способы противодействия изменению климата.
Эти пять этапов обусловлены в первую очередь технологическим прогрессом. Как следствие, они игнорируют многие важные компоненты человеческого поведения, во‐первых, такое понятие, как «эра отходов» (о нем говорится в части III). Во-вторых, огромное влияние технологий на жизнь людей, поскольку некоторые, потерявшие работу из-за автоматизации, не смогут овладеть навыками, необходимыми для другой работы. Эти этапы возводят в абсолют использование математических моделей и точное измерение бессмысленных переменных, игнорируя важные переменные, не поддающиеся точному измерению (об этом говорится в части II). Изменение климата? «Простой технологический сбой, – говорят промышленные революционеры пятого поколения. – Мы можем решить эту проблему с помощью технологий». Нет, не можем, потому что первопричина проблемы – человеческое поведение.
Модернизм, технологии и нынешние формы экономической теории служат препятствием на пути улучшения жизни, о чем вы узнаете далее в книге.
4. Точные – но искусственные – измерения
Такие внешние факторы, как время года, погода и прочие аспекты жизни, влияют на нашу деятельность, эмоции, циклы сна и здоровье. Переживания эти субъективны – термин, который не одобряют ученые-физики, но который в действительности означает просто нечто «личное». На них влияют, например, наши чувства, вкусы, убеждения и эмоции. Ученых-физиков очень смущает неопределенность субъективных переживаний, и они заменили их крайне искусственными системами определений и измерений. Я не возражаю против необходимости точных, воспроизводимых измерений. Возражения вызывает то, что эти точные и искусственные определения, необходимые для науки, часто используются для описания нашего собственного, глубоко личного опыта, и, как следствие, то, что они слишком глубоко проникли в нашу повседневную жизнь и влияют на нее даже тогда, когда какая-то ситуация не имеет ничего общего с научной потребностью в повышенной точности.
Рассмотрим для начала две крайне искусственные системы, доминирующие в нашей жизни, несмотря на свою произвольность и неестественность: научное определение сезонов («времен года») и научное измерение времени суток.
Вот вам два вопроса для размышления:
1. Почему мы смотрим в календарь, чтобы узнать, когда начнется лето, а не смотрим на погоду за окном? Разве не конкретная погода важнее для людей и всех остальных живых существ? Времена года, определяемые наукой, искусственны.
2. Почему мы смотрим на часы, чтобы определить время приема пищи, а не спрашиваем у своего желудка? Разве нас не волнуют в первую очередь потребности нашего организма и его сигналы, а не время суток? Время суток, определяемое наукой, искусственно.
Определяемые наукой времена года искусственны
Почему в году выделяют четыре сезона? Большинству из вас, вероятно, никогда не приходил в голову этот вопрос. Если вы родились и большую часть жизни провели на условном Глобальном Севере, то вам кажется совершенно естественным и уместным делить год на четыре сезона, даты начала и окончания каждого из которых точно определяются положением Земли на ее пути вокруг Солнца. Мы определяем времена года не по фактической температуре или погоде, не отмечая важность сезонов для сельского хозяйства и человеческой деятельности, а в зависимости от произвольных астрономических циклов и календарных дат.
Смена сезонов – это естественный результат наклона Земли при ее вращении вокруг Солнца, из-за чего в разное время на планету попадает разное количество солнечного света, а погода в течение года меняется. Легко понять, почему люди, живущие в Северном и Южном полушариях, разделили год на две большие части: одну теплую, когда дни длиннее ночей, и другую холодную, когда ночи длиннее дней.
В странах вблизи экватора количество дневного света и средняя температура не сильно различаются в течение года. Тем не менее многие из них копируют навязанную им Глобальным Севером схему, различая четыре времени года, хотя для них эти различия бессмысленны. Во многих из них можно было бы просто делить год на такие два сезона, как дождливый и засушливый, и в некоторых действительно используются такие обозначения.
Так почему же у нас четыре времени года? Может быть, потому что существует некое «естественное» деление года? Мы называем теплый и светлый период «летом», а холодный и темный – «зимой»; к ним добавляем два переходных периода: «весну», обозначающую переход к лету, и «осень», обозначающую переход к зиме.
Астрономы произвольно разделили год на четыре сезона, основываясь на положении Земли во время ее движения вокруг Солнца. Обратите внимание, что здесь важную роль играет не расстояние от Солнца, а угол наклона оси Земли относительно ее эллиптической траектории вокруг Солнца, из-за чего в разных точках этой траектории продолжительность дня и ночи бывает разной (за исключением экваториальных областей). Наука игнорирует наш реальный опыт и естественное биологическое поведение всех живых существ, утверждая, что год делится на четыре части, границы которых отмечаются двумя солнцестояниями и двумя равноденствиями, и поэтому мы приняли такое деление года на четыре сезона с искусственными датами начала и окончания.
Техническое примечание: четыре дня, отмечающие переходы между четырьмя временами года, выбраны, потому что в них наблюдается четкое соотношение светлой и темной части суток – максимальное, минимальное и равное. Даты солнцестояния и равноденствия во многом коррелируют, то есть соотносятся, с климатом, но такая корреляция носит среднестатистический характер – не указывает на то, что в действительности происходит в каждый конкретный год. Погода в конкретный месяц или день еще меньше коррелирует с календарными датами, и в конкретную дату фактические погодные условия могут очень сильно отличаться для разных местностей.
Не во всех странах используется такое деление на «астрономические сезоны» – существует и деление на так называемые «метеорологические сезоны», когда очередное время года начинается в первый день месяца соответствующего равноденствия или солнцестояния. Однако в любом случае определение начальной точки и названия времен года носят искусственный характер и слабо относятся к тем людям, чья жизнь и средства существования зависят от погоды.
Почему времен года четыре? Почему времена года не совпадают с нашими наблюдениями за температурой, жизнью растений и миграцией животных? Птицы и животные определяют время миграции по конкретным погодным условиям, как и растения реагируют на перемену погоды. Точно так же на естественное поведение людей влияют конкретные погодные условия, а не точное местоположение Земли в ее движении вокруг Солнца (на которое большинство людей не обращают особого внимания, хотя астрономы тщательно следят за ним). Например, аборигены по-разному делили год в разных частях Австралии. Некоторые группы выделяли только два сезона в году, другие – шесть. Расхождения между обозначениями разных племен не привели к разногласиям. К разногласиям приводит несоответствие между установленными человеком границами и естественным поведением погоды, растений и животных.
Если определять времена года по их влиянию на жизнь людей, животных и растений настолько естественно, то почему бы людям не поступать именно так? Раньше так и было. Коренные народы по всей Земле планировали жизнь в соответствии с климатом местности и выбирали даты в зависимости от влияния погоды на растения и животных. Как уже отмечалось, вблизи экватора выделяются только два сезона: засушливый и влажный. В делении на четыре времени года нет ничего точного или естественного.
Конечно, если бы разделение времен года соответствовало погодным условиям, то начало и конец сезона определялись бы каждый год посредством наблюдений и поэтому отличались бы друг от друга не только в разных частях света, но даже в разных регионах одной и той же страны. Было бы это ужасно? Нет. Это соответствовало бы местным условиям. Не запутался бы мир? Нет, такая система была бы гораздо полезнее для тех, чьи средства к существованию зависят от погоды.
«Шесть сезонов нунгар». Нунгар – племя аборигенов, живущих в юго-западной части Австралии. В их календаре имеются шесть времен года, и для каждого времени характерны типичные цветы, растения, животные и погодные условия. Деление на эти сезоны помогает определять время охоты, собирательства и разбивки лагерей.
Приводится по книге «Шесть сезонов Юго-Запада: Старейшая в мире живая культура», Australia’s South West, год не указан, https:// www.australiassouthwest.com/south-west-inspo/six-seasons-south-west. Перепечатано с разрешения Australia South West
Но не затруднила бы такая система составление расписания некоторых повторяющихся событий, например начала и окончания школьных занятий или спортивных мероприятий? Нет, потому что эти события можно привязать к определенным фиксированным датам в календаре, и смена фактических границ сезонов никак бы не влияла на эти расписания.
Так почему же времена года привязали к строгим условным датам? Потому что ученые любят точность и определенность. Им очень не нравится неопределенность системы, зависящей от прихотей местной погоды или от поведения животных и растений. Поэтому они убедили нас следовать своим искусственным категориям, начав с Европы, а затем и в колониях, которым европейские страны навязали те же самые определения.
Определяемое наукой время искусственно
В современной релятивистской физике время и пространство объединяются в единую общую концепцию пространства-времени. К счастью, такое объединение пространства и времени вряд ли удастся навязать повседневной системе измерения времени.
Время играет ключевую роль в физике, но это не то же самое «время», которое воспринимают люди. Так, например, период с множеством увлекательных событий люди воспринимают как быстро проходящий, а период, в котором не происходит ничего интересного, – как длительный. Любопытно, что воспоминания людей о таких периодах прямо противоположны их переживаниям, которые они испытывали непосредственно в те моменты. Позже, когда людей спрашивают о событиях, они вспоминают период с множеством событий как продолжительный, а «пустой» – как короткий. Почему так? Этот вопрос – до сих пор повод для дискуссий психологов, но мое мнение (поддерживаемое многими психологами) заключается в том, что восприятие времени в значительной степени зависит от того, насколько люди были заняты в конкретный период: чем больше дел (или чем сложнее деятельность), тем длиннее им кажется этот промежуток. Но если в нем не было значимых событий, то и вспоминать нечего.
Тем не менее, поскольку в науке время играет очень важную роль, первым ученым нужна была такая мера времени, которая бы не зависела от заполненности событиями и позволяла бы получать одинаковый результат независимо от того, кто и когда проводил измерения. Это измерение должно было быть независимым от ощущений и переживаний людей. Из-за такой потребности ученые стали измерять время посредством подсчета повторяющихся физических явлений, начиная с количества качаний маятника между началом и концом периода и заканчивая атомными измерениями стабильного изотопа цезия (цезия‐133), согласно которым секунда определяется как 9 192 631 770 (примерно 9,2 гигагерц) периодов излучения, соответствующего переходу между двумя уровнями энергии основного состояния атома этого элемента.
Такая высокая точность в определении и измерении времени очень важна для развития многих отраслей науки и техники. Например, благодаря ей спутники глобального позиционирования (GPS) предоставляют нашим навигационным системам точную информацию о местоположении. Да, научное измерение времени имеет важные и полезные последствия, но оно потеряло всякую связь с человеческим восприятием и поведением. Было бы лучше, если бы физики использовали другой термин для определения того, что они измеряют, потому что слово «время» в устах физиков имеет мало общего с тем «временем», о котором люди говорят в быту.
Сейчас мы научились жить с искусственным и произвольным делением суток на 24 часа, которые, в свою очередь, делятся на 60 минут по 60 секунд в каждой. Но какое нам дело до того, что ученые настаивают на определении времени как регулярного, физически неизменного колебания атомов? Как это влияет на нашу жизнь?
Так ли необходимо это точное определение? Вовсе нет. Ученые вольны определять мир как угодно, но они должны использовать эти определения только для науки. Навязав всем нам эту категоризацию, они диктуют, когда должны начинаться и заканчиваться занятия, когда мы должны уходить в отпуск, когда нам обедать, сколько работать, и навязывают нам другие закономерности, не требующие такой уж точности и тщательности научных измерений.
Нашей жизнью управляют произвольные и искусственные измерения
Научные определения времен года и даже измерение времени с помощью точных механических и атомных часов являются искусственными, предназначенными для удовлетворения потребностей науки, а не человеческого поведения. Так почему же эти определения не используются только в науке? Почему они навязываются нам в жизни? Понятие дня, месяца и года имеет естественную основу в ритмах физики Земли, Луны и Солнца. На основе повторяющегося ритма смены светлого и темного времени суток можно легко понять, что такое «день», хотя время его начала и конца на протяжении года меняется. В некоторых культурах сутки начинаются с рассветом, в других – с закатом, но ученые утверждают, что они начинаются строго в полночь.
А как насчет недели? Откуда взялось такое понятие? И почему она состоит из семи дней? И с какого дня начинается неделя? Многие культуры прекрасно обходились циклами солнца и луны, подсчитывая только годы и месяцы. Не существует природного явления, соответствующего «неделе». В некоторых культурах вообще не было понятия недели. В других – условная «неделя» длилась пять дней или другое количество суток. Во время Французской революции, когда распространялась метрическая система, в которой все было основано на степенях числа 10 (яркий пример научного ума навязать всему строгий порядок), предлагалось перейти на неделю, состоящую из 10 суток (а в сутках по 10 часов, по 100 минут каждый). Очевидно, что эта система не прижилась.
Даже сегодня предпринимаются попытки реформировать календарь, в том числе чтобы каждый день семидневной недели всегда приходился на одно и то же число каждого месяца. Это упростило бы многие вопросы, но потребовало бы добавления в календарь високосных недель через каждые пять-шесть лет или вставок дополнительных дней, что привело к бы другим сложностям.
Поскольку календари – это искусственное изобретение, их придумано великое множество. Существуют три естественных показателя времени: сутки (один цикл темного и светлого периодов), месяц (количество дней между двумя последовательными полнолуниями) и год (один оборот Земли вокруг Солнца, определяемый по положению солнца, встающему из определенной точки на горизонте, а также по повторению погодных условий, потому что каждое положение солнца в год повторяется дважды за исключением самых крайних). Понятно, что природа сознательно не занимается арифметикой, поэтому в году не целое число лунных месяцев, так что всем календарям приходится изменять продолжительность месяцев, чтобы в году их уместилось целое число. Кроме того, продолжительность года не измеряется и целым числом суток, так что в календари приходится время от времени вставлять дополнительные дни, чтобы календарные годы не слишком расходились с настоящими. Сейчас большая часть мира следует реформированному календарю, разработанному несколькими католическими папами, которые попытались объединить лунный и солнечный календари в один солнечный, с правилами добавления дополнительного дня каждые четыре года (и с пропуском високосного каждые 100 лет, за исключением случаев, когда год кратен 400, – потому что год длится не 365 ¼ суток, а 365,2422 суток). При этом даты многих религиозных праздников по-прежнему определяются лунными циклами, поэтому, несмотря на фиксированное время в лунном календаре, они являются переходными в стандартизированном солнечном.
Возможно, наибольшее влияние искусственное определение времени оказало на жизнь людей во время промышленной революции, начиная с изобретения фабрик.
Промышленная революция вынудила людей жить по часам
Когда-то жизнь людей определялась их потребностями и природными циклами. До промышленной революции время было психологической переменной, которая воспринималась людьми в зависимости от многих факторов, включая вид деятельности и психологический настрой. Семьи часто жили по солнцу, а не по часам. Не существовало даже понятия «почасовая работа». Были «дела», которыми нужно было заниматься, и «занятия», которые нужно было выполнять. На ферме ухаживали за растениями и животными. У ремесленников и торговцев была «работа», но время ее выполнения зависело от человека. Не было искусственного разделения суток на периоды, когда человек уходил на работу, и периоды, когда семья собиралась вместе. С точки зрения семьи, эти промежутки времени не были жестко оделены друг от друга: можно было одновременно выполнять бытовые дела и общаться с родственниками.
Каждое дело выполняли при необходимости. У разных групп людей и в разных семьях были разные циклы активности. Я вовсе не утверждаю, что семейная жизнь всегда была комфортной или даже приятной, но такой способ существования позволял совмещать «работу» и «семейную жизнь». «Расписание труда» было естественным.
Однако начало промышленной революции ознаменовало открытие фабрик и заводов, где люди были вынуждены находиться вместе в одно и то же время. Вскоре жизнь стали регулировать не естественные ритмы, а диктат заводских гудков и церковных колоколов, отмечавших (произвольно установленные) периоды работы, перерыва на еду, начала и окончания рабочего дня.
Члены одной семьи оказались разделены. Рабочие возвращались домой поздним вечером. Я видел, как в Южной Корее и Японии сотрудники сидят в офисе часами, после чего посещают «почти обязательные» посиделки с выпивкой. Посиделки заканчиваются так поздно, что у их участников не остается времени на долгую дорогу домой, и они ночуют в многочисленных отелях. Часто работники не возвращаются в семьи несколько дней кряду. Они стали рабами времени и навязанной им концепции «работы по часам». От недостатка сна они засыпают на совещаниях и в пригородных поездах. Исследования же показывают, что долгий рабочий день дает меньше результатов, чем более короткий, но с большей сосредоточенностью на работе, как это принято в некоторых странах.
Искусственность порождает социальные «антиаффордансы»
Искусственная природа общества контролирует поведение человека множеством способов. Часто искусственные правила и привычки настолько глубоко укореняются в нашем подсознании, что мы даже не осознаем, насколько они ограничивают наше поведение, иногда поощряя определенные виды деятельности, но чаще сдерживая другие.
