Шок будущего бесплатное чтение
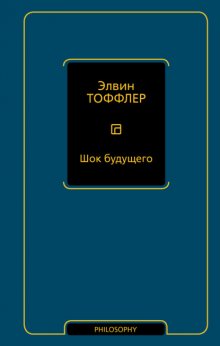
© Alvin Toffler, 1970
© Перевод. А. Анваер, 2025
© Издание на русском языке AST Publishers, 2025
Посвящается Сэму, Роуз, Хайди и Карен, моим самым близким в жизни людям…
Введение
Это книга о том, что происходит с людьми, когда их потрясают перемены. О способах, какими мы адаптируемся – или не адаптируемся – к будущему. О будущем было написано очень много. Но книги о нем буквально издают холодный металлический скрежет. Книга же, которую вы сейчас держите в руках, наоборот, посвящена «мягкой», или человеческой, стороне завтрашнего дня. Это скромное сочинение описывает шаги, и мы с помощью них, вероятно, достигнем этого «завтра». Они включают в себя самые обыденные повседневные дела и вещи – продукты, которые мы покупаем и выбрасываем, ускоряющееся мелькание проходящих через нашу жизнь людей. В книге детально рассматриваются дружба и семейная жизнь. Исследуются странные новые субкультуры и стили жизни вместе с целым сонмом других тем: от политики и спорта до прыжков с парашютом и секса.
Все эти вещи – и в книге, и в жизни – связывает одно: бурный поток перемен, ставший сегодня настолько мощным, что он опрокидывает учреждения, меняет человеческие ценности и засушивает наши корни. Перемены – это процесс, в ходе которого будущее вторгается в нашу жизнь, и к ним следует внимательно приглядеться, и не с дальней исторической перспективы, но и с точки зрения того, как живет и дышит человек, их переживающий.
Ускорение изменений в наше время – стихийная сила. Оно порождает как личностные и психологические, так и социологические следствия. На следующих страницах автор впервые попытается систематически исследовать эти эффекты ускорения. Уверен, что если человек быстро не научится управлять скоростью изменений в своих личных и общественных делах, то мы обречены на масштабный адаптационный провал.
В 1965 году в статье, опубликованной в Horizon, я впервые употребил термин «шок будущего» для описания сокрушительного потрясения и дезориентации, какие мы порождаем в индивидах, подвергая их мощным изменениям в течение слишком короткого времени. Под влиянием этого термина я провел следующие пять лет посещая десятки университетов, центров, лабораторий и государственных ведомств; я прочитал множество статей и докладов; побеседовал буквально с сотнями экспертов по различным аспектам изменений, по адаптивному поведению и футурологии. Своей озабоченностью изменениями, тревогами по поводу адаптации и страхами в связи с будущим со мной делились нобелевские лауреаты, хиппи, психиатры, врачи, бизнесмены, профессиональные футурологи, философы и педагоги. Набравшись опыта, я проникся двумя тревожными убеждениями.
Во-первых, шок будущего перестал быть отдаленной потенциальной опасностью, нет – это реальная болезнь, которой уже страдает неуклонно возрастающее число людей. Такое психобиологическое страдание можно описать медицинскими и психиатрическими терминами. Это болезнь перемен.
Во-вторых, я постепенно осознал, как мало на самом деле знают о способности к адаптации и те, кто призывает к великим переменам, и те, кто якобы готовит нас к навыкам справляться с ними. Серьезные интеллектуалы храбро толкуют об «обучении переменам» или о «подготовке людей к будущему». Но мы практически ничего не знаем о том, как это делается. В ситуации стремительных перемен, равных которым человечество прежде не переживало, мы остаемся весьма невежественными в вопросе о том, как приспосабливается к переменам животное, называемое человеком.
Наши психологи и политики явно озадачены иррациональным сопротивлением, каким встречают перемены определенные индивиды и группы. Глава корпорации, желающий реорганизовать свой отдел, педагог, мечтающий внедрить новый метод преподавания, мэр, стремящийся добиться расового примирения в городе, – все они в тот или иной момент сталкиваются с этим слепым сопротивлением. Но мы мало знаем о его источниках. Иными словами, почему одни люди стремятся к переменам, делая все, что в их силах, для этого, а другие бегут от новшеств, как от чумы? Я не нашел готовых ответов на эти вопросы, но обнаружил, что у нас даже нет адекватной теории адаптации, а без нее мы едва ли сможем когда-либо найти ответы.
Таким образом, цель этой книги заключается в том, чтобы помочь нам наладить отношения с будущим, то есть более эффективно справляться с личными и социальными изменениями за счет углубления нашего понимания того, как люди на них реагируют. Для достижения поставленной цели необходимо создание новой обобщающей теории адаптации.
Это также заставляет обратить внимание на важное, однако часто недооцениваемое различение. Исследование воздействия перемен сосредоточено на цели, к какой они направлены, а не на скорость движения к ней. В этой книге я постарался показать, что скорость изменений имеет иное, а подчас и более важное значение, нежели их направление. Не увенчается успехом ни одна попытка осознать природу адаптивности, пока не будет понят и принят этот факт. Любой способ определить «содержание» изменения должен включать влияние его темпа, как части содержания.
Уильям Огборн в своей знаменитой теории культурного лага показал, как социальные стрессы возникают из-за разной скорости изменения в секторах общества. Концепция шока будущего – и производная от нее теория адаптации – позволяет с вероятностью предполагать, что баланс должен существовать не просто между скоростями изменений в разных слоях общества, но и между высокой скоростью внешних изменений и ограниченной скоростью человеческой реакции на них, поскольку дело в том, что шок будущего вырастает из увеличения лага между этими двумя скоростями.
Однако в этой книге я намерен сделать нечто большее, нежели просто представить новую теорию. Я хочу продемонстрировать и метод. Прежде люди изучали прошлое, надеясь пролить свет на настоящее. Я развернул временное зеркало, будучи убежденным в том, что связный образ будущего тоже сможет пролить свет бесценного прозрения на наше настоящее. Нам будет невероятно трудно постичь наши личные и общественные проблемы без использования будущего как полезного инструмента. На следующих страницах я обдуманно и целенаправленно буду использовать этот инструмент, чтобы показать, на что он способен.
И последнее, однако не менее важное: эта книга должна изменить и читателя, пусть в малозаметном, но весьма важном смысле. По причинам, которые станут понятными в ходе дальнейшего изложения, умение успешно справляться со стремительными изменениями потребует от большинства из нас усвоения иного отношения к будущему, нового, способного к адекватной оценке осознания роли, какую будущее играет уже сегодня, в настоящем. Эта книга задумана как средство усиления осознания читателем надвигающегося будущего. Степень, в какой читатель после прочтения книги задумается о нем, попытается его предвидеть и предвосхитить, станет одним из аспектов ее полезности.
Покончив с этими положениями, я хочу перейти к оговоркам. Нам всегда приходится иметь дело с вероятностью факта. Каждый репортер со стажем имеет опыт работы со стремительно делающими крутые повороты сюжетами, которые меняют форму и смысл, прежде чем первое слово ложится на бумагу. Сейчас весь мир представляет собой быстро меняющийся сюжет. Разумеется, в книге, процесс написания которой длился несколько лет, кое-какие факты могли устареть и потерять актуальность за период, прошедший между подготовкой и написанием и выходом книги в свет. Профессора университета А за это время перешли в университет Б. Политики, придерживавшиеся позиции X, стали придерживаться позиции Y.
При всех добросовестных усилиях, предпринятых в период написания книги ради ее актуальности, некоторые факты, приведенные в «Шоке будущего», безнадежно устарели и должны быть оставлены. (Конечно, это характерно для многих книг, хотя их авторы не любят об этом упоминать.) Устаревание данных имеет, однако, особое значение, поскольку само по себе подтверждает отстаиваемый в книге тезис о быстроте изменений. Авторам становится труднее идти в ногу с реальностью. Мы пока не научились задумывать, исследовать, писать и публиковать написанное в режиме «реального времени». Таким образом, читателям следует сосредоточиться на главной теме, а не на мелких деталях.
Надо сделать еще одну оговорку относительно глагола «будет». Ни один серьезный футуролог никогда не опускается до «предсказаний». Их оставляют телевизионным «оракулам» и газетным астрологам. Ни один человек, имеющий хотя бы отдаленное представление о сложностях предсказания, не станет претендовать на обладание абсолютным знанием завтрашнего дня. Говорят, что на эту тему есть изысканно-ироничная китайская пословица: «Пророчествовать трудно – особенно в отношении будущего».
Это означает, что каждое высказывание о нем должно быть, по справедливости, оснащено гирляндой спецификаторов, таких как «если», «и», «но» и «с другой стороны». Однако для того, чтобы добиться соответствующего качества в книге такого рода, автору придется «затопить» читателя лавиной всяческих «может быть». Я избрал иную тактику, я выражаюсь твердо, без колебаний, полагаясь на стилистическое чутье умного читателя. Слово «будет» надо всегда читать так, словно ему предшествует невидимое слово «вероятно» или выражение «по моему мнению». Точно так же, все данные, приложенные к будущим событиям, следует воспринимать с известной долей критики.
Неспособность точно и определенно рассуждать о будущем не является, однако, оправданием молчания. Там, где доступны «железные данные», их, конечно, необходимо брать в расчет. Но там, где их нет, ответственный автор, будь он даже ученым, имеет право и обязанность полагаться и на другие виды доказательств, включая привлечение данных впечатлений и описания отдельных случаев, а также использовать мнения хорошо информированных людей. Я поступаю так на протяжении всей книги и не прошу за это извинений.
Имея дело с будущим, по крайней мере в контексте целей этой книги, важнее проявлять воображение и интуицию, нежели стараться всегда быть на сто процентов «правым». Теориям необязательно быть «правыми» для того, чтобы стать полезными. Пользу можно отыскать даже в ошибках. Карты мира, рисованные средневековыми картографами, были совсем неточными, переполненными такими фактическими ошибками, что сегодня, когда на них нанесена практически вся поверхность земного шара, могут вызвать лишь снисходительную улыбку. Но без этих карт великие мореплаватели никогда не открыли бы Новый Свет. Сегодняшние, улучшенные карты не были бы составлены, если бы люди, работавшие с ограниченными, доступными им данными, не дерзнули нанести на бумагу свои смелые представления о мирах, которых они не видели.
Те, кто исследует будущее, во многом похожи на этих древних составителей географических карт, и именно в их духе в этой книге представлена концепция шока будущего и теории диапазона адаптации – не как окончательная картина мира, а как первое приближение к новым реальностям, исполненным опасностей и обещаний, реальностям, созданным неустанно действующим ускоряющим толчком.
Часть первая
Смерть стабильности
Глава 1
Восьмисотое поколение
Через три десятилетия, отделяющих нас от двадцать первого века, миллионы обычных, психически здоровых людей внезапно столкнутся лицом к лицу с будущим. Граждане богатейших и технологически наиболее развитых стран в большинстве своем ощутят нарастающую болезненность необходимости идти в ногу с переменами, что является характерной чертой нашего времени. Для таких людей будущее наступит слишком скоро.
Это книга о переменах и о том, как к ним приспосабливаться. Она о тех, кто благоденствует на них, кто с наслаждением скользит по их волнам, а также о множестве других людей, которые будут сопротивляться им или пытаться убежать от них. Это книга о нашей способности к адаптации. Она о будущем, о том шоке и потрясении, какие оно принесет с собой.
На протяжении последних трехсот лет западное общество охвачено огненным штормом перемен. Он далек от прекращения, наоборот, как выясняется, шторм только теперь набирает силу.
Перемены прокатываются по индустриально развитым странам ускоряющимися волнами невиданной мощи. Они оставляют за собой самую разнообразную социальную флору – от психоделических церквей и «свободных университетов» до наукоградов в Арктике и клубов обмена женами в Калифорнии.
Волны эти выводят также особые породы странных личностей: детей, в двенадцать лет не похожих на детей; взрослых, которые в пятьдесят остаются двенадцатилетними детьми. Появились богатые люди, изображающие нищих, и компьютерные программисты, увлекающиеся ЛСД. Существуют анархисты, под их грязными джинсовыми куртками скрываются отъявленные конформисты, и конформисты, под безупречными костюмами которых прячутся настоящие анархисты. Появились женатые священники, священники-атеисты и иудеи-буддисты. У нас есть поп-культура и оп-культура… есть «кинетическое искусство»… Возникли клубы кутил и кинотеатры гомосексуальных фильмов… Есть гнев, изобилие и забвение. Очень много забвения.
Можно ли объяснить эту странную сцену, не прибегая к сленгу психоаналитиков или малопонятным клише экзистенциалистов? Какое-то новое общество, очевидно, внезапно рождается прямо среди нас, на наших глазах и при нашем участии. Можно ли его понять, придать какую-то форму его развитию? Как с ним поладить?
Многое из того, что поражает нас своей необъяснимостью, станет намного понятнее, если мы свежим взглядом оценим невероятную скорость изменений, которая порой заставляет реальность смотреться как сломавшийся калейдоскоп. Дело в том, что ускорение изменений не просто больно бьет по отраслям экономики или целым странам. Это конкретная сила, глубоко проникающая в нашу личную жизнь. Она заставляет нас разыгрывать новые для нас роли и угрожает нам опасностью новой и катастрофической психической болезни. Эту болезнь можно назвать «шоком будущего», а знание ее причин и симптомов поможет объяснить многие вещи, которые в противном случае ускользнут от рационального анализа.
Неподготовленный посетитель
В популярный лексикон уже начинает проникать параллельный термин – «культурный шок». Культурным шоком называют воздействие, оказываемое на неподготовленного человека его погружением в незнакомую и чуждую культуру. Волонтеры «Корпуса мира» страдают от него на Борнео и в Бразилии, вероятно, культурный шок поразил и Марко Поло в Катаи. Культурный шок – то, что происходит, когда путешественник внезапно оказывается в месте, где «да» означает «нет», где о «фиксированной цене» можно поторговаться, где долгое ожидание в приемной не считают оскорблением, где смех служит признаком гнева. Культурный шок – то, что происходит, когда знакомые психологические сигналы, помогающие индивиду адекватно действовать в обществе, заменяются другими – странными и непостижимыми.
Феномен культурного шока лежит в основе смущения, фрустрации и дезориентации, преследующих американцев при их столкновении с другими обществами. Культурный шок приводит к нарушению адекватного общения, к неверному пониманию реальности, к неспособности справляться с ситуациями. Тем не менее культурный шок относительно мягок в сравнении с более серьезной болезнью – с шоком будущего. Шок будущего – это головокружительная потеря ориентации, вызванная преждевременным наступлением будущего. Вероятно, это самая серьезная болезнь завтрашнего дня.
Шок будущего не удастся найти в Index Medicus или в перечне психических отклонений. Тем не менее, если не будут предприняты разумные меры по борьбе с шоком будущего, миллионы человеческих существ ощутят нарастающую дезориентацию, почувствуют неспособность рационально поступать в окружающей их среде. Соматические болезни, массовые неврозы, иррациональность и разгул насилия, которые присутствуют в нашей современной жизни, являются лишь предвестниками того, что ждет нас впереди, если мы не разберемся в этой болезни и не начнем ее лечить.
Шок будущего – это временной феномен, производное от быстро ускоряющегося темпа изменений в обществе. Возникает он в результате наложения новой культуры на старую. Это культурный шок в пределах собственного, «родного» общества. Но воздействие его намного хуже. Дело в том, что большинство волонтеров «Корпуса мира», да и многие путешественники утешаются тем, что они скоро вернутся в культуру, которую оставили лишь на короткое время. Жертвам шока будущего это утешение будет недоступно.
Заберите индивида из его родной культуры и внезапно переместите его в окружение, сильно отличающееся от привычного, в окружение с другим набором социальных сигналов, на которые ему приходится реагировать – на иные концепции времени, пространства, работы, любви, религии, секса и всего остального, – затем лишите его всякой надежды на возвращение в более привычный социальный ландшафт, и он получит расстройство. тяжелое вдвойне. Более того, если эта новая культура сама находится в постоянном хаотичном смятении и если – что еще хуже – непрерывно меняются ее ценности, то чувство растерянности и дезориентации усилится. Имея мало ориентиров, подсказывающих, какое именно поведение является разумным в абсолютно новых условиях, жертва шока будущего может стать источником опасности для себя и других.
Теперь вообразите не только индивида, но и целое общество, целое поколение, включая его слабейших, наименее образованных и наиболее иррациональных членов, неожиданно перенесенное в этот новый мир. В результате возникнет массовая дезориентация – широкомасштабный шок будущего.
Такова перспектива, с которой сегодня человек сталкивается лицом к лицу. Перемены, словно лавина, обрушиваются на наши головы, и большинство людей совсем не готовы справляться с ними.
Разрыв с прошлым
Не является ли все сказанное мною преувеличением? Думаю, нет. Стало модным говорить, что переживаемые нами сейчас феномены есть «вторая промышленная революция». Этой фразой предполагается впечатлить нас скоростью и глубиной происходящих вокруг перемен. Но, помимо того, что это утверждение абсолютно банально, оно вводит в заблуждение. То, что происходит сейчас, при всем сходстве, является намного более масштабным, глубоким и важным, нежели промышленная революция. Действительно, все более весомым становится мнение, согласно которому нынешнее движение является не чем иным, как вторым водоразделом человеческой истории, а он по своей величине может сравниться только с первым великим переломом в историческом континууме, с переходом от варварства к цивилизации.
Эта идея все чаще находит отклик в работах ученых в области науки и техники. Сэр Джордж Томсон, британский физик и лауреат Нобелевской премии, в своей книге The Foreseeable Future предполагает, что ближайшей исторической параллелью сегодняшнего дня является не промышленная революция, а скорее «изобретение земледелия в эпоху неолита». Джон Дибольд, американский специалист по автоматизации, предупреждает, что «воздействие технологической революции, которую сегодня мы переживаем, будет глубже воздействия любого социального изменения, пережитого нами в прошлом». Сэр Леон Багрит, британский производитель компьютеров, настаивает на том, что автоматизация сама по себе являет собой «величайшее изменение за всю историю человечества».
Не одни только ученые и инженеры придерживаются подобных взглядов. Сэр Герберт Рид, специалист по философии искусств, утверждает, что мы переживаем «революцию столь фундаментальную, что нам будет трудно найти адекватную параллель в прошлых веках. Вероятно, единственное, с чем ее можно сравнить, это изменения, происходившие на рубеже между палеолитом и неолитом». А Курт Марек, больше известный под псевдонимом К. В. Керама, автор книги «Боги, гробницы и ученые», отмечает, что «в двадцатом веке мы завершаем продолжавшуюся пять тысяч лет эру человеческой истории. Мы не предполагаем, вслед за Шпенглером, что находимся в ситуации Древнего Рима в эпоху зарождения христианского Запада; нет, сейчас мы в ситуации четвертого тысячелетия до новой эры. Теперь мы, как доисторический человек, открываем глаза и видим абсолютно новый мир».
Одно из самых поразительных утверждений прозвучало из уст Кеннета Боулдинга, выдающегося экономиста и оригинального социального мыслителя. В поддержку своего утверждения о том, что настоящий момент представляет собой решающий. поворотный пункт в человеческой истории, Боулдинг замечает, что «в том, что касается совокупности статистических данных о человеческой деятельности, дата, разделяющая человеческую историю на две равные части, имела место на памяти ныне живущих людей». Наш век представляет собой великую разделительную полосу, проходящую через центр человеческой истории. В подтверждение он говорит: «Сегодняшний мир отличается от того мира, в котором я родился, как он, в свою очередь, отличался от мира эпохи Юлия Цезаря. Я родился, на сегодняшний день, в середине человеческой истории. С момента моего рождения произошло намного больше нового, чем до него».
Это поразительное заявление можно проиллюстрировать множеством примеров. Было подсчитано, что если последние пятьдесят тысяч лет существования человечества разделить на сроки продолжительности жизни приблизительно по шестьдесят два года каждый, то мы получим в сумме около восьмисот поколений. Из этих восьмисот люди провели в пещерах полных шестьсот пятьдесят.
Только в течение последних семидесяти поколений, благодаря изобретению письменности, стала возможной полноценная связь между поколениями. Только в течение последних шести поколений массы людей впервые познакомились с печатным словом. В течение жизни лишь последних четырех поколений стало возможным с приемлемой точностью измерять время. Прошло только два поколения с тех пор, как был впервые использован электромотор. Но подавляющее большинство материальных благ, которыми сегодня мы пользуемся в обыденной жизни, были придуманы и сделаны в течение жизни последнего, восьмисотого поколения.
Это восьмисотое поколение практически порвало со всем прошлым человеческим опытом, потому что именно в течение жизни этого поколения коренным образом изменилось отношение человека к ресурсам. Особенно заметно это в экономическом развитии. В течение жизни всего одного поколения сельское хозяйство, некогда бывшее основой цивилизации, теряет свое доминирующее положение во многих странах. Сегодня в дюжине развитых стран в сельском хозяйстве занято менее 15 процентов экономически активного населения. В Соединенных Штатах, где фермы кормят 200 миллионов американцев и еще 160 миллионов человек по всему миру, в сельском хозяйстве занято менее 6 процентов населения, и эта доля продолжает быстро сокращаться.
Более того, если сельское хозяйство является первой стадией экономического развития, а промышленность – второй, то сейчас мы наблюдаем уже третью стадию, в которую мы вошли внезапно. В 1956 году Соединенные Штаты стали первой страной, в которой более 50 процентов рабочей силы, не занятой в сельском хозяйстве, перестало трудиться на фабриках и заводах, то есть заниматься физическим трудом. Синие воротнички были по численности оттеснены на второй план так называемыми белыми воротничками, людьми, занятыми в розничной торговле, администрации, связи, науке, образовании и других сферах услуг. В течение жизни всего одного поколения общество впервые в человеческой истории не только сбросило с себя ярмо сельского хозяйства, но и за несколько промелькнувших как одно мгновение десятилетий сумело избавиться и от ярма физического труда. Родилась сервисная экономика, экономика услуг.
С тех пор в том же направлении начали двигаться и другие развитые страны. Сегодня в тех странах, где уровень занятости в сельском хозяйстве составляет 15 процентов и ниже, белые воротнички по численности превзошли синих воротничков; это произошло в Швеции, Британии, Бельгии, Канаде и Нидерландах. Десять тысяч лет на сельское хозяйство. Столетие или два на промышленность. Теперь же на наших глазах рождается супериндустриализм (постиндустриальное общество?[1]).
Жан Фурастье, французский экономист и социальный философ, объявил, что «ничто не может быть менее индустриальным, чем цивилизация, рожденная промышленной революцией». Значение этого потрясающего факта нам еще только предстоит осмыслить и усвоить. Вероятно, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций У Тан точнее других оценил значение сдвига в сторону постиндустриального общества (супериндустриализма), когда заявил, что «главная, исполинских масштабов истина о развитых современных экономиках заключается в том, что они могут получить кратчайшим путем ресурсы любого типа и размера, которые они решили иметь… Теперь не ресурсы ограничивают решения, а решения создают ресурсы. Это фундаментальное революционное изменение – возможно, самое революционное из всех пережитых до сих пор человечеством». Монументальные сдвиги произошли в течение жизни одного восьмисотого поколения.
Это поколение отличается от всех других еще и удивительным масштабом и объемом изменений. Конечно, в прошлом жили и другие поколения, на жизнь которых пришлись эпохальные сдвиги. Войны, эпидемии, землетрясения и голод потрясали и намного более ранние социальные порядки. Но те потрясения и сдвиги были ограничены одним сообществом или захватывали небольшую группу расположенных по соседству обществ. Требовались поколения или даже века на то, чтобы влияние этих перемен распространилось за свои первоначальные границы.
При жизни нашего поколения границы буквально взорвались и лопнули. Сегодня сеть социальных связей сплетена так туго, что последствия происходящих событий мгновенно распространяются по миру. Война во Вьетнаме меняет основы политических отношений в Пекине, Москве и Вашингтоне, вызывает протесты в Стокгольме, влияет на финансовые операции в Цюрихе, запускает тайную дипломатическую активность в Алжире.
На самом деле быстро распространяются не только современные события – можно сказать, что сегодня мы по-новому переживаем воздействие событий далекого прошлого. Прошлое снова воздействует на нас. Нас захватывает феномен, который можно было бы назвать «смещением во времени».
Событие, которое затронуло горстку народов в то время, когда оно происходило, сегодня может иметь масштабные последствия. Например, по современным меркам Пелопонесская война может считаться мелкой вооруженной стычкой. В то время как Афины, Спарта и несколько близлежащих городов-государств сражались, остальное население земного шара либо вообще ничего не знало об этой войне, либо относилось к ней абсолютно равнодушно. Индейцев, живших в Мексике в то время, та война вообще не затронула. На древних японцев она тоже не влияла.
Тем не менее Пелопонесская война решительно и глубоко изменила дальнейший ход греческой истории. За счет перемещения людей, географического перераспределения генов, ценностей и идей эта война повлияла на дальнейшие события в Риме и во всей Европе. Сегодняшние европейцы стали в определенной степени другими людьми именно потому, что произошел тот древний конфликт.
В свою очередь, в нашем тесно переплетенном мире эти европейцы влияют на мексиканцев так же, как и на японцев. Какой бы след ни оставила Пелопонесская война на генетическом портрете народов, идеи современных европейцев переносятся сейчас во все уголки мира. Таким образом, сегодняшние мексиканцы и японцы ощущают отдаленное воздействие той войны, несмотря на то что их жившие в ее время предки этого не чувствовали. Таким вот образом события прошлого, казалось бы надежно отделенные от нас поколениями и веками, снова восстают, догоняют и меняют нас сегодня.
Когда мы думаем, например, не о Пелопонесской войне, а о строительстве Великой Китайской стены, об эпидемии чумы, о битве банту с хамитами – обо всех событиях прошлого, – всегда нарастает важность накопительного воздействия, оказываемого принципом временного смещения. То, что происходило в прошлом лишь с некоторыми людьми, сегодня влияет практически на всех. Вся наша история всегда пребывает с нами, и парадоксальным образом именно это нарастание масштаба акцентирует трудность разрыва с прошлым. Происходит фундаментальное изменение масштаба перемен. Они захватывают пространство и пронзают время, добиваясь в восьмисотом поколении того, чего им не удавалось достичь прежде.
Но в этом окончательном, качественном отличии нынешнего поколения от предыдущих есть одна особенность, которую часто упускают из виду. Дело в том, что мы не просто расширили границы и увеличили масштаб изменений, а радикально поменяли темп их наступления. Сейчас, в наши дни, мы высвободили совершенно новую социальную силу – поток изменений ускорился настолько, что подействовал на наше чувство времени, произвел революцию в темпе обыденной жизни, решительно повлиял на способ, каким мы «чувствуем» окружающий нас мир. Теперь мы уже «чувствуем» жизнь не так, как ощущали ее люди прошлого. Именно это и есть кардинальная разница, которая отделяет современного человека от всех остальных людей. Дело в том, что это ускорение лежит в основе нестабильности переменчивой скоротечности, пронизывающей содержание нашего сознания, сильно влияя на способы наших отношений с другими людьми, с материальными предметами, с вселенной идей, искусства и ценностей.
Чтобы понять, что с нами происходит по мере нашего движения в направлении эры супериндустриализма, мы должны проанализировать процессы ускорения и испытать на прочность концепцию текучести и быстротечности, а без понимания роли, которую ускорение играет в поведении современного человека, все наши теории личности, да и психология, застрянут на пороге модерна, так и не переступив его. Психология без концепции текучести и скоротечности никогда не сможет с требуемой точностью учесть те феномены, которые являются по преимуществу современными.
Изменяя наше отношение к окружающим нас ресурсам, насильственно раздвигая горизонты перемен, ускоряя темп их развития, мы необратимо порвали с прошлым. Отрезали себя от старых способов мышления, чувствования и адаптации. Мы оснастили сцену общества абсолютно новыми декорациями и стремительно движемся к созданию иного общества. Это главный вопрос, основная проблема восьмисотого поколения. И именно это заставляет ставить вопрос о способности человека к адаптации – какую цену заплатит он за вход в это новое общество? Приспособится ли к его императивам? И если нет, то сможет ли он каким-то образом изменить эти императивы?
Прежде чем даже пытаться ответить на поставленные вопросы, нам необходимо сосредоточить внимание на двойственной силе ускорения, текучести и скоротечности. Мы должны научиться понимать, как они меняют текстуру бытия, как выковывают новые, незнакомые формы нашей жизни, нашей души, нашей психики. Мы должны осознать, как и почему они противостоят нам, впервые в истории угрожая взрывоподобной мощью шока будущего.
Глава 2
Ускоряющий толчок
В начале марта 1967 года на востоке Канады умер одиннадцатилетний мальчик. Умер от старости.
Рику Галланту было всего одиннадцать лет, но он страдал странной и редкой болезнью, называемой прогерией. Она проявляется ускорением старения, и по многим признакам он имел организм девяностолетнего старца. Симптомы прогерии – старческая дряхлость, склеротическое уплотнение артерий, облысение, дряблость и морщинистость кожи. По существу, Рик в момент смерти был глубоким стариком, прошедшим долгий путь биологического старения в течение коротких одиннадцати лет.
Случаи прогерии встречаются исключительно редко. Однако в метафорическом смысле высокотехнологические общества – все без исключения – страдают этим необычным заболеванием. Они не становятся старыми или дряхлыми. Но они переживают изменения, происходящие с аномальной быстротой.
Многие из нас смутно «чувствуют», что все вокруг начало двигаться быстрее. Врачи и руководители одинаково жалуются на то, что не могут угнаться за последними достижениями в своих сферах деятельности. Едва ли хотя бы одна встреча или конференция в наши дни обходится без ритуальных заклинаний о «вызове времени». Многие охвачены мрачным ощущением, подозревая, что изменения вышли из-под контроля.
Не все, однако, разделяют эту тревогу. Люди, словно сомнамбулы, продолжают шагать по жизни так, будто ничего не изменилось с тридцатых годов и не изменится впредь. Несомненно, живя в один из наиболее волнующих периодов человеческой истории, они пытаются дистанцироваться от него, отгородиться, словно это возможно – заставить перемены исчезнуть, если игнорировать их. Такие люди ищут «сепаратного мира», пытаются обрести нечто вроде дипломатического иммунитета к переменам.
Этих людей можно видеть повсеместно: пожилые отказываются активно проживать свои годы, изо всех сил стараясь избежать вторжения нового в собственную жизнь. Как бы преждевременно постаревшие в тридцать пять – сорок пять лет люди, с болью переживающие студенческие бунты, сексуальную революцию, ЛСД или мини-юбки, лихорадочно убеждают себя в том, что ведь юность всегда была мятежной и то, что происходит сейчас, не отличается от того, что случалось в прошлом. Непонимание перемен мы находим также и у молодых: студенты настолько невежественны относительно прошлого, что просто не видят ничего необычного в настоящем.
Тревожный факт заключается в том, что подавляющее большинство людей, включая образованных и умных, находят идею перемен настолько угрожающей, что пытаются отрицать ее наличие. Даже многие из тех, кто понимает, что перемены ускоряются, не анализируют это знание и не принимают этот важный социальный факт в расчет при планировании собственной личной жизни.
Время и перемены
Откуда мы знаем, что изменения ускоряются? В конце концов, у нас нет методов измерения перемен в абсолютных величинах. В чудовищной сложности вселенной, даже внутри каждого отдельно взятого общества одновременно течет практически бесконечное множество потоков перемен. Все «вещи» – от самого мельчайшего вируса до огромной галактики – являются вовсе не вещами, а процессами. Они не находятся в статическом положении, они не существуют в нирване полного отсутствия изменений, нирване, которую можно было бы использовать в качестве точки отсчета при измерении величины изменений. Таким образом, по необходимости величина изменений всегда является величиной относительной.
Кроме того, процесс изменений отличается неравномерностью. Если бы все процессы протекали с одинаковыми скоростями или если бы они ускорялись или замедлялись в унисон, то было бы невозможно наблюдать какие бы то ни было перемены. Будущее, однако, вторгается в настоящее с разными скоростями. Мы получаем возможность сравнивать скорость различных процессов по мере их развертывания. Например, мы знаем, что в сравнении с биологической эволюцией видов культурная и социальная эволюции протекают невероятно стремительно. Нам известно, что определенные общества преобразуются технологически или экономически быстрее, чем другие. Различные секторы одного и того же общества характеризуются разными темпами перемен – эту неравномерность Уильям Огборн обозначил термином «культурный лаг». Именно эта неравномерность изменения делает его измеримым.
Нам, однако, нужно мерило, которое сделало бы возможным сравнение разнообразных процессов, и таким мерилом является время. Без времени изменение не имеет смысла, а без изменений остановилось бы время. Время можно понимать как интервалы, в течение которых происходят события. Так же, как деньги позволяют нам приписывать определенные стоимости яблокам и апельсинам, время помогает нам сравнивать несходные между собой процессы. Когда мы утверждаем, что строительство дамбы потребует трех лет, то на самом деле мы говорим о том, что оно займет столько времени, сколько требуется Земле, чтобы трижды обогнуть Солнце, или столько же времени, за какое можно заточить карандаш 31 миллион раз. Время – это обменная валюта, позволяющая сравнивать скорости, с которыми протекают самые разнообразные процессы.
Учитывая неравномерность изменений и вооружившись нашим мерилом, мы тем не менее все равно столкнемся с мучительными трудностями при попытке реально измерить изменения. Говоря о скорости изменений, мы имеем в виду число событий, происшедших в течение произвольно выбранного промежутка времени. Таким образом, нам надо определить, что мы имеем в виду под «событием». Нам нужно с большой точностью выбрать интервалы. Кроме того, необходимо соблюдать осторожность и проявлять осмотрительность, делая выводы из наблюдаемых нами различий. Сегодня мы достигли впечатляющих успехов в измерении физических процессов в сравнении с процессами социальными. Например, мы точнее можем измерить скорость движения крови по телу, чем измерить скорость распространения слухов в обществе.
Несмотря на все эти оговорки, существует всеобщее согласие среди ученых – от историков и археологов до социологов, экономистов и психологов, что многие социальные процессы набирают скорость поразительно быстро и впечатляюще.
Подземные города
Рисуя картину размашистыми мазками, биолог Джулиан Хаксли сообщает: «Темп эволюции человека в течение его письменной истории приблизительно в сто тысяч раз превышает темп эволюции до появления человека». Изобретения или значимые усовершенствования, которые для своего завершения требовали около пятидесяти тысяч лет в эпоху раннего палеолита, полагает Хаксли, «окончательно внедрялись за тысячелетия; с появлением оседлой цивилизации мерой внедрения стало столетие». Ускорение, происходившее в течение последних пяти тысяч лет, было «особенно заметным в течение последних трехсот лет».
Писатель и ученый Чарльз Питер Сноу также высказывается по поводу нового видения изменений. «Вплоть до нашего столетия, – пишет он, – социальные изменения были настолько медленными, что на протяжении жизни каждого отдельного человека оставались незамеченными. Теперь ситуация иная. Скорость изменений возросла так значительно, что наше воображение начало от нее отставать». Действительно, утверждает социальный психолог Уоррен Беннис, маховик изменений раскрутился столь стремительно, что «никакое преувеличение, никакая гипербола, никакое забвение закона не может реалистически описать масштаб и скорость перемен… На самом деле представляется, что верны теперь только преувеличения».
Какие же изменения могут оправдать эту страстную речь? Давайте посмотрим на изменения, например, в процессе, посредством которого люди, в частности, создают города. В настоящее время мы переживаем невиданную прежде по масштабам и быстроте урбанизацию. В 1850 году только в четырех городах мира население составляло миллион человек. К 1900 году число таких городов достигло девятнадцати. Но уже к 1960 году в мире был уже сто сорок один такой город, а сегодня, согласно данным Эдгара де Фриза и Й. Тиссе из Гаагского института общественных наук, численность городского населения стремительно увеличивается на 6,5 процента в год. Одна эта убедительная статистика означает, что городское население планеты удваивается каждые одиннадцать лет.
Один из способов понять значение перемены подобного масштаба – это попытаться вообразить, что произойдет, если все существующие города, вместо того чтобы расширяться, сохранят свои нынешние границы. Если бы это было так, то для того, чтобы обеспечить жильем новые миллионы городских жителей, нам придется построить по дубликату для каждого из сотен городов, которые уже присутствуют на картах Земли. То есть построить новый Токио, новый Гамбург, новый Рим и новый Рангун – и все это в течение одиннадцати лет. (Этим можно объяснить, почему французские градостроители набрасывают схемы подземных городов, где будут располагаться магазины, музеи, склады и предприятия, и почему один японский архитектор запланировал постройку города на сваях в океане.)
Аналогичная тенденция к ускорению становится очевидной в отношении потребления человечеством энергии. Доктор Хоми Бхабха, ныне покойный индийский ученый-атомщик, первый председатель Международной конференции по мирному использованию атомной энергии, проанализировал этот тренд следующим образом. «Для того чтобы проиллюстрировать его, – говорил он, – давайте воспользуемся буквой Q, чтобы обозначить количество энергии, получаемой при сжигании 33 миллиардов тонн угля. За восемнадцать с половиной веков, прошедших от Рождества Христова, суммарное потребление энергии составило меньше половины Q за одно столетие. Однако к 1850 году это количество увеличилось до одного Q на одно столетие. Сегодня мы потребляем около 10 Q энергии за одно столетие». Это означает, грубо говоря, что за последнее столетие человечество использовало половину всей энергии, потребленной за истекшие две тысячи лет.
Столь же очевидным является экономический рост стран, присоединившихся теперь к гонке к супериндустриализму. Несмотря на тот факт, что они стартовали, уже имея основательную промышленную базу, ежегодный прирост потребления энергии там воистину впечатляет. Возрастает также и скорость самого ускорения.
Например, во Франции за двадцать девять лет между 1910 годом и годом начала Второй мировой войны прирост промышленного производства составил всего 5 процентов. Однако за период между 1948 и 1965 годами, то есть всего за семнадцать лет, этот рост составил приблизительно 220 процентов. Сегодня рост промышленного производства на 5–10 процентов в год не является редкостью в большинстве промышленно развитых стран. Естественно, в этом процессе можно наблюдать как взлеты, так и падения. Но тенденция видна ясно.
Таким образом, в двадцати одной стране, входящей в Организацию экономического сотрудничества и развития, – в странах в общем и целом «состоятельных» – средний ежегодный рост валового национального продукта в период между 1960 и 1968 годами составил 4,5 процента. Япония же возглавила этот список с ростом ВНП 9,8 процента в год.
В этих показателях ничуть не меньше революционного, чем в удвоении тотального производства товаров и услуг в развитых обществах каждые пятнадцать лет, причем период удвоения неуклонно сокращается. Это означает, что ребенок, достигший подросткового возраста в любом из этих обществ, буквально окружен вдвое большим количеством рукотворных вещей, чем его родители в то время, когда он был младенцем. К тому времени, когда сегодняшний подросток достигнет тридцатилетнего возраста, а может, и раньше, произойдет второе удвоение. А позднее, когда этот индивид вступит в преклонный возраст, общество, в котором он живет, будет производить в тридцать два раза больше, чем в тот период, когда он родился.
Подобные изменения в соотношении старого и нового оказывают, как мы увидим, электризующее воздействие на привычки, убеждения и самооценку миллионов людей. Никогда за всю предшествующую историю это соотношение не менялось так радикально за столь короткие отрезки времени.
Мотор технологии
В основе этих грандиозных экономических фактов находится огромный рычащий мотор, двигатель изменений – технология. Это, конечно, не значит, что технология является единственным источником общественных перемен. Социальные подвижки могут вызываться химическим составом атмосферы, климатом, изменением плодовитости и множеством других факторов. Тем не менее именно технология – главная сила, обусловливающая ускоряющий толчок.
Для большинства людей термин «технология» ассоциируется с видом дымящих сталелитейных заводов и лязгающих машин. Вероятно, классическим символом технологии до сих пор является сборочный конвейер, созданный Генри Фордом полвека назад и превращенный Чарли Чаплином в мощный социальный образ в фильме «Новые времена». Этот символ, однако, был неадекватным с самого начала и вводил в заблуждение, поскольку технология всегда была чем-то большим, нежели заводы и машины. Изобретение хомута в Средние века привело к революционным изменениям в методах ведения сельского хозяйства и было таким же технологическим достижением, как и бессемеровская печь несколькими столетиями позднее. Более того, технология включает в себя практики, так же как и машины, которые могут быть (но не обязательно) применены для их осуществления. К технологии можно отнести возникновение новых химических реакций, иных способов разведения рыб, насаждения лесов, освещения театров, подсчета голосов на выборах или преподавания истории.
Старые символы технологии еще сильнее вводят в заблуждение сегодня, когда большинство технологических процессов осуществляются без сборочных конвейеров и открытого огня. Действительно, в электронике, в космических технологиях, в большинстве новых отраслей промышленности характерными являются относительная тишина и чистота производства; порой эти качества считаются исключительно важными и необходимыми. Что касается сборочных линий, требующих организации многочисленной армии людей, выполняющих повторяющиеся простые операции, то они в настоящее время уже стали анахронизмом. Прошло время менять наши представления о символах технологии – для того, чтобы идти в ногу с ускоряющимися переменами в самой технологии.
Это ускорение часто представляют в миниатюре на примере прогресса в транспорте. Подчеркивают тот факт, чтошесть тысяч лет назад самым быстрым из доступных человеку видов транспорта для дальних расстояний были караваны верблюдов, передвигавшиеся со средней скоростью 8 миль в час. Такое положение сохранялось приблизительно до 1600 года до н. э., когда изобрели колесницу, позволившую увеличить максимальную скорость передвижения до 20 миль в час.
Это изобретение было настолько грандиозным, так трудно было превзойти заданный им предел скорости, что, скажем, почти три с половиной тысячи лет спустя, в 1784 году, когда в Англии впервые появилась регулярная почта, почтовые кареты двигались со средней скоростью 10 миль в час. Первый паровой локомотив, изготовленный в 1825 году, имел максимальную скорость всего 13 миль в час, а большие парусные суда того времени с трудом развивали вдвое меньшую скорость. Вероятно, только в восьмидесятых годах девятнадцатого века человек с помощью усовершенствованного парового двигателя смог достичь скорости 100 миль в час. Потребовались миллионы лет для того, чтобы установить этот рекорд.
Однако прошло всего пятьдесят восемь лет до того, как в 1938 году человек на воздушном судне сумел преодолеть предел скорости 400 миль в час, то есть в четыре раза больше скорости самых совершенных локомотивов девятнадцатого века. К шестидесятым годам реактивные самолеты приблизились к скорости 4 тысячи миль в час, а космические аппараты стали огибать Землю со скоростью 18 тысяч миль в час. Если построить график изменения этой скорости в течение жизни последнего поколения, то мы получим кривую, поднимающуюся вверх почти вертикально.
Тренд ускорения очевиден в любой сфере – будь то преодоление больших расстояний, достижение высот в воздухе, добыча полезных ископаемых или обуздание силы взрывов. Закономерность в этих и тысячах других статистических результатах абсолютно очевидна и усматривается безошибочно. Проходят тысячелетия или столетия, а затем, в наше время, возникает внезапный взрыв границ, и мы наблюдаем фантастический рывок вперед.
Причина заключается в том, что технология питает сама себя. Ее достижения делают возможной еще более развитую технологию, что можно отчетливо увидеть, если обратиться к процессу внедрения инноваций. Технологическая инновация включает в себя три стадии, которые связаны между собой, образуя самоподдерживающийся цикл. Во-первых, появляется творческая осуществимая идея. Во-вторых, выполняется ее практическое применение. В-третьих, новое изобретение пропитывает все общество.
По завершении этого процесса петля замыкается, когда проникновение технологии, воплощающей новую идею, в свою очередь способствует появлению новых творческих идей. Есть свидетельства того, что время между этапами этого цикла стало короче.
Это не просто верно, как часто отмечают, что 90 процентов всех когда-либо живших ученых живы до сих пор и что новые научные открытия совершаются каждый день. Эти новые идеи теперь начинают работать быстрее, чем прежде. Время между появлением новой концепции и ее практическим применением значительно сократилось. Возникает сильное различие между нами и нашими предшественниками. Аполлоний Пергский открыл коническое сечение, но прошло еще две тысячи лет до того, как оно было использовано для решения инженерных проблем. Миновало несколько столетий с того времени, когда Парацельс объяснил, что эфир можно применять для анестезии, до практического его использования с этой целью.
Такую задержку можно наблюдать и в совсем недавние времена. В 1836 году была создана машина, которая косила, молотила, связывала солому в снопы и рассыпала зерно в мешки. Она работала на технологиях, изобретенных за двадцать лет до этого. Но только сто лет спустя, в тридцатые годы двадцатого века, такие комбайны впервые массово появились на рынке. Первый английский патент на пишущую машинку был выдан в 1714 году. Но в продаже пишущие машинки появились только полтора века спустя. Прошло целое столетие с того момента, когда Николас Апперт открыл, как можно консервировать пищу, и до того времени, когда консервирование стало важной отраслью пищевой промышленности.
Теперь такие задержки между появлением идеи и ее воплощением почти немыслимы. И дело не в том, что мы стали более активными или менее ленивыми, чем наши предки, а в том, что мы изобрели всякого рода социальные механизмы, ускоряющие этот процесс. Таким образом, мы видим, что время между первой и второй стадиями инновационного цикла – между рождением идеи и ее воплощением – радикально сократилось. Например, Фрэнк Линн, изучив внедрение двадцати главных инноваций, в частности замораживания пищи, антибиотиков, интегральных схем и синтетической кожи, обнаружил, что с начала двадцатого века среднее время, необходимое для того, чтобы значимое научное открытие приняло полезную технологическую форму, сократилось на 60 процентов. Сегодня растущие научные и инновационные подразделения в промышленности целенаправленно работают над дальнейшим сокращением длительности задержек.
Однако если для воплощения новой идеи и ее выхода на рынок требуется меньше времени, то точно так же нужно меньше времени для того, чтобы новый товар проник в общество. Таким образом, укорачивается интервал между второй и третьей стадиями цикла – между приложением и распространением, а скорость последнего растет. Это подтверждается историей внедрения нескольких полезных приспособлений для домашнего хозяйства. Роберт Янг из Стэнфордского научного института изучил промежутки времени между первым появлением на рынке нового электрического прибора и моментом, когда промышленное его производство достигало пика.
Янг обнаружил, что для группы приборов, которые появились в продаже в Соединенных Штатах до двадцатых годов, включая пылесос, электрический вентилятор и электрический холодильник, время между первым появлением приспособления до достижения пика его производства составляло в среднем тридцать четыре года. Однако для группы приборов, появившихся в период между 1939 и 1959 годами, включая электрическую сковороду, телевизор и комбайн для мытья и сушки посуды, этот период составил всего восемь лет. Лаг сократился более чем на 76 процентов. «Эта послевоенная группа,– заявил Янг,– живо продемонстрировала быстрое ускорение современного цикла внедрения».
Ускорение темпа в цикле изобретения, эксплуатации и распространения, в свою очередь, ускоряет цикл. Новые машины и технические приспособления изменяют существующие машины и приспособления, позволяя соединять их в новые комбинации. Число комбинаций растет экспоненциально, в то время как количество новых машин и приспособлений увеличивается в арифметической прогрессии. Действительно, каждую новую комбинацию можно рассматривать как супермашину.
Например, компьютер сделал возможными успехи в комплексном исследовании космического пространства. В связи с изобретением чувствительных датчиков, коммуникационного оборудования и источников энергии компьютер стал частью конфигурации технических средств, которые в совокупности образуют единую супермашину для проникновения в космическое пространство и его исследования. Но для того, чтобы машины и технические средства можно было сочетать новыми способами, они должны быть изменены, модифицированы, адаптированы, усовершенствованы теми или иными способами. Таким образом, сами усилия по интеграции машин в супермашины заставляют нас изобретать дальнейшие технологические инновации.
Более того, важно понять, что технологическая инновация предусматривает не просто комбинацию и рекомбинацию машин и технических средств. Важные новые машины делают нечто большее, чем стимулируют или подстегивают изменения в других машинах, – они предлагают иные решения социальных, философских и даже личных проблем. Они меняют всю интеллектуальную среду человеческой жизни – способы, какими человек мыслит и смотрит на мир.
Мы все учимся на окружающей нас среде, постоянно ее сканируем, хотя, вероятно, и подсознательно, в поисках модели для подражания. Этими моделями являются не только другие, окружающие нас люди. Это, во все более возрастающей степени, машины. Например, механические часы были изобретены до того, как Ньютон уподобил свое представление о мироздании часовому механизму и это философское замечание оказало огромное воздействие на интеллектуальное развитие человека. Следствием этого представления о космосе как о великих часах стали идеи о причинах и следствиях, а также о важности внешних, противопоставленных внутренним, стимулов, и эти идеи до сих пор формируют поведение каждого из нас. Часы также воздействовали на наше понимание времени, позволившее принять идею о членении суток на двадцать четыре часа, равные промежутки, разделенные на шестьдесят минут каждый; эти представления буквально стали нашей неотъемлемой частью.
Совсем недавно компьютер породил бурю свежих идей о человеке как о действующей части более крупной системы, идей о его физиологии, способах обучения, механизмах памяти и принятия решений. Практически каждая интеллектуальная дисциплина, от политологии до семейной психологии, была затронута волной оригинальных гипотез, появившихся благодаря изобретению и распространению компьютера, и при этом его влияние на нас пока осознано не полностью. Таким образом, инновационный цикл ускоряется, питая сам себя.
Если, однако, технологию рассматривать как великую машину, как могучий ускоритель, то знание надо оценивать как топливо. То есть мы приходим к главному вопросу процесса ускорения в обществе, поскольку двигатель каждый день начинает снабжаться все более богатым топливом.
Знание как топливо
Скорость, с какой человек накапливает полезное знание о себе и вселенной, непрерывно увеличивается в течение последних десяти тысяч лет. Она сильно возросла после изобретения письма, но даже и после этого оставалась удручающе медленной. Следующий рывок в накоплении знаний – это событие, происшедшее только после изобретения Гутенбергом и другими подвижного шрифта в пятнадцатом веке. До 1500 года, согласно самым оптимистичным оценкам, в Европе появлялась примерно тысяча новых названий книг. Это означает приблизительно, что потребовалось бы целое столетие для того, чтобы собрать библиотеку из 100 тысяч томов. К 1950 году, спустя четыре с половиной века, скорость эта возросла так стремительно, что в Европе ежегодно печаталось 120 тысяч названий новых книг. То, что прежде занимало сто лет, стало занимать только десять месяцев. К 1960 году, всего через десять лет, скорость появления новых названий совершила новый скачок, так что теперь столетнюю работу стало возможно выполнить за семь с половиной месяцев. К середине шестидесятых выпуск книг в мировом масштабе, включая Европу, составил невероятное число – тысяча названий в один день.
Едва ли можно спорить, что каждая книга – чистое приобретение в усовершенствовании и умножении знания. Тем не менее мы обнаруживаем, что кривая ускорения книжных публикаций не вполне параллельна кривой скорости приобретения новых знаний. Например, до Гутенберга были известны лишь одиннадцать химических элементов. Двенадцатый элемент, сурьма, был открыт приблизительно в то время, когда Гутенберг работал над своим изобретением. Прошло двести лет с тех пор, как был открыт одиннадцатый элемент – мышьяк. Если бы такая скорость открытия элементов сохранялась и далее, то со времен Гутенберга мы добавили бы к периодической таблице еще два-три элемента. Однако за 450 лет, прошедших после его времени, было открыто около семидесяти новых элементов. С 1900 года были выделены оставшиеся элементы с быстротой не один за два столетия, а со скоростью один элемент в три года.
Есть основания полагать, что скорость умножения знания продолжает резко возрастать. Например, в наши дни число научных журналов и статей удваивается так же, как объем промышленного производства в индустриально развитых странах, приблизительно каждые пятнадцать лет, и, по мнению биохимика Филиппа Сикевитца, «то, что мы узнали за последние три десятилетия о природе живых существ, заставляет казаться крошечным объем знаний, добытых за любой сравнимый период времени в прошлой истории человечества». Сегодня одно только правительство Соединенных Штатов производит ежегодно 100 тысяч докладов плюс 450 тысяч статей, книг и писем. В мировом масштабе выход научной и технической литературы достигает 60 миллионов страниц в год.
Производство вычислительных машин пережило взрывоподобный рост около 1950 года. Он характеризуется невиданным повышением возможностей анализа чрезвычайно разнообразных данных в невероятных количествах и с головокружительной быстротой. Компьютеры стали главной силой, обеспечившей недавнее ускорение в приобретении знаний. В сочетании с другими, все более мощными аналитическими инструментами наблюдения окружающей нас невидимой Вселенной компьютер увеличил скорость приобретения знаний до умопомрачительной величины.
Фрэнсис Бэкон говорил нам: «Знание – сила». Это утверждение теперь можно интерпретировать, пользуясь современными терминами. В нашем социальном окружении «знание – это изменения», а ускоряющееся приобретение их, топлива для великой машины технологии, означает и ускорение перемен.
Поток ситуаций
Открытие. Применение. Воздействие. Открытие. Мы видим в этом цепную реакцию изменений, длинную, резко возрастающую кривую ускорения социального развития человечества. Этот ускоряющий толчок теперь достиг такого уровня, когда его даже при самом богатом воображении уже нельзя считать «нормальным». Нормальные институции индустриального общества не могут охватить его ускоряющий толчок; его воздействие сотрясает наши общественные институты и учреждения. Ускорение является одной из наиболее важных и одновременно хуже всего понятых социальных сил.
Но это только половина истории. Дело в том, что ускорение изменений является также и психологически значимой силой. Хотя психология практически полностью игнорирует эту проблему, ускорение изменений в окружающем мире нарушает внутреннее равновесие, меняет способ, каким мы переживаем и воспринимаем жизнь. Ускорение вне нас транслируется в ускорение внутри нас.
В упрощенном виде это можно проиллюстрировать следующим образом: давайте представим нашу индивидуальную жизнь как большой канал, по которому протекает поток переживаний и опытов. Этот поток чувственных переживаний состоит – или воспринимается нами как состоящий – из бесчисленных «ситуаций». Ускорение изменений в окружающем нас обществе в сильнейшей степени изменяет поток ситуаций по этому каналу.
У нас отсутствует отчетливое и полное определение слова «ситуация», но мы утратим всякую возможность справиться с нашими опытами, если не научимся членить их на такие поддающиеся контролю единицы. Более того, поскольку границы между ситуациями могут быть размытыми, постольку каждая ситуация отличается определенной «полнотой» и цельностью. Каждая ситуация, кроме того, характеризуется поддающимися идентификации компонентами. Они включают «вещи» – физические наборы природных или рукотворных объектов. Каждая ситуация возникает в некоем «месте». (Не случайно латинский корень situ означает «место».) Каждая социальная ситуация по определению вовлекает участие совокупности действующих персонажей – людей. Они также включают в себя местоположение в организационной сети общества и контекст идей или информации. Любую ситуацию можно проанализировать в понятиях этих пяти компонентов.
Но она определяется также отдельным измерением, которое – поскольку оно пересекает все остальные – часто упускают из виду. Это измерение – длительность – отрезок времени, в течение которого ситуация происходит. Две ситуации, одинаковые во всех прочих отношениях, вовсе не являются таковыми, если одна длится дольше, чем другая. Время решительно вмешивается в эту смесь, меняя смысл и содержание ситуации. Если похоронный марш исполнять в быстром темпе, то он превратится в веселенькое позвякивание, и точно так же затянувшаяся ситуация имеет совершенно иной привкус, нежели ситуация, развивающаяся в темпе стаккато, внезапно возникая и столь же быстро заканчиваясь.
Именно в этом видим мы первый непростой пункт, где ускоряющий толчок в большом обществе наталкивается на обычный повседневный опыт современного индивида. Дело в том, что ускорение изменений, как мы покажем далее, укорачивает длительность многих ситуаций. Это не только драматически изменяет «привкус», но и ускоряет прохождение событий по каналу переживания опыта. В сравнении с жизнью в медленно меняющемся обществе теперь больше ситуаций протекают по каналу в любой данный отрезок времени – и это вызывает перемены в человеческой психике.
Поскольку мы склонны сосредотачиваться только на одной ситуации в каждый данный момент, постольку увеличение скорости, с какой протекает для нас ситуация, сильно усложняет всю структуру жизни, увеличивая число ролей, которые нам приходится играть, и число выборов, которые мы вынуждены делать. Это, в свою очередь, порождает удушающее чувство сложности современной жизни.
Ускорение протекания ситуаций требует напряженной работы механизмов сосредоточения, за их счет мы переносим внимание с одной ситуации на другую. Происходит больше смещений внимания с предмета на предмет, остается меньше времени на анализ одной проблемы или ситуации за один раз. Именно это лежит в основе смутного, упомянутого ранее ощущения, будто «вещи стали двигаться быстрее». И это правда. Они с ускорением движутся вокруг нас и через нас.
Есть, однако, еще один более действенный и значимый способ, которым ускорение изменений в обществе увеличивает сложность адаптации к жизни. Это усугубление трудности проистекает из фантастического по масштабу вторжения новизны в наше бытие. Каждая ситуация сама по себе уникальна. Но ситуации часто напоминают друг друга. Это то, что делает возможным обучение на опыте. Если бы каждая ситуация была абсолютно новой и ничем не напоминала пережитые ранее, мы просто лишились бы способности справляться с ними.
Однако ускорение изменений радикально меняет баланс между новыми и знакомыми ситуациями. Следовательно, повышение скорости изменений понуждает нас реагировать не только на более быстрый поток ситуаций, но заставляет справляться со все большим числом ситуаций, в которых ранее приобретенный личный опыт оказывается бесполезным и ненужным. Психологическое следствие этого простого факта, который мы проанализируем ниже в этой книге, мало чем отличается от действия взрывчатого вещества.
«Когда вещи начинают меняться вовне, у вас начинаются параллельные изменения, происходящие внутри», – утверждает Кристофер Райт из Института изучения гуманитарных наук. Природа этих внутренних изменений, однако, так глубока, что по мере того, как ускоряющий толчок происходит со все большей быстротой, он одновременно испытывает на прочность нашу способность жить согласно параметрам, которые до сих пор определяли человека и общество. Говоря словами психоаналитика Эрика Эриксона: «В настоящее время в нашем обществе термином „английские кавычки“ в точности обозначают то, что скорость изменений будет продолжать ускоряться до пределов, недостижимых для индивидуальной и институциональной адаптивности».
Чтобы выжить, предотвратить развитие того, что мы назвали шоком будущего, индивид должен стать бесконечно более способным к адаптации, чем раньше. Ему следует изыскать совершенно иные способы укореняться на своем месте, ведь все старые основы – религия, нация, община, семья или профессия – ныне сотрясаются под напором ураганного натиска ускоряющего толчка. Прежде чем человек сможет это сделать, он должен детально понять, как последствия ускорения проникают в его личную жизнь, прокрадываются в поведение и изменяют качество бытия. Другими словами, ему нужно осознать природу текучести и быстротечности.
Глава 3
Темп жизни
До недавнего времени его портрет можно было увидеть везде: по телевизору, на плакатах в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, на листовках, спичечных этикетках и журнальных обложках. Этот типаж был вдохновенным порождением Мэдисон-авеню – вымышленный персонаж, с кем подсознательно идентифицировали себя миллионы людей. Молодой, аккуратно подстриженный, он держал в руке кейс-атташе, деловито смотрел на часы и выглядел как заурядный бизнесмен, спешивший на деловую встречу. Однако на спине его был виден огромный выступ. Дело в том, что между лопаток из спины торчал большой, имеющий форму бабочки ключ – такими ключами обычно заводят механические игрушки. Текст под картинкой призывал ее героя «отпустить пружину» – замедлиться и притормозить. Плакат этот украшал фасады отелей «Шератон». Этот заводной шагающий человек был и до сих пор остается наглядным символом людей будущего, миллионы которых чувствуют себя «заведенными» и спешат так, будто у них действительно из спины торчит ключ.
Среднестатистический индивид мало знает и еще меньше интересуется циклами технологических инноваций или отношением между приобретением знаний и темпом изменений. Но. с другой стороны, он весьма остро ощущает темп собственной жизни – каким бы он ни был.
Обычные люди живо реагируют на ритм и темп жизни. Удивительно, но эта реакция практически не привлекает внимания ни психологов, ни социологов. Это зияющий провал и неадекватность наук о поведении, поскольку темп жизни оказывает мощное влияние на поведение, вызывая у разных людей сильные и часто противоречивые реакции.
Не будет преувеличением сказать, что темп жизни делит человечество разграничительной линией, которая порождает непонимание между родителями и детьми, между Мэдисон-авеню и Мэйн-стрит, между мужчинами и женщинами, между американцами и европейцами, между Востоком и Западом.
Люди будущего
Обитатели планеты Земля делятся не только по расам, нациям, религиям и идеологиям, но также по положению во времени. Исследуя современное население Земли, мы обнаруживаем крошечную группу людей, которые до сих пор живут охотой и собирательством, как их предки миллионы лет назад. Другие, и они составляют подавляющее большинство человечества, зависят не от охоты на медведей и сбора ягод, а от сельского хозяйства. Они живут во многих отношениях как их предки сотни лет назад. Вместе эти две группы составляют, вероятно, 70 процентов всех живущих ныне человеческих существ. Это люди прошлого.
Наоборот, немногим больше 2,5 процента населения Земли волей судьбы оказались в индустриальных обществах. Они ведут современный образ жизни. Они являются продуктами первой половины XX века, сформированные механизацией и массовым образованием, но воспитанные в запоздалых воспоминаниях о сельском прошлом их страны. По сути, это люди настоящего, люди современности.
Оставшиеся два-три процента населения планеты, однако, не являются больше людьми ни прошлого, ни настоящего. Дело в том, что в главных центрах технологических и культурных изменений – в Санта-Монике, штат Калифорния, и Кембридже, штат Массачусетс, в Нью-Йорке, Лондоне и Токио – находятся миллионы людей, о которых можно сказать, что они уже живут жизнью будущего. Задающие тренды – часто даже не осознавая этого,– эти люди живут сегодня так, как многие миллионы людей будут жить завтра. Хотя сейчас их всего несколько процентов от населения мира, они уже формируют среди нас международную нацию будущего. Они – полномочные провозвестники будущего человека, первые граждане всемирного, рождающегося в муках супериндустриального общества.
Чем эти люди отличаются от остальных? Определенно, они богаче, лучше образованны и более мобильны, чем большинство представителей рода человеческого. Да и живут они дольше. Но что особенно выделяет людей будущего, так это факт, что они уже захвачены новым, ускоренным темпом и ритмом жизни. Они «живут быстрее», чем окружающие.
Некоторые люди испытывают сильную тягу к этому чрезвычайно ускоренному ритму жизни – они выходят далеко за пределы обычного образа жизни и испытывают тревогу, напряжение и дискомфорт, когда ритм замедляется. Они отчаянно стремятся туда, «где развертываются активные действия». (На самом деле многим из них безразлично, в чем заключаются эти действия, – лишь бы все происходило так же стремительно, как раскручивается сжатая пружина.) Джеймс Уилсон установил, например, что тяга к быстрому ритму жизни является одной из скрытых движущих сил явления, известного под названием «утечки мозгов» – массовой миграции европейских ученых в Соединенные Штаты и Канаду. Изучив поведение пятисот семнадцати эмигрировавших английских ученых и инженеров, Уилсон пришел к выводу, что привлекали этих людей не только высокие зарплаты и лучшие условия труда, но и ускоренный ритм жизни. Эмигранты, пишет Уилсон, «не пугаются того, что они называют „ускоренным ритмом Северной Америки“. При прочих равных они, как представляется, предпочитают такой ритм жизни всем другим». Так же и один белый ветеран движения за гражданские права из Миссисипи сообщает: «Люди, привыкшие к ускоренной городской жизни… не могут долго выносить сельскую жизнь Юга. Вот почему они часто снимаются с места и уезжают куда-то без видимой причины. Переезд – это наркотик движения». Эта тяга к перемене мест, вероятно бесцельная, играет роль компенсационного механизма. Понимание мощной притягательности определенного ритма жизни для людей позволяет объяснить это «бесцельное поведение».
Но если одни люди просто наслаждаются новым стремительным ритмом, другие испытывают к нему отвращение и готовы на все, чтобы «избавиться от этой карусели», как они это называют. Полное вовлечение в нарождающееся супериндустриальное общество означает вхождение в мир, движущийся с невиданной прежде быстротой, но такие люди не хотят этого, предпочитая лениво перемещаться со своей скоростью. Не случайно несколько лет назад хитом сезона в Лондоне и Нью-Йорке стал мюзикл «Остановите Землю – я сойду». Квиетизм и поиск иных способов отказа и уклонения от общественной жизни, характерные для поведения людей (но не всех хиппи), наверное, менее мотивирован отвращением к ценностям технологической цивилизации, нежели подсознательной попыткой убежать от ритма жизни, который многие считают невыносимым. Не случайно хиппи называют ситуацию в обществе «крысиными бегами», а это явный намек на ускорение.
Пожилые и старые люди еще более негативно реагируют на дальнейшее ускорение изменений. Под наблюдения, согласно которым возраст часто коррелирует с консерватизмом, можно подвести солидный математический базис: в старости время течет быстрее.
Когда пятидесятилетний отец говорит своему пятнадцатилетнему сыну, что ему придется подождать два года до покупки собственной машины, то этот интервал в 730 дней составляет всего 4 процента от прожитых лет отца. Но в жизни юноши этот отрезок времени составляет целых 13 процентов. Поэтому нет ничего удивительного, что сыну эту промежуток времени кажется в три-четыре раза длиннее, чем отцу. Четыре часа воспринимаются четырехлетним ребенком так же, как воспринимается его двадцатичетырехлетней матерью отрезок времени в двенадцать часов. Сказать ребенку подождать конфету два часа – это то же самое, что попросить мать подождать чашку кофе четырнадцать часов.
Вероятно, что у такой разницы в субъективном восприятии времени может быть и чисто биологическое основание. «По мере старения, – пишет Джон Коэн, психолог из Манчестерского университета, – календарные годы постепенно съеживаются. Ретроспективно каждый год кажется более коротким, чем предыдущий, наверное, в результате замедления метаболических процессов». По сравнению с замедлением их собственных биологических ритмов этим людям будет казаться, будто движение мира ускорилось, даже если темп жизни мира не изменился.
Какими бы ни были причины, любое ускорение изменений, которое по существу является увеличением числа событий в единицу времени в канале чувственного опыта, пожилым человеком воспринимается весьма серьезно. По мере того как скорость изменений в обществе возрастает, все больше пожилых и старых людей начинают остро ощущать эту разницу. Они также становятся изгоями, удаляются в свой частный мир, обрывают множество контактов с быстро движущимся внешним миром и в конце концов до самой смерти ведут почти растительную жизнь. Мы ни за что не сможем решить психологические проблемы старых людей до тех пор, пока не найдем средства – за счет перемены биохимических процессов или переобучения – изменить их восприятие времени или создать для них анклавы, структурированные так, чтобы темп жизни в них был контролируемым или даже, возможно, использовать там календари со скользящей шкалой, приспособленные к субъективному восприятию времени пожилыми пациентами.
Необъяснимый по-другому конфликт – между поколениями, родителями и детьми, мужьями и женами – можно раскрыть, найдя разницу в реакциях на ускорение ритма жизни. То же самое верно в отношении столкновения культур.
Для каждой культуры характерен собственный ритм. Ф. М. Эсфандиари, иранский романист и эссеист, рассказывает о конфликте двух ритмов жизни, возникшем, когда немецкие инженеры перед Второй мировой войной помогали Ирану в строительстве железной дороги. Иранцы, как и вообще жители Ближнего Востока, отличаются более спокойным отношением к времени, чем американцы и западные европейцы. Поскольку иранские рабочие регулярно опаздывали на работу минут на десять, немцы, бывшие образцом пунктуальности и вечно куда-то спешившие, часто увольняли их. Иранским инженерам потребовалось много усилий для того, чтобы убедить немцев в том, что, по ближневосточным стандартам, рабочие-иранцы проявляли просто чудеса пунктуальности и если их будут увольнять и впредь, то скоро на строительстве будет некому трудиться, кроме детей и женщин.
Это безразличие к времени может вывести из себя тех, кто настроен на быстрый ритм жизни и постоянно глядит на часы. Так, итальянцы из Турина и Милана, промышленных городов Северной Италии, свысока смотрят на относительно неторопливых сицилийцев, жизнь которых протекает по неспешным стандартам земледельческих общин. Шведы из Стокгольма и Гётеборга точно так же относятся к лапландцам. Американцы насмешливо отзываются о мексиканцах, для которых «маньяна» – завтра – это достаточно скоро. В самих Соединенных Штатах северяне называют южан медлительными увальнями, а негры из среднего класса клянут негров из рабочего класса (именно южан) за то, что они трудятся согласно «времени цветного человека». Наоборот, по сравнению почти со всеми другими, белые американцы и канадцы считаются пронырливыми, проворными и удачливыми торопыгами.
Население обычно активно сопротивляется изменениям ритма жизни. Этим объясняется патологический антагонизм по отношению к тому, что многие называют «американизацией» Европы. Новые технологии, на чем зиждется супериндустриализм, были задуманы и воплощены в американских научных лабораториях, несут с собой неизбежное ускорение изменений в обществе и сопутствующее увеличение ритма личной жизни индивида. Хотя антиамериканские ораторы выбирают объектами своих колкостей компьютеры или кока-колу, на самом деле они возражают против вторжения в Европу чуждого ощущения времени. Америка как страна, находящаяся на острие развития супериндустриализма, являет собой образец нового, более быстрого и весьма нежелательного для многих темпа жизни.
Именно эта проблема стала символом гневного возмущения, которым было встречено в Париже открытие американских аптек. Для французов само их появление представляется возмутительным свидетельством коварного «культурного империализма» со стороны Соединенных Штатов. Американцам трудно понять такую сильную реакцию на абсолютно невинный фонтанчик содовой воды. Объясняется же эта реакция просто – в «Драгстор» испытывающий жажду француз торопливо глотает молочный шейк, а в открытом уличном бистро он может и час и два наслаждаться аперитивом. Следует отметить, что по мере распространения новых технологий за последние годы были навсегда закрыты 30 тысяч бистро, ставших жертвами, по мнению журнала «Тайм», «культуры ближнего порядка». (Вполне вероятно, что известная европейская антипатия к журналу «Тайм» сама по себе не является чисто политической, но обусловлена подсознательной коннотацией названия, которое своей краткостью и бездыханной невыразительностью экспортирует в Европу нечто худшее, чем американский образ жизни. Это название воплощает и экспортирует американский ритм жизни.)
Ожидаемая длительность
Чтобы понять, почему ускорение ритма жизни может на деле оказаться разрушительным и неудобным, важно разобраться в идее «ожидаемой длительности».
У человека восприятие времени тесно связано с его внутренними ритмами. Но реакции на течение времени обусловлены культурными факторами. Частью формирования этой обусловленности является выстраивание у ребенка череды ожиданий о длительности событий, процессов или отношений. Действительно, одна из самых важных форм знания, которое мы внушаем ребенку, есть информация о том, как долго длятся разные вещи. Это усваивается исподволь, неформально и часто подсознательно. Тем не менее без обширного набора социально адекватных ожиданий длительности ни один индивид не может успешно существовать.
С младенчества ребенок, например, узнает, что когда папа уходит утром на работу, то его не будет дома много часов. (Если папа возвращается раньше, то, значит, что-то случилось: привычная схема ломается, и ребенок это чувствует. Даже домашняя собака, приучившись к набору ожидаемых длительностей, осознает нарушение рутинного порядка.) Очень скоро ребенок учится тому, что время еды продолжается не одну минуту, но и не пять часов, что обычно это действо длится от пятнадцати минут до часа. Он выясняет, что поход в кино длится от двух до четырех часов, а визит к педиатру редко занимает более часа. Ребенок обучается тому, что учебный день в школе – шесть часов. Отношения с учителем продолжаются один год, а с бабушками и дедушками длятся намного дольше. Некоторые отношения могут длиться и всю жизнь. Для поведения взрослых людей во всех их действиях, от отправления письма до любовного акта, всегда характерно определенное, высказанное или невысказанное предположение длительности этих действий.
Именно эти ожидаемые длительности, разнообразные в разных обществах, но рано усваиваемые и глубоко укорененные, ломаются в первую очередь при изменениях ритма жизни.
Этим можно объяснить критически важную разницу между теми, кто остро страдает от ускорения ритма жизни, и теми, кто скорее наслаждается им. Если индивид не откорректировал свои ожидаемые длительности с учетом непрерывного ускорения, то, вероятно, он будет предполагать, что две ситуации, сходные во всех прочих отношениях, будут также сходными по длительности. Однако ускоряющий толчок означает, что по крайней мере ситуации определенных типов будут сжиматься во времени.
Индивид, сумевший внутренне принять принцип ускорения, понимая, что в окружающем его мире все вещи начали двигаться быстрее, производит автоматическую подсознательную коррекцию, компенсируя сжатие времени. Предвосхищение того, что ситуации будут длиться не столь долго, как раньше, помогает человеку не быть застигнутым врасплох и не пострадать в сравнении с теми, у кого ожидаемые длительности застыли, с теми, кто не предвосхищает частое укорочение длительности ситуаций.
В общем, ритм жизни следует рассматривать как нечто большее, чем расхожую фразу, источник шуток, вздохов, жалоб или этнически окрашенных насмешек. Это критически важная психологическая переменная, и ее ни в коем случае нельзя игнорировать. В прошлые эпохи, когда изменения в окружающем мире происходили медленно, люди могли (и действительно это делали) оставаться в неведении об этой переменной. Ритм жизни мог мало изменяться в течение всей жизни человека. Однако ускоряющий толчок решительно и резко ломает это положение вещей. Именно за счет ускорения ритма жизни индивид ощущает в своей жизни повышение скорости масштабных научных, технологических и социальных перемен. По большей части в своем поведении человек руководствуется тягой или отвращением к ритму жизни, навязанному индивиду обществом или группой, членом которой он является. Невозможность понять и усвоить этот принцип обусловливает опасность неспособности педагогов и психологов подготовить людей к адекватному исполнению ролей в супериндустриальном обществе.
Концепция быстротечности
Большая часть наших теоретических рассуждений по поводу социальных и психологических изменений рисует верное изображение человека в относительно статичных обществах, но дает совершенно искаженную картину современного человека. Эти рассуждения упускают важнейшую разницу между людьми прошлого или настоящего и людьми будущего. Ее точно выражает слово «быстротечность».
Концепция быстротечности предоставляет нам давно недостающее звено между социологическими теориями изменений и психологией индивидуальных человеческих существ. Объединяя их в единое целое, эта концепция позволяет нам иным способом проанализировать проблемы быстрых изменений. И, как мы увидим, она дает нам метод – грубый, но мощный – логически обоснованной количественной оценки скорости потока ситуаций.
Быстротечность есть новая «временность» повседневной жизни. Она проявляется в настроении, в ощущении недолговечности. Философы и богословы, естественно, всегда понимали, что человек эфемерен. В этом смысле быстротечность всегда была частью жизни. Но сегодня ощущение недолговечности, неустойчивости – более острое и глубокое. Так, герой пьесы Эдварда Олби «Что случилось в зоопарке», Джерри, отзывается о себе как о чем-то «постоянно преходящем», а критик Гарольд Клэрман в рецензии на пьесу Олби пишет: «Никто из нас не занимает надежное жилище – ни у кого нет истинного дома. Мы все – одинаковые люди во всех меблированных комнатах, отчаянно и лихорадочно пытающиеся наладить удовлетворяющие душу связи с соседями». Мы все на самом деле являемся гражданами эпохи быстротечности.
Однако не только наши отношения с людьми становятся более хрупкими или неустойчивыми. Если мы разделим на категории чувственный опыт человека в восприятии окружающего его мира, то сумеем определить разные классы отношений. Так, помимо связей с другими людьми, мы можем говорить об индивидуальных отношениях к вещам. Нам надо выделить отношения человека с определенными местами пребывания. Мы должны проанализировать его связи с его институциональным или организационным окружением. Мы даже можем изучить его отношение к определенным идеям или к информационным потокам, циркулирующим в обществе.
Эти пять отношений, плюс отношение к времени, формируют ткань социального опыта. Именно поэтому, как мы уже предположили выше, вещи, места, люди, организации и идеи являются базисными компонентами всех ситуаций. Именно различительные отношения человека к каждому из этих компонентов структурируют ситуацию.
Это те отношения, кототрые, когда в обществе происходит ускорение, телескопически укорачиваются во времени. Отношения, которые прежде длились в течение больших отрезков времени, имеют теперь меньшую ожидаемую продолжительность жизни. Это укорочение, сжатие служит основой возникновения почти осязаемого чувства того, что мы живем, лишившись корней, погрузившись в неопределенность, на зыбкой почве текучих дюн.
На самом деле быстротечность можно совершенно специфически определить в понятиях скорости, с которой опрокидываются наши отношения. Хотя может быть затруднительно доказать, что ситуациям, как таковым, требуется меньше времени, чтобы протечь сквозь наш опыт, нам все же может удаться расщепить их на компоненты и измерить скорость, с какой эти компоненты входят в нашу жизнь и исчезают из нее, то есть, иными словами, измерить длительность отношений.
Мы лучше поймем концепцию быстротечности, если проанализируем ее в понятиях идеи «кругооборота». Например, в продуктовом магазине молоко «обращается» быстрее, чем консервированная спаржа. Молоко чаще продается и заменяется. «Проход» молока совершается скорее. Опытный бизнесмен знает время оборота каждого товара, которым он торгует, а также общую скорость оборота для всего магазина в целом. Бизнесмен понимает, что коэффициент оборачиваемости является ключевым индикатором стабильного состояния его предприятия.
По аналогии мы можем считать быстротечность скоростью оборачиваемости различных видов отношений в индивидуальной жизни каждого человека. Более того, каждого из нас можно охарактеризовать в понятиях этой скорости, этого коэффициента оборачиваемости. Некоторым жизнь представляется более медленной оборачиваемостью, чем другим. Люди прошлого и настоящего ведут жизнь, отличающуюся «низкой быстротечностью» – их отношения отличаются долговечностью. Но люди будущего существуют в условиях «высокой быстротечности» – в условиях, в которых длительность отношений сильно усечена, а «оборачиваемость» отношений стремительна. В жизни таких людей вещи, места, идеи и организационные структуры «используются» гораздо быстрее.
Это оказывает огромное воздействие на способ, каким эти люди переживают реальность, на их ощущение вовлеченности и на их способность или неспособность справляться с ситуациями. Именно эта быстрая «проходимость» в соединении с нарастающей новизной и сложностью окружающего мира заставляет напрягать все резервы к адаптации и создает опасность шока будущего.
Если мы сможем показать, что наши отношения с внешним миром становятся все более быстротечными, то получим мощное обоснование допущения о том, что поток ситуаций набирает скорость. Кроме того, у нас есть действенный новый способ посмотреть на себя и других. Итак, давайте исследуем жизнь в обществе с высокой быстротечностью.
Часть вторая
Быстротечность
Глава 4
Вещи: общество одноразовых вещей
Барби, двадцатидюймовая пластиковая девочка-подросток, стала самой известной и популярной куклой в истории. С момента появления в 1959 году численность кукол Барби в мире выросла до двенадцати миллионов – это больше населения Лос-Анджелеса, Лондона или Парижа. Девочки обожают Барби за то, что она весьма реалистична, а к тому же ей можно менять наряды. Фирма «Мэттел», изготовитель Барби, продает для этой куклы целый гардероб, включая одежду для повседневной жизни, для званых вечеров, а также купальники и лыжные костюмы.
Недавно «Мэттел» объявила о производстве новой, улучшенной куклы Барби. У новой версии более стройная фигура, «настоящие» ресницы, а кроме того, кукла сгибается и поворачивается в поясе, что делает ее еще более человекоподобной. Фирма объявила, что впервые любая юная леди, желающая приобрести новую Барби, получит скидку, если сдаст в магазин старую куклу.
То, о чем «Мэттел» умолчала, заключается в том, что, сдавая старую куклу в обмен на технологически усовершенствованную, сегодняшняя девочка, гражданка завтрашнего супериндустриального мира, усвоит фундаментальный урок о новом обществе: отношения человека с вещами будут становиться все более временными.
Океан рукотворных физических предметов, окружающих нас, расположен посреди еще большего океана естественных, природных предметов. Но все более значимую роль в жизни индивида начинает играть искусственная, произведенная технологиями окружающая среда. Текстура пластика или бетона, радужное сияние автомобилей в свете уличных фонарей, потрясающий вид городских пейзажей из иллюминатора реактивного лайнера – все это глубинная реальность бытия современного человека. Рукотворные вещи вторгаются в жизнь человека и расцвечивают его сознание. Множество таких вещей растет взрывоподобно, как в абсолютных величинах, так и относительно природной внешней среды. Все это будет в еще большей степени, чем сегодня, верно для супериндустриального общества.
Идеалисты склонны принижать важность «вещей». Тем не менее они очень важны, и не только благодаря своей утилитарной, функциональной ценности, но и психологическому воздействию. Мы вступаем с вещами в отношения. Вещи влияют на наше восприятие непрерывности или дискретности мира. Вещи играют важную роль в структуре ситуаций, а укорочение длительности наших отношений с ними ускоряет ритм жизни.
Наше отношение к вещам есть отражение суждения о базовых ценностях. Ничто не воспринимается с большей трогательностью, чем разница между новым поколением девочек, радостно отдающих своих старых Барби в обмен на улучшенные модели, и теми девочками, которые, как их мамы и бабушки, любовно прижимают к себе старых кукол и играют с ними до тех пор, пока они не разваливаются от ветхости. В этой разнице заключается контраст между прошлым и будущим, между обществами, зиждущимися на постоянстве, и новым, быстро формирующимся обществом, основанным на быстротечности.
Бумажное свадебное платье
Отношения человека к вещам становятся все более временными, преходящими, и это можно проиллюстрировать исследованием культуры, в какой воспитываются девочки, обменивающие старых кукол на новые. Этот ребенок очень скоро узнает, что куклы Барби – не единственные материальные предметы, которые с калейдоскопической быстротой сменяют друг друга в ее юной жизни. Пеленки, слюнявчики, бумажные салфетки «Клинекс», одноразовые полотенца, одноразовые бутылки из-под газированной воды – все это часто используется и безжалостно уничтожается. Пончики продаются в жестяных формочках, которые выкидываются после однократного использования. Шпинат пакуют в пластиковые мешочки, их можно положить в кипящую воду, сварить содержимое, не вынимая из пакета, а затем выбросить пакет в мусорное ведро. Готовые замороженные блюда готовят, а часто и подают в одноразовых лотках. Ее дом представляет собой большую перерабатывающую машину, сквозь которую текут – со все нарастающей скоростью – входящие и выходящие из нее предметы. С самого рождения эта девочка прочно включается в культуру одноразовых вещей.
Идея использовать изделие один раз или пользоваться им в течение короткого времени, а затем заменять на новое противоречит глубинной структуре обществ или индивидов, проникнутых наследием бедности. Недавно Уриэль Рон, маркетолог французского рекламного агентства Publicis, сказал мне: «Французская домохозяйка не привыкла к одноразовым изделиям. Она любит хранить вещи, даже старые, и предпочитает их не выбрасывать. Мы работали на одну компанию, которая хотела поставить на рынок пластиковые одноразовые шторы. Мы провели маркетинговое исследование и обнаружили, что неприятие этого нового изделия весьма велико». Надо, однако, заметить, что это неприятие становится слабее во всем промышленно развитом мире.
Так, писатель Эдвард Мейз отмечал, что многие американцы, посещавшие Швецию в начале пятидесятых, поражались чистоте шведских городов. «Мы испытывали почти благоговение перед тем фактом, что на обочинах дорог не было бутылок из-под пива и газировки, как это, к нашему стыду, мы видим в Америке. Но наступили шестидесятые и – извольте видеть! – бутылки стали усеивать и обочины шведских дорог. Что произошло? Шведы превратились в покупающее, потребляющее и выбрасывающее общество, следуя американскому примеру». В сегодняшней Японии одноразовые салфетки стали настолько распространенными, что матерчатые носовые платки считаются теперь старомодными, даже негигиеничными. В Англии за шесть пенсов можно купить зубную щетку «Дентаматик» – одноразовое изделие с заранее нанесенной на него зубной пастой. И даже во Франции стали весьма популярными одноразовые зажигалки. От картонных молочных пакетов до ракет, выводящих на орбиту спутники, изделия, созданные для кратковременного или одноразового использования, становятся все более многочисленными и важными для нашего образа жизни.
Недавнее появление в продаже материи из натуральной или искусственной бумаги продвинуло тренд к одноразовости еще на шаг вперед. Фешенебельные бутики и магазины рабочей одежды начали открывать целые отделы, заполненные ярко окрашенными и изобретательно оформленными бумажными предметами одежды. Модные магазины предлагают умопомрачительно роскошные платья, пальто, пижамы и даже свадебные платья, сделанные из бумаги. Невеста, изображенная в одном из таких платьев, несет длинный белый шлейф бумажных кружев, из которых после церемонии, как гласит подпись под фотографией, получатся «великолепные кухонные занавески».
Бумажная одежда особенно хорошо подходит для детей. Один специалист по моде пишет: «Скоро маленькие девочки смогут ронять на платьица мороженое, рисовать на них картинки и вырезать узоры под благосклонную улыбку матери, радующейся их творчеству». Для взрослых же, склонных к творческому самовыражению, в продаже есть одежда типа «раскрась сам». К одежде прилагаются кисточки. Стоит такой набор два доллара.
Естественно, этот бумажный бум в первую очередь обусловлен дешевизной. Так, например, в одном универмаге рекламируется простое А-образное платье, о котором сказано, что оно сделано из «весьма прочной смеси целлюлозного волокна и нейлона». Платье стоит один доллар двадцать девять центов, и покупателю, несомненно, едва ли не дешевле выбросить новую вещь, чем нести ее в химчистку. Видимо, скоро так и будет. Но у распространения одноразовой культуры есть, помимо экономических, и важные психологические последствия.
Для того чтобы соответствовать природе одноразовых изделий, мы проникаемся одноразовой ментальностью. Она производит набор радикально измененных ценностей относительно собственности. Распространение в обществе одноразовых заменяемых вещей означает также уменьшение длительности отношений человека с вещью. Вместо долгой связи с какой-то одной вещью мы за короткий период времени вступаем в отношения с последовательностью однотипных вещей, сменяющих друг друга.
Пропавший супермаркет
Тенденция к быстротечности и текучести проявляется даже в архитектуре – именно в той части физической окружающей среды, которая в прошлом по большей части создавала у человека ощущение долговечности и стабильности. Девочка, обменивающая куклу Барби, не может не замечать также и мимолетность зданий и других окружающих ее монументальных предметов. Мы стираем ориентиры ландшафтов, сносим с лица земли целые улицы и города, а на их месте возводим новые, причем с головокружительной быстротой.
«Средний срок службы жилищ неуклонно сокращается, – пишет Э. Картер из Стэнфордского исследовательского института, – от эпохи практически вечных пещер до ста лет для домов, построенных в Америке в колониальный период, и до сорока лет для современных зданий». Английский писатель Майкл Вуд по этому поводу замечает, что американец «… создал свой мир вчера и точно знает, как он хрупок и переменчив. Здания в Нью-Йорке исчезают буквально за одну ночь, а лицо города может полностью измениться за год».
Романист Луис Окинклосс возмущается, что «ужас жизни в Нью-Йорке – это ужас проживания в городе без истории… Все восемь моих прадедов и прабабок жили в этом городе… и из всех домов, где они жили… до сих пор стоит только один. Вот это я и имею в виду, говоря об исчезающем прошлом». Менее родовитые ньюйоркцы, предки которых прибыли в Америку не так давно из пригородов Пуэрто-Рико, деревень Восточной Европы или с плантаций Юга, наверное, выражают свои чувства иначе. Но «исчезающее прошлое» – это реальный феномен, и, вероятно, он будет становиться все более распространенным, захватывая даже многие дышащие седой историей города Европы.
