Трагический эксперимент. Книга 7 бесплатное чтение
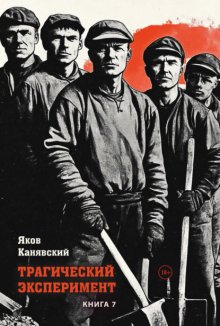
Народ, забывший своё прошлое,
утратил своё будущее.
Сэр Уинстон Черчилль
© Канявский Яков, 2025
© Издательство «Четыре», 2025
Судьба страны
Глава 1
Индустриализация
Чтобы начать с нуля, до него
ещё нужно долго ползти вверх.
Михаил Жванецкий
С 29 марта по 5 апреля 1920 года в Москве прошёл IX съезд РКП (б), ставший апогеем ленинского учёта и распределения – прыжка в социализм. Именно это собрание нарождающейся номенклатуры – рекордное по сравнению с предыдущими по количеству участников – приняло решения, вылившиеся в усиление дефицита, окончательное разорение народного хозяйства, доставшегося большевикам в наследство от царских властей, а затем и повальный голод в Поволжье, на Украине, в Казахстане и Западной Сибири. Одержимые властью, которую давал контроль над продовольствием, коммунисты называли торговцев жуликами, да и к крестьянам – мелким собственникам – тоже не испытывали тёплых чувств. Красный тоталитаризм расцвёл во всём своём убожестве, и различия с тем, что большевики устроили в 1930‑е, были косметическими. Стрелки часов вертелись в обратном направлении: в итоге вышло нечто примитивное, хотя и невиданное.
Руководители страны отлично понимали, какие риски содержит их экономическая политика. В докладе съезду Ленин выразил удовлетворение тем, что конец Гражданской войне близок, тем не менее не видел скорого конца лишениям: «…Наши шаги к миру мы должны сопровождать напряжением всей нашей военной готовности, безусловно не разоружая нашей армии». Глава государства поставил задачу – начать хозяйственное строительство: «Тут нужна железная дисциплина, железный строй… Этот переход требует многих жертв, которых и без того много понесла страна». Далее он уточнил, что имеется в виду начало экономики, работающей согласно долговременному замыслу: «Мы должны помнить, что этот план рассчитан на много лет, мы не обещаем сразу избавить страну от голода».
Сам Ильич не собирался затянуть пояс, и благодаря закрытому от глаз трудящихся спецпайку в том году питался не только ржаным хлебом и манкой, но и мясом, яйцами, сыром, салом, сливочным маслом, лакомился икрой, запивая импортными чаем и кофе.
При этом сложно истолковать иначе как признание в абсолютизме следующие слова, произнесённые им на съезде – скромно, без имён: «…Советский социалистический демократизм единоначалию и диктатуре нисколько не противоречит. Волю класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один более сделает и часто более необходим».
Троцкий гремел с трибуны о том, что надо расширить применение принудительных работ, прикрепить пролетариев к заводам – как на мануфактурах Петра I, увеличить число трудовых армий, что смахивало на аракчеевщину: «…Принуждение играет и будет играть ещё в течение значительного исторического периода большую роль. По общему правилу человек стремится уклониться от труда. Можно сказать, что человек есть довольно ленивое животное. <…> Рабочая масса не может быть бродячей Русью».
Как и Ленину, человеческое существование подданных не виделось Льву Давыдовичу ближайшей задачей: «…Надо обеспечить возможность жить стране хотя бы в нищенских условиях, сохранить города (откуда народ бежал за границу, к белым или в сёла). <…> Наш хозяйственный план, при максимуме напряжения трудящихся, даст не кисельные берега и молочные реки <…> при самых больших усилиях в ближайший период, мы направляем нашу работу на то, чтобы подготовить условия для производства средств производства. И лишь после того, как в минимальных размерах мы будем иметь средства производства, мы перейдём к производству средств потребления и, стало быть, предметы личного потребления, непосредственно осязательный для самих масс плод работы, получатся в стадии последнего звена этой хозяйственной цепи».
Чтобы управлять теми, кто гнул спину из-под палки, требовалось всё больше сотрудников государственного аппарата, о разрастании которого наркомвоенмор заявил с предельной откровенностью: «…бюрократизм и волокита заложены в самой структуре наших учреждений».
Тем не менее Троцкий на съезде с гордостью вещал о движении к социализму, считая продовольственные затруднения оправданными издержками: «Мы убили вольный рынок, эксплуатацию, конкуренцию, спекуляцию. <…>
Во время моего пребывания [на Урале] многие указывали на такой факт: в одной губернии люди едят овёс, а в другой, соседней, лошади едят пшеницу, и губпродком не имеет права перебросить пшеницу из одной губернии в другую…»
Впоследствии Лев Давыдович вспоминал о суровых буднях военного коммунизма, когда он вселился в покои самодержца: «Тяжёлое московское варварство глядело из бреши [царь-]колокола и из жерла [царь-]пушки. <…> Красной кетовой икры было в изобилии… Этой неизменной икрой окрашены не в моей только памяти первые годы революции». В кремлёвских продовольственных ордерах отмечается, что в ноябре 1920 года Троцкий не брезговал орехами, мёдом и монпансье.
Рабочие же и крестьяне прозябали не впустую – именно на IX съезде наркомвоенмор предложил отказаться от кадровой армии и перейти к территориально-милиционной системе, поставив под ружьё почти без отрыва от производства едва ли не весь народ: «…Если милиционная форма организации обороны рассматривается в развёрнутом виде, со всеми необходимыми вспомогательными учреждениями, со школьной и допризывной подготовкой с широкой организацией всех видов спорта в стране на государственный счёт, с созданием необходимых ристалищ, стрельбищ, тиров – то, несомненно, что развитая милиция, хорошо организованная, будет дороже уже по одному тому, что она охватывает несравненно более широкие массы», чем армия кадровая.
Далее он расписал грядущие тяготы: «…Это – армия дорогая. Она предполагает <…> широкую организацию на местах, она предполагает высокого типа кадры, она предполагает колоссальные запасы орудий и снаряжения. Это всё предполагает колоссальные расходы. <…> Если мы говорим о милитаризации труда, то мы ставим перед собой и другую задачу – индустриализацию нашей армии…» Подготовленная Троцким соответствующая резолюция была принята без прений и единогласно, то есть её поддержали и Ленин, и Сталин, являвшийся одним из делегатов с решающим голосом.
Постановление съезда по отчёту ЦК должно было обладать едва ли не всемирно-историческим значением: «Основным условием хозяйственного возрождения страны является неуклонное проведение единого хозяйственного плана, рассчитанного на ближайшую историческую эпоху».
Далее речь шла о способах воплощения этого великого замысла – «о мобилизации индустриального пролетариата, трудовой повинности (новой барщине), милитаризации хозяйства и применении воинских частей для хозяйственных нужд»; о сочетании пропаганды на народ «с репрессиями по отношению к заведомым бездельникам, паразитам, дезорганизаторам»; о «применении системы уроков, при невыполнении которых понижается паёк» в трудовых армиях; а также XV пункт, наиболее ярко показывавший торжество победившего пролетариата: «Ввиду того, что значительная часть рабочих, в поисках лучших условий продовольствия самовольно покидает предприятия, переезжает с места на место, съезд одну из насущных задач видит в планомерной суровой борьбе с трудовым дезертирством, в частности, путём публикования штрафных дезертирских списков, создания из дезертиров штрафных рабочих команд и, наконец, заключения их в концентрационный лагерь».
Но по-настоящему чудовищным стал XIII пункт – «Продовольственные задачи», что, однако, на первый взгляд не бросается в глаза: «1. Собрать путём высшего напряжения сил продовольственный фонд в несколько сот миллионов пудов. <…>
2. <…> Заготовка сырья должна основываться на системе государственной развёрстки и обязательной сдаче сырья согласно развёрстке. Должна быть применяема система расплаты за сдаваемое сырьё в известном, установленном каждый раз особо, размере продуктами и полуфабрикатами…» То есть следовало вернуться к бартеру – примерно в VIII век нашей эры, во времена родоплеменных отношений.
В действительности товарообмен уже тогда был прозван крестьянами товарообманом, поскольку в условиях, когда заводы вставали, продотряды отдавали за изымаемое зерно в лучшем случае квитанции, на которые нельзя было получить почти или вообще ничего. А забирали по развёрстке – определённой властями по своим потребностям, а не по возможностям села, что на практике вылилось в изъятие как минимум всего найденного товарного хлеба, а иногда и зерна посевного фонда.
У селян, весной 1920 года узнавших о решениях съезда, окончательно пропал стимул к производству больше, чем было необходимо для простого самообеспечения. Именно сокращение посевных площадей стало основной причиной катастрофы 1921–1923 годов. Да и коммунистический дефицит, острейшая нехватка промышленных товаров, топлива, а также даже уже и в селе многих видов продовольствия не способствовала успешной пахоте, посеву, сбору и хранению урожая.
То есть Ленин в 1920 году не желал массового умерщвления крестьян голодом, но принимал в расчёт возможность такого развития событий. Ведь приведённые выше его высказывания на IX съезде показывают, что он знал – положение с питанием в России стало удручающим. Да и как иначе? Ведь сам Ильич ещё весной 1918 года в тезисах по текущему моменту вольно или невольно заложил основы соответствующей политики на более долгий срок:
«1) Военный комиссариат превратить в Военно-продовольственный комиссариат – т. е. сосредоточить 9/10 работы Военного комиссариата на переделке армии для войны за хлеб и на ведении такой войны – на 3 месяца: июнь – август.
2) Объявить военное положение во всей стране на то же время.
3) Мобилизовать армию, выделив здоровые её части, и призвать 19‑летних, хотя бы в некоторых областях, для систематических военных действий по завоеванию, отвоеванию, сбору и свозу хлеба и топлива.
4) Ввести расстрел за недисциплину».
Да и принудительный труд вернулся вскоре после прихода большевиков к власти, на IX съезде были приняты решения лишь о расширении его масштабов.
Весной 1918 года Ильич на заседании президиума ВСНХ предлагал ввести в России на предприятиях изощрённый менеджмент – тейлоризм (который он всего за четыре года до этого заклеймил как «порабощение человека машиной»), приспособить его к условиям, когда рабочих плохо кормят, а также творчески дополнить иным образом: «Что же касается карательных мер за несоблюдение трудовой дисциплины, то они должны быть строже. Необходима кара вплоть до тюремного заключения».
Недаром это выступление Ленина впервые было опубликовано в 1940 году, когда в СССР были введены похожие законы, одним из которых стал указ «Об уголовной ответственности за мелкие кражи на производстве и за хулиганство». Как показывают документы Российского государственного военного архива, за несколько месяцев до IX съезда РКП (б) командующий Южным фронтом Александр Егоров издал похожее распоряжение, подписанное также и членом военного совета этого фронта Сталиным, о мерах по борьбе с воровством и порчей оборудования вагонов, осуществляющих воинские перевозки: «Все лица военного ведомства, а равно и агенты наркомата путей сообщения и служащие железнодорожной милиции за неисполнение и нарушение означенной инструкции, а также уличённые в хищении или порче вещей и других воинских приспособлений, подлежат ответственности вплоть до высшей меры наказания…» Очевидно, что этот карательный документ стал для Сталина определённым опытом: среди прочего, он расстрелял своего бывшего сослуживца Егорова двадцать лет спустя, в его профессиональный праздник – 23 февраля 1939 года.
В пошаговой милитаризации труда Сталин принял непосредственное участие ещё до IX съезда, причём в ключевом для большевиков регионе – Донбассе, который тогда называли «всероссийской кочегаркой». В частности, 21 января 1920 года Совнарком РСФСР принял постановление о создании одной из трудовых армий:
«1. В районе Юго-Западного фронта (Украина) создаётся Укрсовтрударм.
2. Задачи Укрсовтрударма – максимальное усиление добычи продовольствия, топлива, сырья, установление трудовой дисциплины в предприятиях, снабжение предприятий рабочей силой.
3. В распоряжение Укрсовтрударма передаются воинские части, резервные или из запасных частей фронта (смотря по условиям), в размере не менее армии, каковые части используются в качестве рабочей силы или в качестве орудия принуждения, смотря по обстановке. <…>
5. Во главе Укрсовтрударма назначается особоуполномоченный Совета Обороны на правах председателя, член Совета Обороны, тов. Сталин».
На начальном этапе своего существования Укрсовтрударм был хозяйственным центром УССР и органом милитаризации экономики с широкими полномочиями. В дальнейшем его деятельность ограничивалась преимущественно Украинской трудовой армией, где служило свыше 20 тысяч бойцов, вооружённых не только винтовками, но также ломами, кирками и лопатами.
Через неделю Сталин издал распоряжение о снабжении донецких рабочих продовольствием, где писал, сколько фунтов муки выдавать забойщикам, сколько – подземным рабочим, сколько – пролетариям, трудящимся на поверхности, как распределять сахар, сало, селёдку, овощи, спички, мыло и махорку… К таблице выдачи продуктов сделано важное примечание: «В деле распределения жиров и мяса в первую очередь удовлетворять забойщиков». Также в этом документе слышны отголоски ревностной межведомственной борьбы разных советских учреждений:
«11. Единственным распределительным аппаратом продовольственных продуктов и предметом первой необходимости между рабочими и членами их семейств в Донецком бассейне должен быть Союздонбассейн.
12. В отношении распределения Союздонбассейн подчинить всем указаниям и распоряжениям Продонбасса.
13. На все продовольственные продукты и предметы первой необходимости Опродкомюгзапу установить отпускные твёрдые цены».
Ну и, конечно, не забывал Иосиф Виссарионович об упреждающем устрашении: «Примечание: Отпуск рабочим и членам их семейств продуктов и предметов первой необходимости по ценам выше твёрдых будет караться по всей строгости законов военного времени». Не лишним будет упомянуть, что под этим и предыдущим документом стоит также подпись члена совета этой трудовой армии Власа Чубаря, которого Сталин расстрелял в 1939 году.
В годы военного коммунизма пролетарии становились в прямом смысле слова солдатами революции даже в отношении внешнего вида. В марте 1920 года Сталин издал постановление «О снабжении рабочих Донбасса обмундированием»: «1. Из запасов обмундирования, имеющихся в распоряжении Чусоснабарма, передать для рабочих Донбасса: обуви 7000 п., шинелей 8000 п., рубах и гимнастёрок 1000 п., шаровар 3000 п., рубах нательных 2000 п., кальсон 2000 п., лаптей 35000 пар.
2. Поручить Чусоснабарму дать для рабочих Донбасса в течение трёх месяцев: в марте 20000 пар, в апреле 30000 пар, в мае 30000 пар комплектов обмундирования, включая обувь.
3. Находящиеся в Луганске и Таганроге мастерские Воензага приспособить преимущественно для обслуживания Донбасса и предложить Чусоснабарму в течение 10 дней выяснить и доложить, какое количество обмундирования и обуви может быть изготовляемо в названных мастерских.
4. Все наряды на мануфактуру и др. материалы для пошивки обмундирования, адресованные в адрес Донбасса, передать в распоряжение Чусоснабарма, за исключением того, что может пойти на удовлетворение нужд семейств рабочих Донбасса.
5. Потребовать из центра вне всякой очереди наряд для Донбасса на необходимые материалы, согласно прилагаемой ведомости.
6. Предложить Главтекстилю предписать Орловскому губтекстилю не задерживать отпуска верёвки для изготовления чуни.
7. Аппарат Главугля по распределению обмундирования построить по типу военному и ввести туда представителей Чусоснабарма».
Пространное цитирование этих материалов необходимо, чтобы показать деспотизм на бытовом уровне – лидеры огромной страны не гнушались заглядывать в рот разным «категориям» подданных, определять их наряды. Вспомним, что Сталин в 1920 году являлся, помимо прочего, членом Политбюро, Реввоенсовета Республики, а также правительства, где возглавлял наркомнац.
Так или иначе, как показывает исследование киевского историка Ивана Кудинова, весной Сталину удалось добиться небольшого роста добычи угля.
При этом документы Центрального государственного архива общественных объединений Украины показывают, что положение в подчинённой Джугашвили трудармии было далеко от образцового. Например, 14 июля 1920 года комиссар 2‑й бригады этого воинства послал в информационный отдел политотдела Юго-западного фронта трёхдневную политсводку, где коснулся морального состояния строителей коммунизма: «III. Боеспособность. 1‑й отдельный батальон вовсе не имеет оружия. 9 полк в периоде формирования и многие не обучены строю. Боевой дух: часто поступают многочисленные просьбы для отправки на фронт (вероятно, в надежде, что там лучше кормят или можно разжиться едой самому). В отдельном батальоне боевой дух слабый. В остальных частях удовлетворительно. IV: Политсознание: …К вопросу организации армии труда в 1 отдельном батальоне трудармейцы полагают, что они дома сделали бы больше пользы… VI: Комсостав: …Поведение среднее, были случаи дезертирства, в 1 отд[ельном] батальоне бежал взводный командир и в 9 полку то же самое. VII. Политсостав: …Был случай, в 8 полку за пьянство исключён из партии и предан тов[арищескому] суду тов. Ермаков… VIII. Поведение трудармейцев. Был случай в 9 полку – 6 трудармейцев отказывались идти на работу, но приняты меры, и попытка была пресечена. Самовольные отлучки наблюдаются в 9 полку среди уроженцев Харьковской губернии».
Не удивительно, что солдаты хотели до хаты или же в самоволку – вероятно, в поисках пропитания, ибо Х пункт этого документа описывает полуголодное прозябание невольных борцов за светлое будущее: «Недочёты орудиями производства ощущаются в больших размерах, требуется 5 кузнец (так в тексте, вероятно, «кузен»), 30 кипятильников, 18 кухонь, 150 комплектов упряжи, 450 лошадей… В 9 полку нет санитарных повозок. В отношении обмундирования дело обстоит очень плохо, в особенности в 9 п[олку] и 7 полку. Нам отпускают лапти, но у нас есть эскадрон кавалерии, котор[ую] в лапти обувать нельзя.
…[в] 9 полку многим красноармейцам не выдано деньги по аттестатам за 2 месяца.
Продовольствие плохое, приготовляют один обед из круп, мясо дают очень редко. Но 9 полк получил мясо, совершенно не пригодное для употребления, и пришлось вернуть обратно. 1 отд[ельный] батальон работает на паровозостроительном заводе, где раньше получали хлеб, но теперь выдачу почему-то прекратили, и среди трудармейцев идёт ропот по этому вопросу».
От подобного процветания распространялись заразы, ведь и марксистское совместное потребление прочно вошло в быт: «Гигиенические условия очень скверные в 9 полку за отсутствием котёл[ков], т. к. приходится есть из баков на 10 человек и больше. А также отсутст[вует] постельная принадлежность, и трудармейцы спят на голых нарах. Убор[ные] не в порядке точно также и в 1 отдельном батальоне. Заболеваемость в [боль]ших размерах выражается в 9 полку – ежедневно отправляются в околодок [неразборчиво. – «до»?] 50 человек, и в госпиталь по 2–3 чел. Род заболеваний в отдельном батальоне – много случаев дизентерии… Недостаток медперсонала…» Отметим, что служба доводила до ручки призывников – молодых здоровых мужчин.
Читаем далее: «Жилищные условия слишком плохи в 9 полку и 1 отдельном батальоне по случаю тесного расквартирования и отсутствия постельной принадлежности. За отсутствием белья в 9 полку в баню ходят редко».
Похожую картину дают сообщения о состоянии всей сталинской Украинской трудовой армии, в частности, сводка её политотдела за № 10 от 6 июня 1920 года: «1 бригада. <…> Последние пополнение в количестве 331 человека совершенно не обмундированы… В бригаде острый недостаток в обуви и в обмундировании. 2 бригада. Снабжение продовольствием плохое. Острый недостаток обуви и обмундирования». Аналогичная сводка за 29 июня – 2 июля описывает трудармейцев Донбасса оборванцами и голодранцами: «2 бригада. <…> Снабжения продовольствием плохое.
Хлеб получают 1½ фунта, обед часто непригодный к употреблению. Острый недостаток обмундирования. У большинства обмундирование в негодном состоянии, много босых». Благо, что стояло лето.
Политсводка по Уксовтрудармии № 11 от 10 июля 1920 года: «Снабжение неудовлетворительное. <…> В связи с отсутствием обмундирования и неразрешения отпусков участились случаи дезертирства».
Сильно ли отличаются эти условия жизни от будней зэков в ГУЛАГе 1930‑х годов? Важно то, что даже при таком положении мобилизованных эти документы не отмечают какой-то массовой политической нелояльности или крамолы солдат трудового фронта.
Однако поражение в войне с Польшей, всё усиливающаяся продразвёрстка и перебои с едой и снабжением в конце концов заставили население предъявить счёт властям. Из-за массовых крестьянских восстаний – Антоновского, Западносибирского, десятков украинских атаманов, Кронштадтского порыва к свободе – большевики вынуждены были отказаться от военного коммунизма и ввести НЭП – полурынок. Тем не менее для миллионов земледельцев эта мера фатально запоздала – начался страшный голод 1921–1922 годов.
При этом у тех селян, кто погибал или болел от недоедания, уже не было сил на сопротивление большевикам. А остальная страна их терпела, поскольку начала потихоньку штопать одежду, латать обувь, лечиться от сыпняка и цинги, отъедаться, ремонтировать обветшалые коммуналки и хаты.
Но и НЭП представлял собой народное хозяйство, насквозь прошитое госслужащими, что позволяло в любой момент вернуться к сверхмилитаризации. Между основными субъектами товарно-денежных отношений большевики «вставили» красных чинуш, не только проверявших, но и утверждавших каждую важную сделку или договор. Не случайно именно к этому периоду относится бесчисленная сатира против бюрократизации – от «Прозаседавшихся» Маяковского (1922) до «Волокиты» Зощенко (1927). Тоталитаризм не стал обычной диктатурой, то есть не ушёл, хотя и немного сдал позиции. Левиафан, утратив часть управления, оставил над экономикой полный контроль, который можно было легко превратить обратно в прямое управление в ручном режиме, что власть и сделала в 1928–1932 годах.
Таким образом, 1917–1921 годы стали для Сталина не только временем ползучего движения к власти, но и дали ему опыт, который он впоследствии, обдумав, с небольшими изменениями воплотил в жизнь. Реквизиции хлеба, которые он выполнил по поручению Ленина на Юге России в 1918 году, он начал в ходе коллективизации и не закончил до самого конца своей жизни, отлично зная, что это может привести к миллионам жертв от голода. При этом в городах вождь вновь вернул карточки на еду, отменяя их в годы лёгкого откручивания гаек в середине 1930‑х и конце 1940‑х. Массовый террор, в котором Коба принял непосредственное участие в Царицыне, он возобновил уже десять лет спустя и постепенно перенёс в масштабы всей страны. Война как повседневность стала неотъемлемой чертой сталинизма даже на бытовом уровне – надев армейские сапоги в год Великого Октября, он не снимал их до самой смерти, попеременно примеряя разные виды униформы: френч, фуражку, будёновку, шинель, китель, брюки с лампасами. Трудовая армия позволила поднатореть в таком деле, как принудительный труд, к коему генсек спустя десятилетие привёл в той или иной форме всех работоспособных подданных. Сталин завершил превращение СССР в казарму рядом с номерным заводом.
Он учился на ошибках – своих собственных и огрехах однопартийцев. В 1923–1927 годах Джугашвили сплёл по всей стране железную сеть партсовактива, затем учинив то же самое, что и Ленин с Троцким, только «лучше». Если повальное огосударствление в годы Гражданской войны привело к хозяйственному краху, то в 1929–1935 годах военная промышленность росла как на дрожжах. Если в 1918–1920 годах изъятие хлеба из деревни породило бунты, от которых зашаталась большевистская власть, то волнения времён коллективизации не стали опасностью для режима. Если поражение на Западном фронте и недоедание тыла стали причиной Кронштадтского мятежа, то, истребив, посадив или сослав всех потенциальных противников своей власти, Сталин запугал всех остальных, и армия осталась покорной в 1941–1942 годах, когда в сёлах народ горбатился за трудодни, умирая от голода.
Вскоре после Х съезда РКП (б), 21 марта 1921 года, был введён продналог. Он пришёл на смену продразвёрстке как части политики «военного коммунизма», когда революционные отряды обменивали у крестьян продовольствие на промтовары, а «излишки» забирали силой. Нарком продовольствия А. Цурюпа писал: «У нас нет другого выхода, как объявить войну деревенской буржуазии, которая имеет значительные запасы хлеба даже недалеко от Москвы…»
Продналог стал первым законодательным актом новой экономической политики. Крестьяне же, однако, не забывали, что ещё 27 октября 1917 года II Всероссийский съезд Советов принял Декрет о земле. И его первый пункт гласил: помещичья собственность на землю отменяется без всякого выкупа и передаётся в распоряжение местных земельных комитетов и уездных Советов. Крестьяне ждали, что наконец-то станут хозяевами земли. Но всё происходило не так, как звучало на съезде и в лозунгах.
Мировая война, революция, война гражданская, интервенция нанесли крестьянству невиданный ущерб – пожалуй, как никакой другой части населения. Были разорены тысячи деревень, заброшены миллионы гектаров пашни. Повсюду в стране начинался голод. Буржуазия пыталась использовать его для подавления новой власти. А той надо было, спасая людей, спасать себя. Вот и ввели продразвёрстку. Но довольно быстро Ленин осознал, что она вызывает у крестьян ненависть к власти большевиков, и предложил ввести в рамках НЭПа продналог – часть продукции закупать по рыночным ценам. Людям стало легче, но вскоре, уже летом, грянула засуха.
По рассказам очевидцев, тогда в Уфе, например, по городу ездили волы, запряжённые в арбы. Погоняли их мужики – по два с каждой стороны арбы. Подбирали на улицах лежащих, ползающих и стонущих голодных людей, забрасывали в арбу и вывозили за город. Там сбрасывали в овраги и засыпáли землёй…
После введения НЭПа, рассказывали, будто упала манна небесная – стали появляться хорошие и дешёвые продукты. Крестьяне, исстрадавшиеся по своему делу, в ожидании обещанной передачи земли трудились не покладая рук. И опять мало чего дождались. Опасаясь реставрации капитализма, правительство довольно скоро прихлопнуло НЭП, а крестьянам оставалось жить надеждой, что землю им всё-таки дадут.
Долго не удавалось повысить урожайность зерновых в сравнении с царским временем. И всё же (без тракторов и комбайнов!) с 1922 по 1928 год сбор зерна вырос с 36 до 77 млн тонн. Поголовье крупного рогатого скота, другой живности увеличилось на треть. Сказывалось воздействие НЭПа, хотя крестьяне, работая с невероятным напряжением, жили по-прежнему бедно…
В июне 1928‑го на Пленуме ЦК ВКП (б) И. В. Сталин обосновал теорию обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Вскоре сам возглавил заготовку зерна в Сибири. Закупочная цена, которую он называл крестьянам, их не устраивала. Возмущению Сталина не было предела. Решил, что нужно силой взять хлеб у зажиточных земледельцев. Были созданы специальные тройки, их решения стали обязательны для исполнения крестьянами. Кроме того, генсек заявил, что государство не должно зависеть от мелких хозяйств, их надо укрупнять. Если кулак – зажиточный крестьянин, не хочет вступать в колхоз, имущество его – конфисковать, семью – сослать на работу в глухие районы.
Что в то время происходило в деревнях, можно судить по рассказу очевидцев:
«В отличие от семьи моей матери, где все были загнаны в колхоз и находились там до смерти “великого кормчего”, родители моего отца сумели избежать подобной доли, хотя и жили изначально в селе Романово Новосибирской области. После изменений уклада сельской жизни, вызванной революционными катаклизмами, народ стал задумываться, а как бы выжить в создавшейся ситуации. На то, что жить в ближайшее время будет “лучше и веселее”, сельский люд как-то не надеялся. Первыми признаками такого уныния стала организация комитета бедноты, в который председателем “комбеда” был избран самый-самый бедный из жителей деревни. Действительно, был он самый-самый, потому что всё пропил в своё время, и, несмотря на наличие земли, находился на грани голода, а потому ему приходилось постоянно попрошайничать. И тут ему улыбнулась удача – человек получил портфель. Пользовался этот руководитель очень дурной славой, так как даже его внешний вид многих обескураживал. Дело в том, что из-за отсутствия какой-либо запасной одежды носил этот персонаж телогрейку, которую никогда не снимал. Пуговиц на ней не было, а чтобы она не распахивалась, он зашил её снаружи нитками. В баню он не ходил, гигиену не соблюдал, и от того дух от него исходил, как от последнего бомжа, какие ещё до недавнего времени тёрлись у входа в метро на Ленинградском вокзале. Естественно, что кроме всеобщего презрения он у людей не вызывал. А тут вдруг по рекомендации партийных органов привалило ему такое счастье. И стал новоиспечённый руководитель ходить по деревне в своей фуфайке с папкой под мышкой и учить народ жить. Это был мощный сигнал местному населению, что из деревни надо валить. К тому же пошли слухи о надвигающихся колхозах, от которых сельским труженикам становилось худо.
К счастью, при отсутствии колхоза народ ещё жёстко к земле не привязывали, и дед решил вместе с семьёй уехать в город. Город не город, а прибиться удалось на каком-то полустанке, где новосёлам досталось ветхое служебное жильё, так как дед устроился работать на железной дороге путевым обходчиком. Потом было ещё одно “великое переселение”, когда дед устроился работать на шахту, где, заработав силикоз, окончательно сгубил своё здоровье. Но это уже другая история из колхозного времени».
Другие очевидцы тех событий вспоминали:
«Бедные крестьяне охотно записывались в члены колхоза. Те же, кто был побогаче, отказывались. Собрания проводили во всех сёлах. Но это не помогало. Вскоре стали действовать иначе. У меня на столе лежала разнарядка из губернии – сколько крестьян оформить в колхоз. Вызывая повесткой хозяина каждого двора, я клал на стол пистолет – на видное место. Когда человек входил, его взгляд останавливался на оружии. Слушал меня как заворожённый, кивал головой и ставил крестик в ведомости: согласен. Тех, кто отказывался, раскулачивали: отбирали имущество, семью отправляли на “сталинские стройки”».
В 1929‑м на Всесоюзной конференции аграрников-марксистов Сталин заявил: «Без колхозов мы не проведём индустриализации, не вытравим из многомиллионного крестьянства капиталистических корней». В 1933‑м Сталин получил письмо от М. Шолохова. Писатель сообщал о произволе при заготовке хлеба на Дону. Сталин ответил, что «уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили “итальянку” (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную армию – без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), – этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели “тихую” войну с советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов».
Главной причиной устроенного большевиками «великого перелома» являлось стремление практически даром получать продовольствие для бурно растущих городов и армии. Товарность сельского хозяйства в 1920‑х годах составляла 15–20 процентов, иными словами, одного рабочего или солдата должны были кормить пять-шесть крестьянских дворов. С такими ли ресурсами мечтать о мировой победе коммунизма?
Разумеется, был иной путь: повышать эффективность аграрного сектора путём концентрации земли в руках крепких хозяев, заинтересовать крестьян зарабатывать деньги через развитие производства потребительских товаров. Но для советской власти он был абсолютно неприемлем. Это что же: частнособственнические инстинкты поощрять? Вместо оружия выпуск зеркальных трюмо и велосипедов разворачивать?
В основном завершив к 1932 году коллективизацию, Сталин выполнил половину задачи. Теперь предстояло приучить крестьян трудиться в общественном секторе «за палочки», и не отлынивать.
Методы выбивания хлебопоставок в 1932 году на примере его родной станицы Вёшенская ярко описал Михаил Шолохов в знаменитом письме Сталину. Но и этого оказалось недостаточно.
В 1930 году в счёт госпоставок на Украине у крестьян забрали 30 % выращенного зерна, а на Северном Кавказе 38 %, в 1931 году соответственно 42 и 47 процентов.
В 1932 году, выдавшемся неурожайным, план подняли ещё на треть. Со всей страны посыпались доклады, что задание нереально. Однако власть решила показать, что давить на жалость бесполезно.
«Крестьянин хочет удушить советское правительство костлявой рукой голода. Мы покажем ему, что такое голод», – заявил на собрании республиканского актива партийный вождь Украины Станислав Косиор.
В колхозах, не выполнивших хлебозаготовительный план, велено было изъять не только всё зерно, вплоть до семенного фонда, но и домашние запасы овощей, солений и сала.
Значительная часть конфискованных продуктов пропадала, но действовал принцип: лучше сгноить, чем людям отдать.
При этом в 1932–1933 годах на экспорт отправили 3,41 млн тонн зерна, 47 тысяч тонн мясомолочных продуктов, 54 тысячи тонн рыбы по таким низким ценам, что зарубежные партнёры обвиняли советское государство в демпинге.
В результате голод охватил территории с населением в 30 миллионов человек.
На Украине, по данным современного исследователя Станислава Кульчицкого, умерли 3 миллиона 238 тысяч человек, не считая демографических потерь от вынужденной миграции и резкого, примерно вдвое, снижения рождаемости.
Население Казахстана, где отбирали не хлеб, а скот, сократилось с шести до трёх миллионов человек.
В Российской Федерации, где картошку и лук крестьянам всё-таки оставили, погибли «всего» 400 тысяч человек. Однако, по информации американского биографа Бориса Ельцина Тимоти Колтона, случаи каннибализма имели место и в уральском селе Бутка, где родился первый президент России.
«Каждую ночь в Харькове собирают по 250 трупов умерших от голода. Замечено, что большое число из них не имеют печени, из которой готовят пирожки и торгуют ими на рынке», – докладывал в Рим итальянский консул.
7 августа 1932 года вышел закон «Об усилении уголовной ответственности за кражу и расхищение социалистической собственности», более известный, как «закон о трёх колосках», по которому только по декабрь 1933 года были репрессированы 125 тысяч доведённых голодом до отчаяния людей, из них 5400 расстреляны.
Народ ринулся в поисках пропитания в города. Ответом стало постановление правительства от 22 января 1933 года за подписями Молотова и Сталина: «массовый исход крестьян организован врагами советской власти, контрреволюционерами и польскими агентами… запретить всеми возможными средствами массовое передвижение крестьянства Украины и Северного Кавказа в города».
Обречённые районы оцеплялись войсками. Только за первый месяц действия постановления ОГПУ отрапортовало о задержании 219460 человек.
«За неделю была создана служба по поимке брошенных детей. Тех, кто ещё мог выжить, отправляли в бараки на Голодной Горе. Слабых отправляли в товарных поездах за город, и оставляли умирать вдали от людей. По прибытии вагонов покойников выгружали в заранее выкопанные большие рвы», – информировал итальянский консул в Харькове.
Бывшие узники ГУЛАГа, опрошенные Александром Солженицыным, свидетельствовали, что в ряде случаев крестьяне прибивались к лагерям, и заключённые их подкармливали.
В августе 1933 года газета New York Herald Tribune опубликовала материал Ральфа Барнса, в котором фигурировала цифра «один миллион смертей от голода». Американская общественность сочла её неправдоподобной. Иностранцев после этого перестали пускать в поражённые голодом регионы.
В Казахстане жертвами конфискации скота и принудительной коллективизации стало около половины всего казахского населения республики. В Украине эти страшные времена называют голодомор. В Казахстане – Великий джут. Споры о причинах трагедии не утихают до сих пор. Одни обвиняют Сталина и его окружение в умышленном геноциде казахского народа, а другие во всём винят руководство Казахской АССР. Доктор исторических наук профессор Талас Омарбеков изучал эту трагедию в течение долгого времени.
– Прологом к трагедии стала индустриализация, курс на которую в 1924 году объявил Иосиф Сталин, – рассказывает Талас Омарбеков. – Но для этого необходимо было закупать в европейских странах и США станки, тракторы и другую технику. Взамен продавцы потребовали у СССР золото и зерно. Но когда в 1927 году поставки зерна резко снизились, Сталину доложили, что кулаки и земледельцы бойкотируют сдачу хлеба. Тогда в начале 1928 года генсек в секретном правительственном поезде совершает своё знаменитое путешествие из Москвы в Иркутск. На крупных станциях по пути следования – в Омске, Томске, Новосибирске Иркутске – местные власти собирали зажиточных крестьян, и Сталин приказывал им увеличить сдачу зерна. Тех, у кого обнаруживали даже незначительное количество хлеба, по 107‑й статье на три года отправляли в тюрьму.
После 1928 года так же действовало и руководство Казахской АССР. Но главной причиной гибели людей здесь послужили не зернозаготовки, а мясопоставки.
Сталин велел прежде всего накормить мясом Ленинград и Москву, потом все крупные города и Красную армию. Западные регионы Казахстана должны были обеспечить поставки мяса на Северный Кавказ, Южный Казахстан – в хлопководческие центры Узбекистана: Самарканд, Ташкент и Наманган. На севере возникли чрезвычайные организации «Москва-Мясо» и «Ленинград-Мясо», а потом «Союз-Мясо». Их начальство подчинялось напрямую Сталину.
И всех жителей республики – и казахов, и людей других национальностей – обязали сдать всю живность, до последнего барана! Работая в архиве, я нашёл телеграмму, отправленную в 1933 году руководителем Кустанайской области руководству республики: «…Мы не можем выполнить задачу по мясопоставкам свинины. В области осталась всего одна свинья».
То, что страшный голод возник именно из-за мясозаготовок, подтверждают архивные данные. Так, в июне 1930 года в Казахстане имелось около 40 миллионов скотопоголовья, а в конце 1933 года – чуть больше 4 миллионов! Остальные 36 миллионов коров, овец, свиней были вывезены из республики в Москву, Ленинград, другие республики…
– Считая основной причиной голода кампанию «Малый Октябрь», объявленную тогдашним руководителем Казахстана Филиппом Исаевичем Голощёкиным (Шая Ицкович), исследователи ошибаются, – полагает Талас Омарбеков. – Собственно сама эта кампания состояла из трёх кампаний.
С 1925 по 1927 год прошла советизация казахского аула: вместо родоправителей назначили бедняков, часто неграмотных. Они же стали председателями аульных советов, сельских советов и даже руководителями районов.
Параллельно шла кампания по передаче пахотных земель беднякам. Голощёкин, не зная специфики Казахстана, прислушивался к советам казахских руководителей – Жандосова и Ходжанова. А те предложили ему уничтожить байство путём передачи земли. Но у казахов не было частной собственности на землю, они пользовались ею на родовой основе! Я думаю, что Жандосов и Ходжанов специально обманули Голощёкина, чтобы его признали бездарным руководителем и отозвали обратно. Как только комиссары с землемерами ушли из аула, бедняки вернули землю своим сородичам. Ведь казахская беднота ни земледелием не занималась, ни скота своего у неё не было.
Через год Голощёкин обнаружил, что баи по-прежнему гласно или негласно правят своими родами. Тут кое-кто из нашей казахской интеллигенции предложил ему конфисковать у баев скот. Это, мол, уничтожит их как класс. И в августе 1928 года Голощёкин в своём письме к Сталину предложил провести в Казахской АССР национализацию скота.
Изучая в Москве сталинский архив, я наткнулся на это послание. Генсек собственноручно зачеркнул слово «национализация» и написал «конфискация». Но если бы советские руководители ограничились конфискацией скота лишь самых крупных скотоводов, до голода бы дело не дошло.
Уполномоченные отбирали коров и овец не только у баев, но и у середняков и бедняков. На каждой крупной станции устраивались забойные площадки, где скот забивали, разделывали, мясо сразу грузили в вагоны и отправляли в Москву, Ленинград и другие крупные города.
Вскоре начались массовые эпидемии среди животных. В то время ни о каком ветеринарном контроле не было и речи, из-за скученности больные животные начали заражать здоровых бруцеллёзом, туберкулёзом. Животных принялись спешно отправлять живьём. За падёж скота руководитель «Союз-Мясо» Смирнов лично угрожал освободить Голощёкина от занимаемой должности и исключить из партии…
– Разные исследователи дают разные цифры, но известно, что в 1930 году в Казахской АССР проживало 5 миллионов 800 тысяч казахов, – продолжает Талас Омарбекович. – По мнению казахстанских историков, во время Великого джута погибло от 1 миллиона 700 тысяч до 2 миллионов 200 тысяч казахов. А известные российские учёные профессора Жеромская и Поляков, изучив Всесоюзную перепись 1937 года, пришли к выводу, что в период 1931–1933 гг. население Казахской АССР сократилось на 3 миллиона 379 тысяч человек. Из них около 2 миллионов откочевали в Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Поволжье, Алтайский край и Сибирь. Эти исследования опубликованы в 1990 году в московском журнале социологических исследований «Социс».
В 1997 году в Казахстане была образована сенатская комиссия, в неё вошли 23 депутата, юристы и историки. В их числе был и я. Работая в архиве КНБ РК, мы нашли спецдонесения советских разведчиков с 1931 по 1933 год. Находясь на территории Китая, они каждые 10 суток передавали информацию о том, сколько казахов пересекло китайскую границу.
По моим подсчётам, с 1931 по 1933 год в Китай ушли около 100 тысяч человек, по данным КНБ – около 70 тысяч, эти цифры совпадают с данными китайского правительства.
В московском архиве я нашёл письмо-справку на имя первого руководителя республики – ответственного секретаря Казкрайкома ВКП (б) Левона Мирзояна. В своём послании начальник Казнархозучёта (аналог нынешнего управления статистики) Мухтар Саматов сообщает, что население Казахстана уменьшилось всего… на 971 тысячу человек. Как оказалось, советские руководители намеренно занижали потери населения от голода. Фактически же количество погибших и откочевавших казахов с 1931 по 1933 год составляет более 3 миллионов!
Но в СССР как раз готовилась очередная перепись, в ходе которой правда неизбежно выплыла бы наружу. А Сталин хотел продемонстрировать Западу мощный демографический взрыв и тем самым доказать преимущество социализма перед капитализмом. Но письмо не смогло уберечь от гнева вождя ни его автора, ни адресата.
По окончании переписи 1937 года Сталин вместо прироста населения обнаружил его убыль. Выразив возмущение и недоверие итогом работы переписчиков, Сталин приказал засекретить данные переписи, а всех, кто принимал в ней участие, объявить врагами народа. В числе первых был казнён Мухтар Саматов и его непосредственный начальник, руководитель Всесоюзного нархозучёта Караваль. Кроме того, в Казахстане были расстреляны все без исключения областные и районные руководители нархозучёта – якобы они намеренно уменьшали количество населения и тем самым сыграли на руку врагам СССР.
Через два года, в 1939 году, Сталин вновь провёл Всесоюзную перепись населения, но теперь, помня о судьбе предшественников, сотрудники нархозучёта намеренно завысили число граждан.
Было ли в планах «вождя народов» уничтожить казахское население? Профессор Омарбеков считает, что геноцида не было:
– Жертвой этого ошибочного мнения стали многие наши историки, исследователи, журналисты и писатели, – говорит Талас Омарбекович. – По крайней мере, ни одного подобного документа за подписью Сталина я в архивах не нашёл. Причины голода – в ошибочных реформах руководства страны и республики. Филипп Голощёкин по профессии был зубным техником с четырьмя классами образования, да к тому же не знал особенностей уклада жизни казахов. Ну как он мог предвидеть последствия своей кампанейщины?
ГЕНОЦИД БЫЛ! КЛАССОВЫЙ. Так считает автор книги, главный редактор журнала «Простор» Валерий Михайлов. В Казахстане в издательстве «Мектеп» недавно вышло четвёртое издание его книги «Великий джут».
– Слово «геноцид» буквально значит «уничтожение рода, племени». Однако словари толкуют это понятие узко: истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным признакам. А как же страшный опыт ХХ века, когда большевики вырезали целые классы и сословия? Разве это не было истреблением рода, племени?
То, что геноцид в Казахстане был, – это, бесспорно. Но не этнический, а классовый, сословный. Это был результат насильственной сплошной коллективизации, которую Сталин по значению приравнял к Октябрьской революции. Коллективизация обернулась массовым голодом. Погибли лучшие труженики села, хлеборобы и скотоводы. В России пострадали жители Поволжья, Северного Кавказа, южных регионов страны – все зерносеющие районы, которые жили лучше других. То же самое произошло на Украине.
Эта политика совершалась на селе, в ауле руками тех, кто сам работать не любил и не умел – руками активистов. В Казахстане их называли бельсенди.
Спрашивается, почему большевики были так беспощадны к недавнему союзнику «самого передового класса» – крестьянству? Согласно коммунистической доктрине Маркса и Энгельса, а также их учеников-практиков Ленина и Сталина, любой частный собственник – это враг советской власти. Но если с крупными собственниками всё понятно, то мелкого собственника разглядеть труднее, и чем мельче собственник, тем его труднее «выкорчевать».
Крупных землевладельцев перебили сразу после Октября, а вот с середняками, да заодно и многими бедняками, назвав их эксплуататорами, кулаками, баями и врагами народа, расправились, когда власть окрепла, – в 1929–1933 годах.
Голодные бунты жестоко подавлялись, людей расстреливали, объявив их бандитами. Об этом можно узнать даже из докладов Голощёкина, опубликованных в газете «Советская степь» (предшественница нынешней «Казахстанской правды»).
Казахи оказались беззащитны перед методами властей. Отбери скот в степи – и человеку больше нечем прокормиться.
На Западе у Сталина нашлись адвокаты. Бернард Шоу заявил на пресс-конференции, что никакого голода не видел, лично он никогда в жизни так не обедал, а на вопрос, почему бы ему в таком случае не переселиться в советский рай, ответил, что Британия, несомненно, ад, но он старый грешник, поэтому его место в аду.
«При коллективизации мы потеряли не меньше», – сказал Сталин Черчиллю, обратившемуся к нему с соболезнованиями по поводу больших потерь СССР в войне, добавив, что, по его мнению, «всё это было очень скверно и трудно, но необходимо».
Всесоюзная перепись в январе 1937 года показала «недостачу» населения в восемь миллионов человек по сравнению с расчётной цифрой. Исследование объявили вредительским, все материалы изъяли и засекретили, организаторов расстреляли.
Имеются многочисленные свидетельства людоедства и трупоедства в поражённых голодом районах.
«В колхозе “День урожая” во время прополки на борозде умерло от голода 3 колхозницы. Беднячка Степанова зарезала своего сына 9‑ти лет на питание. При обыске у Никулиных обнаружен в печке чугун, в котором находилась человеческая челюсть», – докладывал в июне 1933 года уполномоченный ОГПУ по Белгородской области Бачинский.
«В станице Должанской Ейского района гражданка Герасименко употребила в пищу труп своей умершей сестры. В станице Ново-Щербиновская жена кулака Елисеенко зарубила и съела своего 3‑летнего ребёнка. На кладбище обнаружено до 30 гробов, из которых трупы исчезли», – говорилось в информации ОГПУ «О голоде в районах Северокавказского края» от 7 марта 1933 года.
Чтобы не портить судебную статистику, дошедших до каннибализма людей, как правило, расстреливали на месте.
«Нам, коммунистам, выдавали по талонам, деревенским активистам тоже, а вот что они жрут – это уму непостижимо! Лягушек, мышей уже нет, кошки ни одной не осталось, траву, солому секут, кору сосновую обдирают, растирают в пыль и пекут из неё лепёшки. Людоедство на каждом шагу.
Сидим мы в сельсовете, вдруг бежит активист, доносит, в такой-то хате девку едят. Собираемся, берём оружие. Семья вся в сборе. Сонные сидят, сытые. В хате пахнет варёным.
«Где дочка? – У город поихала. – А в печи в горшках что? – Та кулиш». Выворачиваю этот “кулиш” в миску – рука с ногтями плавает в жире.
Идут, как сонные мухи. Что с ними делать? Теоретически – надо судить. Но такой статьи – за людоедство – нет. Можно за убийство, но это сколько ж возни, и потом, голод – смягчающее обстоятельство или нет?
В общем, нам инструкцию спустили: решать на местах. Выведем их из села, свернём куда-нибудь в балочку, пошлёпали в затылок из пистолета, слегка землёй присыпали – потом волки съедят», – описывал типичную картину Анатолий Кузнецов в романе «Бабий Яр».
Кстати, первое массовое захоронение в Бабьем Яру, впоследствии получившем известность как место преступлений нацистов, относится к 1933 году: «Умерших от голода свозили в Бабий Яр. Привозили и полуживых, которые там умирали».
Однако народного восстания не последовало.
«В райцентре возле автобусной остановки в скверике на пыльной травке валялись те, кого уже не считали людьми. Одни – скелеты с огромными, кротко горящими глазами. Другие, наоборот, туго раздуты. Кто-то грыз кору на берёзовом стволе. Кто-то расплылся по земле студнем, не шевелился, а только булькал нутром. Кто-то запихивал в рот мусор с земли.
Но перед смертью кто-нибудь вдруг бунтовал – вставал во весь рост, обхватывал ствол берёзы, открывал рот, собирался, наверное, крикнуть испепеляющее проклятие, но вылетал хрип, пузырилась пена. Бунтарь сползал вниз по стволу и затихал.
Вокруг идёт обычная жизнь. Люди торопятся на работу», – делился воспоминаниями детства писатель Владимир Тендряков.
«Кадры, прошедшие через ситуацию 1932–1933 годов и выдержавшие её, закалились, как сталь. Я думаю, что с ними можно построить государство, которого история ещё не знала», – писал Орджоникидзе Кирову в январе 1934 года.
Новый правящий класс подкупали подачками. Во время голода окончательно сложилась система номенклатурных привилегий, просуществовавшая вплоть до краха СССР.
8 февраля 1932 года секретным постановлением политбюро был отменён так называемый «партмаксимум» для ответственных работников – коммунистов в размере 2700 рублей в год. По словам экономиста Евгения Варги, именно тогда «началось радикальное расслоение советского общества, один за другим – в соответствии с их значением для режима Сталина – выделялись привилегированные слои».
Широко распространилась практика выдачи номенклатурщикам «пакетов» – ежемесячных денежных бонусов в конвертах, настолько засекреченных, что с них даже не уплачивались партвзносы.
Осенью 1932 года, в разгар голода, в распределителе в «Доме на набережной» чиновник каждый месяц получал четыре килограмма мяса, четыре килограмма колбасы и ветчины, килограмм икры.
В сентябре для питания делегатов пленума ЦК были затребованы 10 тонн мясных деликатесов, четыре тонны рыбы, 600 килограммов сыра, 300 килограммов икры, всего 93 наименования продуктов.
«С той минуты, как мы сели в поезд “Москва-Ленинград” и стали гостями чекистов, для нас наступил коммунизм. Ни за что не платим. Копчёные колбасы. Сыры. Икра. Фрукты. Вина. Коньяк. Ем, пью и вспоминаю, как добирался до Москвы. Всюду вдоль полотна стояли оборванные босые дети, старики. Кожа да кости. Все тянут руки к проходящим вагонам. У всех на губах одно слово: хлеб, хлеб, хлеб», – вспоминал организованную ОГПУ поездку литераторов на Беломорканал писатель Александр Авдеенко.
А уж во время банкета в ленинградской «Астории» он, по его словам, просто ошалел от изобилия: «бифштексы, жареные цыплята, шашлыки, шпроты в янтарном масле, поросята, заливные осётры, персики без косточек и кожуры».
«Самое страшное, если вы вдруг почувствуете жалость и потеряете твёрдость. Вы должны научиться есть, даже если все кругом будут умирать от голода. Иначе некому будет вернуть урожай стране. Не поддавайтесь чувствам и думайте только о себе», – говорилось в секретной инструкции ЦК работникам райкомов в зоне бедствия.
Начальники, «проявлявшие незрелость» и подкармливавшие голодных из личных запасов, быстро исчезали со своих постов. Впрочем, аналогичная участь ждала и тех, кто, не поняв генеральной линии, устраивал оргии с шампанским и забавами в духе дореволюционных купцов: кто съест в один присест молодого барашка.
Уже в XXI веке российский режиссёр Андрей Кончаловский опубликовал пост с воспоминаниями о родственниках-«буржуях», чем возмутил пользователей сети. «Они рано завтракали, пили кофе; к кофе были сдобные булки, сливочное масло и рокфор, хороший рокфор, ещё тех, сталинских времён», – написал Кончаловский в заметке о своих дедушке и бабушке – Петре Кончаловском и Ольге Суриковой.
Пользователи раскритиковали пост режиссёра за подчёркнутое социальное неравенство между его семьёй и семьями его соотечественников среднего класса. «Кто рокфор, а кто отвар из крапивы. Страна разных возможностей», «А моя бабка из Харьковской области помнила во время голода, как соседка ела своего ребёнка».
Станислав Косиор за свои грехи расплатился страшно. В феврале 1939 года он был расстрелян. Сильный телом и духом, Косиор выдержал пытки и подписал «признание» лишь после того, как следователи привели его 16‑летнюю дочь и пригрозили по очереди изнасиловать её на глазах у отца. После этого инцидента, поняв, что она явилась причиной смерти отца, девушка бросилась под поезд.
Вячеслав Молотов в 1957 году был низвергнут с политического Олимпа, но жил в огромной квартире на улице Грановского, пользовался всеми номенклатурными благами и посещал зал № 1 библиотеки Академии наук, предназначавшийся для академиков и иностранных учёных. При Константине Черненко его восстановили в партии.
Развращали не только 55 тысяч номенклатурщиков.
Приближённой обслуге полагался так называемый «микояновский паёк» из 20 наименований продуктов.
Далее шли 14 миллионов человек, гарантированно получавших более скромный паёк: работники стратегических предприятий, военные и силовики, верхушка интеллигенции.
Рядовые горожане могли, по крайней мере, что-то купить в магазинах, снабжавшихся централизованно.
На самом дне оказались ограбленные и брошенные на произвол судьбы крестьяне и зэки с их реальными или мнимыми провинностями перед государством.
Голод сформировал сталинский социализм таким, каким мы его знаем: с жёсткой иерархией, пониманием того, что за кусок надо платить безграничной лояльностью, стремлением любой ценой сохранить то, что имеешь, не обращая внимания на смерть и страдания других, по лагерному принципу: «Умри ты сегодня, а я завтра».
«Архивные материалы свидетельствуют, что массовый голод начала 30‑х годов действительно был во многом обусловлен политикой тогдашнего руководства Советского Союза. Однако совершенно очевидно, что проводилась она не по национальному признаку», – заявил в 2006 году МИД России.
«Уничтожение социальной базы украинского национализма – индивидуальных крестьянских хозяйств – было одной из основных задач коллективизации на Украине», – писала 22 января 1930 года харьковская «Пролетарская правда».
Но документы и воспоминания не содержат указаний на то, что украинцев уничтожали за то, что они украинцы. Уничтожали зажиточных крестьян, а Украина – край тёплый и хлебородный, оттого по ней и пришёлся основной удар.
В Казахстане в процентах к числу населения жертв было намного больше, но казахи не смогли привлечь к трагедии своего народа такого общественного внимания.
Похоже, тому, что творилось в СССР при Сталине, и научного названия-то нет. Некоторые историки предлагают ввести в обращение термин «социальный геноцид» или «классоцид».
По данным российской Госдумы, погибли около семи миллионов человек – в два с лишним раза больше, чем было расстреляно по политическим мотивам и умерло в ГУЛАГе и на поселении за весь период правления Сталина.
Жертвами оказались не «эксплуататорские классы» царской России и не «ленинская гвардия», а простые труженики, ради которых, вроде бы, и делалась революция.
К 1939‑му в СССР уже работали 242 тысячи колхозов и совхозов. Но прежде было раскулачено 3,5 миллиона личных хозяйств, сослано в дальние края 7 миллионов крестьян. Размер оплаты труда крестьян, теперь уже колхозников, составлял 50–60 % от среднегородской зарплаты рабочих и служащих. «У них сады и огороды! – считало руководство. – Скотина и птица всякая. Выживут!»
Прошло почти два десятка лет с момента провозглашения НЭПа, была проведена коллективизация, но вместо свободного труда люди на земле получили, по сути, труд подневольный и не имели даже паспортов. Крестьянам (а это было почти 40 процентов населения) впервые разрешили их выдавать только 28 августа 1974 года. Пройдёт ещё около 20 лет, прежде чем земля перейдёт крестьянам в собственность.
– Даже больше, – прокомментировал Аркадий. – Я сам был свидетелем, когда в Челябинской области регпалата выдавала документы на землю работникам сельского хозяйства уже в XXI веке.
– Кроме «успехов» в сельском хозяйстве, – добавил Семён, – коммунисты всегда хвалились успехами первых пятилеток. А вот тебе материал, как проводилась «индустриализация страны» на самом деле. Такой информации нам в школе не давали!
Всего за 10 лет (1930–1940) американцы создали в СССР химическую, авиационную, электротехническую, нефтяную, горнодобывающую, угольную, металлургическую и другую промышленность, крупнейшие в Европе заводы для производства автомобилей, тракторов, авиационных двигателей и другой продукции.
Например, знаменитый Сталинградский тракторный завод был целиком построен в США, демонтирован и на 100 судах перевезён и собран в СССР. На этом заводе создали первые танки. ДнепроГЭС построила американская фирма Cooper Engineering Company (и германская компания Siemens).
Горьковский автозавод (ГАЗ) был построен американской компанией Austin.
Теперешний АЗЛК построен по проекту Форда. Знаменитая Магнитка – точная копия металлургического комбината в г. Гэри, штат Индиана.
Фирма Albert Kahn Inc. спроектировала и построила 500 советских предприятий!
Альберт Кан – индустриальный архитектор Детройта. Причина обращения именно к Кану заключалась в том, что, спроектировав все заводы Форда, он отработал высокопроизводительную технологию проектирования промышленных предприятий. В США его фирма штатом в 400 человек рабочие чертежи готовила за неделю, корпуса промышленных предприятий возводила за пять месяцев. Кан смог практически доказать, что способен сделать то же самое и в СССР: проект СТЗ был выполнен в рекордно короткие сроки; строительные конструкции для него были изготовлены в США, привезены в СССР и смонтированы в течение шести месяцев!
Именно фирма Albert Kahn Inc. создала в СССР школу передового индустриального зодчества.
Вместе с заводами создавались города для рабочих. Эрнст Май, немецкий архитектор, участвовал в разработке архитектурных проектов около 20 советских городов!
За 10 лет американцы построили в СССР около 1500 заводов и фабрик!
В СССР приехало около 200 тысяч американских инженеров и техников, которые руководили почти миллионной армией заключённых ГУЛАГа – плюс немногие оставшиеся в России дореволюционные кадры.
Американские профессора подготовили на рабфаках триста тысяч квалифицированных специалистов – то есть все кадры для Советской промышленности на долгие годы вперёд!
Таким образом, МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ СОЦИАЛИЗМА ПОСТРОИЛИ КАПИТАЛИСТЫ США, плюс дешёвый труд зэков.
Со страницы «Почему я ненавижу коммунизм».
Сергей Цыпляев: «Сталинскую модернизацию в СССР провели Германия и США»
«Первый раунд модернизации – это Германия, – говорит Сергей Цыпляев. На нас вышли немцы в 1920 году, инициатива была с германской стороны. А смысл следующий: Германия под Версальским договором, армия не больше 100 тысяч, нельзя вести подготовку офицеров, нельзя иметь авиацию, подводный флот. И вот начинаются секретные встречи в военной сфере. Первое предложение даже через турок было сделано. Генерал, командующий сухопутными войсками Германии, говорил: «Без союза с Россией нам не выжить. Это единственный способ нам снова вернуться в разряд великих держав».
В Берлине прошли секретные переговоры, и сразу же здесь начинается целая куча проектов, имеющих исключительно военный характер. Самый известный из них – это строительство завода в Филях, «Юнкерс». Он оказался достаточно скандальным. Колоссальное количество проектов разработал Крупп, сюда пришли строители подводных лодок. Основная идея была в следующем: немцы дают деньги, немцы дают технологии, здесь обучаются их люди, здесь размещаются их заказы, всё происходит вместе с ними. Фактически Германия приступила к строительству собственной военной базы на территории России.
Они вложились на приличные суммы, которые оплатил германский народ. Например, Крупп наладил производство гранатоартиллерийских снарядов, обеспечил финансирование проекта – вложил 600 тысяч долларов «со старта» и 2 млн долларов заплатил за заказ. Чтобы пересчитать в нынешние деньги – надо на 100 умножать. Был собран целый консорциум банков во главе с Немецким восточным банком, который и оплатил все эти вещи. Тот самый завод в Филях, который теперь завод имени Хруничева – концессионер принял его и оборудовал. Построили современный завод «Юнкерс» на 1300 работников, приблизительно 600 самолётов в год. Такая фирма, как «Штольценберг», наладила производство артиллерийских зарядов и порохов на заводах Златоуста, Тулы и Петрограда. Немцы оборудовали производство отравляющих веществ под Саратовом, в Туле оборудовали цеха, где производилась нарезка стволов для винтовок и пулемётов. Компания «Маннесман» отремонтировала на мариупольском заводе прокатный стан, который был куплен ещё до революции. В годы войны он был перевезён на Урал и, по свидетельствам специалистов, на нём ещё в XXI веке катали броню для танков Т‑90. Наших инвестиций нигде не было, мы находились в совершенно разбитом состоянии.
Второй шанс для Советского Союза дала Великая депрессия, начавшаяся в США в конце 1920‑х годов. Здесь мы подходим к известнейшей фамилии – Альберт Кан, который должен бы быть героем социалистического труда. Это архитектор Форда, который строил фордовские заводы. В 1928 году он был на грани банкротства, и вдруг к нему пришёл некий неприметно одетый джентльмен, который сказал про себя, что он “представитель советского бизнеса”, и предложил спроектировать тракторный завод стоимостью 40 млн долларов. Это Сталинградский тракторный завод. И другие заказы. Кан долго мучался в сомнениях, но приехал в СССР и выдал целую программу промышленного строительства, которую у нас знают, как индустриализацияю.
Фирма Кана стала главным консультантом советского правительства по промышленному строительству и получила пакет заказов на 2 млрд долларов (по нынешним ценам – около 250 млрд долларов, что сопоставимо с нынешним российским годовым федеральным бюджетом). Она построила не то 521, не то 571 промышленное предприятие. В этот список входят транспортные заводы Сталинграда, Челябинска и Харькова, АЗЛК в Москве и ГАЗ в Нижнем Новгороде. Кузнечные цеха Днепропетровска, Харькова, Челябинска, Коломны, Магнитогорска, Нижнего Тагила, Сталинграда. Станкостроительные заводы Калуги, Новосибирска, Верхней Салды… Колоссальный список!
Сталинградский тракторный – взяли в Америке, разрезали завод, разобрали, перевезли и собрали его здесь. Нижегородский автозавод – компания “Форд” проект делает, строительный проект – американская компания «Остин». Всего Сталинградский тракторный завод был оснащён оборудованием 80 американских и немецких машиностроительных фирм. ДнепроГЭС проектировала американская компания “Купер”. Турбины делали тоже американцы, “Ньюпорт-ньюс”, генераторы были от “Сименса”.
Кан прислал в Москву своего брата, он здесь открыл колоссальную проектную организацию со скромным названием Госпроектстрой, где работали 25 ведущих американских инженеров и около 2500 советских. Всего через это КБ прошло около 4000 инженеров, где получили колоссальный опыт работы. А рядом работало немецкое «Центральное бюро тяжёлого машиностроения».
Наконец, чехословацкая фирма “Шкод”. Они сами приехали к нам помогать, исходя из патриотических чувств, потому что стало ясно, что в Чехословакии «всё закончилось». И они продали СССР новую линию по производству пушечного пороха, построили комбинат, который называется “Сибсельмаш” – полное, оснащённое оборудованием “Шкоды” производство артиллерийских снарядов. На монтаж оборудования в 1941 году приехало 8 чешских инженеров.
Вот вам и ответ на вопрос – как же так получилось, когда абсолютно разбитая страна, где только что прошли революция и Гражданская война – и вдруг, как по мановению волшебной палочки, всё откуда-то появляется. Нам раньше объясняли – “Партия сказала – надо, комсомол ответил – есть!” Но так не бывает. А сейчас ведь перед нами вновь стоит задача модернизации, как догнать ушедший вперёд Запад. Но если мы не понимаем, как это делалось тогда, если руководство уверено, что надо указать путь, выделить деньги, дать команду – и всё появится, то потом удивляется, почему оно не появляется. За 5–10 лет, рывком, с опорой лишь на собственные силы, ничего выдернуть нельзя».
2 августа 1928 года в СССР было принято Постановление Политбюро ЦК ВКП (б) «О привлечении иностранных специалистов». В этом документе, имевшем гриф Сстрого секретно», указывалось следующее:
«Обязать ВСНХ и НКПС усилить свою работу в этом направлении, исходя из необходимости привлечения не только крупных специалистов с крупным именем, но и специалистов среднего типа, имеющих достаточный опыт и знание европейской техники.
Обязать СНК проверять эту работу ВСНХ и НКПС, а не менее чем раз в полгода ставить специальные доклады по этому вопросу. Наметить ориентировочно привлечение в течение ближайших двух лет от 1000 до 3000 иностранных специалистов». РЦИХДНИ. Ф. 17. Оп. 3. Д. 698. Л 3–4.
Если до 1929 года иностранцы оказывали СССР в основном точечные, допустим, проектировочные или консалтинговые услуги, то с этого года в промышленность страны хлынул поток зарубежных инженеров, техников и рабочих.
Кадровый состав иностранных специалистов выглядел примерно так: 35–40 % – инженеры и техники, остальные – рабочие. 82 % работников были задействованы на строящихся объектах, остальные трудились в проектировочных организациях, уже работающих предприятиях и в научно-исследовательских институтах (порядка 5–6 % в последних). Одной из главных проблем большевиков при общении с иноспецами была оплата труда в валюте и поддержание достаточно высокого уровня их жизни по сравнению с аборигенами. Поэтому если в 1930 году на оплату труда иноспецов было израсходовано порядка 1 млн рублей в валюте (не ясно, какой), то в 1931 году расходы составили 7 млн рублей, в 1932 году – 6,5 млн рублей. Благодаря переводу части зарплат иноспецов из валюты расходы по этой статье заметно снизились и в 1933 году составили около 0,9 млн рублей.
Для географического размещения иноспецов была характерна их высокая концентрация: в 1933 году более 40 % зарубежных работников трудились на 16 предприятиях. По отраслям тяжёлой промышленности расклад был следующим (на 1933 год): около 2,9 тыс. человек работали в машиностроении, 675 – в чёрной и цветной металлургии, почти 1300 в угольной отрасли, 233 в коксохимической и 357 – в строительной. Разумеется, иностранные специалисты в СССР были задействованы не только в рамках Наркомата тяжёлой промышленности. Так, к примеру, в 1931 году на авиационных и транспортных предприятиях работало 624 зарубежных специалиста, из которых 172 были американцами, 146 – немцами, около 100 – чехословаками. Национальный состав иностранцев в НКТП был схожим – велика была доля немцев (они даже после прихода Гитлера к власти охотно трудились в СССР, правда, иногда речь шла уже не о инженерах, а о политэмигрантах), американцев, чехословаков и австрийцев. Как правило, в число «остальных» попадали англичане, французы, скандинавы.
Поскольку СССР был не в состоянии удовлетворить запросы иноспециалистов по организации условий труда, среди иноспецов была очень высока ротация. В среднем ежегодно состав иностранной колонии в советской промышленности обновлялся на треть и даже более. Так, только за 1932 год из тяжёлой промышленности ушло 978 работников. В первом квартале 1933 года предприятия НКТП покинули уже около 700 иностранных специалистов. Большевики пытались бороться с этой текучкой в приказном порядке (см. Приказ по НКТП СССР «О работе и условиях труда иностранных специалистов» от 23 мая 1933 года), однако серьёзного воздействия эти инициативы не возымели. Часто, как писалось уже выше, причинами ухода были тяжёлые условия труда, нехватка продовольствия, отсутствие нормального или просто приемлемого жилья. Кроме того, иногда причинами был хаос и бардак, царивший на индустриальных стройках, к которому иностранцы не были привычны.
Зачастую им вставляли палки в колёса, и освоение и использование импортной техники шло медленно. Поэтому не удивительно, что коэффициент полезной работы экскаваторов на Магнитстрое в октябре 1930 – июне 1931 годов составлял лишь 23 %, а на Николаевском заводе из 55 импортных станков лишь три работали с полной нагрузкой (большинство – с нагрузкой в 20–30 %). Впрочем, несмотря на все трудности и сложности, работа иноспецов была достаточно успешной, а их заслуги в СССР негласно всё же признавались. И это было понятно, поскольку без иностранных специалистов времени на индустриализацию ушло бы намного больше.
«При активном участии значительного количества ценных иностранных специалистов и высококвалифицированных рабочих были построены и пущены в ход крупнейшие предприятия (Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Горьковский и Московский автозаводы, Кузнецкстрой, Магнитстрой, Краммашкомбинат, Уралмашзавод, Запорожсталь и др.). В тех случаях, где требуется исключительная точность в обработке деталей, производительность труда инорабочих значительно выше достижений наших работников».
РГАЭ. Ф 7297. Оп. 38. Д. 289. Л. 65–74.
Общее количество иностранных специалистов, прошедших через советскую индустриализацию в 1929–1936 годах пока нуждается в уточнении, поэтому есть смысл говорить лишь об общем порядке цифр. Исходя из ежегодных данных, а также уровня ротации, можно предположить, что в эти годы в структуре НКТП трудилось не менее 10–15 тыс. иностранцев, каждый третий из которых, по всей вероятности, был инженером или технологом. Если брать по национальному составу, то, по мнению ряда американских исследователей, в эти годы в СССР работало от 1,5–2 до 12–18 тыс. американских специалистов. Такой огромный разброс, по мнению исследователя Винсента Бейкера из университета Западной Вирджинии, свидетельствует о крайне скверной системе учёта по трудовой «миграции» из США в СССР. По данным Госдепа США, в 1930 году в СССР трудилось от 700 до 1000 американцев. В статье в издании American Merсury в апреле 1932 года утверждалось, что в СССР задействовано уже до 10 тыс. американцев.
1925–1945 годы – это период советской индустриализации и ленд-лиза. Американцы поставили нам сотни современных заводов, благодаря которым СССР совершил такой индустриальный рывок и выиграл ВОВ. Десятки тысяч американских и немецких рабочих и инженеров трудились на стройках индустриализации. Во время ленд-лиза американцы поставляли нам не только оружие и материалы, но и оборудование и заводы. Например, почти весь нефтяной крекинг во время ВОВ был сделан США.
Далее были репарации из Германии и её союзников. Только заводов и оборудования было вывезено на 5 млрд тех долларов (это примерно 100 млрд нынешних). Ракетная, электронная промышленность были сделаны немецкими инженерами.
И далее шло плодотворное сотрудничество с Западом. Продолжалось строительство их компаниями советских заводов «под ключ» – например, построенный итальянцами АвтоВАЗ. У немцев закупали прокатные станы, оборудование для производства специальной техники.
Если же обратить внимание на детали советского быта 1930‑х годов, то увидим, что в СССР они мало отличались от реалий какого-нибудь 1910 года – не появлялось ничего нового, мебель и прочее делали артели кустарей, никакие промышленные мощности не были задействованы для того, чтобы улучшить жизнь и быт – тогда как, например, в США уже в 1920–30‑е годы у людей в домах появились стиральные машины и телевизоры. Совковая же «индустриализация» касалась, в основном, строительства военных заводов и всего, что было косвенно связано с войной – химической и перерабатывающей промышленности, сталелитейных заводов и прочего подобного.
В сталинских колхозах людям было запрещено иметь собственный тягловый скот, и приходилось в буквальном смысле слова самим впрягаться в плуг, чтобы вспахать немного земли для личного прокорма.
– А советская пропаганда, – вздохнул Аркадий, – трубила все годы о достижениях первых пятилеток, об успехах в соревновании с капиталистическими странами. Эти материалы не только раскрывают нам глаза, но и помогли решить одну загадку. Меня в своё время мучал вопрос, как на Златоустовском машзаводе в измерительной лаборатории оказалось ещё в 30‑е годы высокоточное немецкое оборудование? Теперь всё стало понятно.
– И понятно стало, – добавил Семён, куда уходила сельхозпродукция, отобранная у крестьян. С юридической точки зрения невозможно понять, как можно конфисковать скот, зерно у всего населения? Это же бандитизм в государственном масштабе! И эта отобранная бандитскими методами продукция, оказывается, шла на оплату иностранного оборудования.
– И этих средств ещё оказалось мало, начали распродавать другие ценности.
На рубеже 1920–1930 годов советское государство спешно распродавало за границу уникальные музейные сокровища мирового уровня. Была ли эта беспрецедентная акция большевистской власти оправдана интересами нашей страны? Есть ли шанс у современной России когда-нибудь вернуть художественные ценности, проданные на Запад при Сталине? Обо всём этом рассказала доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Юлия Кантор.
– Зачем в СССР в конце 1920‑х годов началась распродажа художественных ценностей из коллекции Эрмитажа? Стало ли это естественным продолжением кампании по продаже церковных и прочих ценностей в начале 1920‑х годов?
– Да, между этими событиями есть прямая связь. Первые попытки продать национализированные художественные ценности советская власть предприняла ещё в 1921 году – кстати, ровно сто лет назад. Когда в стране начался страшный голод, представители дореволюционной интеллигенции создали Всероссийский комитет «Помгол», а советское правительство, в свою очередь, организовало ЦК Помгол во главе с Калининым. И быстро стало очевидно, что неправительственный ВК Помгол был более успешным в деле помощи миллионам голодающих.
Этого новая власть стерпеть не могла, потому его разогнали, а часть наиболее заметных деятелей репрессировали, обвинив в связях с заграницей. В 1922 году советская власть выслала их из России на печально известных «философских пароходах» вместе с другими лучшими представителями русской интеллигенции. Я бы рассматривала это в рамках одной парадигмы: большевики не ценили ни историю страны, ни её наследие – духовное и материальное. «Чуждых», то есть критично относившихся к власти (но, несмотря на это, готовых сосуществовать с ней, принося пользу стране), следовало выслать, «царское» искусство – продать.
Что касается ограбления Русской православной церкви и других действовавших в нашей стране конфессий, то и это тоже было, как мне представляется, одним из существенных аспектов государственной политики по борьбе с инакомыслием. Заметим, до сего дня не известно, какой процент из средств, вырученных на распродажах художественных ценностей, действительно пошёл на нужды голодающих.
Зато, увы, известно, в том числе по публикациям масс-медиа, какой урон это нанесло международному престижу нашей страны. Если бы власть действительно хотела решить проблему голода, то она гораздо лояльнее отнеслась бы к гуманитарным неправительственным (в том числе международным) объединениям. Но идеология довлела над экономикой – и это станет отличительной чертой советской власти на всех этапах её существования.
В пик голодной стихии – 7 февраля 1921 года – вышло постановление Совнаркома «О составлении государственного фонда ценностей для внешней торговли». Парадоксально, но факт: этот документ, ставший спусковым крючком для массовой распродажи нашего национального достояния, де-юре утратил силу только 1 февраля 2020 года. Согласно ему, ответственными за отбор художественных ценностей для последующей продажи стали наркомат внешней торговли, наркомат просвещения и наркомат финансов.
Этот документ был подписан лично Лениным, ведь он тогда стоял во главе Совнаркома. Если говорить про Эрмитаж, то в то время большевики продали не только многие его ценности, ранее принадлежавшие бывшей императорской фамилии. На реализацию шли и предметы из других национализированных собраний и коллекций, оказавшихся в Эрмитаже после революции.
В 1922–1923 годах в Эрмитаже действовала специальная комиссия, которая составила специальные каталоги, а все его экспонаты разделила на три категории:
– не имеющие музейного значения и подлежащие сдаче в Гохран,
– имеющие музейное значение,
– имеющие исключительную художественную ценность.
Ближе к концу 1920‑х годов, когда начались уже заграничные аукционы, предметы из разных категорий нередко смешивали. Для шедевров русской культуры это имело чудовищные последствия.
В Эрмитаж приезжали сотрудники государственной конторы «Антиквариат» в сопровождении чекистов и отбирали на продажу понравившиеся им экспонаты, просто указывая на соответствующие инвентарные номера.
Нельзя сказать, что в «Антиквариате», который занимался сбытом нашего национального достояния за рубеж, совсем не имелось искусствоведов.
Там работали и люди, разбиравшиеся в искусстве, специалисты с дореволюционным стажем. Но в «Антиквариате» решения принимали в основном не они, а партийные функционеры. Особая искусствоведческая и психологическая катастрофа состояла ещё и в том, что тогда составлялись планы на продажу экспонатов.
И в зависимости от их выполнения Эрмитаж получал финансирование на реставрационные работы и зарплаты своих сотрудников. Если вдуматься, то это была просто чудовищная ситуация. То есть музей существовал, продавая самое себя…
Придумало проводить эти злосчастные заграничные аукционы Политбюро ЦК ВКП (б). В этом можно убедиться, если посмотреть на соответствующий протокол заседания Политбюро от 16 августа 1928 года, где содержится информация о создании комиссии для «срочного выделения для экспорта картин и музейных ценностей на сумму 30 миллионов рублей».
Подготовкой этих аукционов занималась немецкая фирма «Лепке». Первый из них состоялся в Берлине в ноябре 1928 года. Позже аукционную распродажу ценностей из Эрмитажа и других советских музеев большевики устроили также ещё и в Швеции, Австрии и Швейцарии.
Но ни один заграничный аукцион по продаже художественных ценностей не принёс тех денег, на которые рассчитывала советская власть. Сказалась скандальная атмосфера – ведь на аукционах в Германии эмигранты, в том числе весьма именитые (например, Юсуповы), узнавали сокровища своих оставленных на Родине коллекций. Это не могло остаться незамеченным, в том числе и в юридическом смысле. Были и суды, но они заглохли: Германия ведь признала Советскую Россию и, следовательно, национализацию.
Так что иски бывших владельцев были отклонены, но, как говорится, осадок остался. Да и вообще: какой смысл было платить дорого, если можно было добиться того, чтобы купить почти за бесценок? Многие шедевры уходили зарубежным коллекционерам или в музеи по очень низким ценам. А некоторые, к счастью, вовсе не были проданы и вернулись в Россию.
Какой был масштаб потерь для русской культуры? Невосполнимый. Наша страна навсегда лишилась 48 шедевров мирового значения из коллекции Эрмитажа. Как, например, определить стоимость потерянных нашей страной работ Рембрандта, Рубенса, Ван Эйка или Ван Дейка?
Главной гордостью Эрмитажа всегда была голландская коллекция. Но после распродаж наша страна лишилась всех картин Яна Ван Эйка. Сейчас в России их нет совсем. У нас были четыре произведения Рафаэля, а теперь остались только два.
Лишь случайность спасла от продажи на Запад картину Рафаэля «Мадонна с безбородым Иосифом». Её не купили только из-за того, что картину переложили с дерева на холст, что в то время ценители искусства не любили. То же самое едва не случилось с другим шедевром – полотном Рембрандта «Возвращение блудного сына», которое, слава богу, оказалось слишком большим для транспортировки за границу.
Эрмитаж в своё время сделал мужественный и исторически важный проект. Он договаривался с музеями, где находятся картины, «происходящие» из Эрмитажа, и привозил их на выставки. Чтобы люди увидели то, что было национальным достоянием – увы, проданным с молотка… Очень назидательный был проект.
Причём в то время из экспозиции Эрмитажа на реализацию за рубеж изымали не только картины, но и другие произведения искусства. Именно тогда наша страна лишилась части бесценной коллекции скифского золота, которая теперь хранится в Оксфорде и Кембридже. Как я уже сказала, на Запад ушли и другие, не эрмитажные ценнейшие коллекции. Многие крупные музеи сильно пострадали в результате кампании по распродаже ценностей.
Но потери русской культуры могли быть ещё больше. Как ни странно, нам помогла Великая депрессия, начавшаяся в США в 1929 году. Мировой экономический кризис обрушил глобальный рынок антиквариата.
Что касается Меллона (министр финансов США и миллионер), то он, будучи миллионером, приобретал наши шедевры для личной коллекции. Известно, что только в 1930–1931 годах он купил в СССР 21 картину высочайшего художественного уровня. Он отбирал все эти шедевры по «аукционному» каталогу 1923 года, а потом в Эрмитаж приходили телеграммы от наркома просвещения Андрея Бубнова с требованием удовлетворить запросы Меллона.
Но потом у него начались серьёзные проблемы на родине. В 1932 году выяснилось, что Меллон не заплатил налоги на астрономические суммы. Как обычно бывает в подобных случаях в Америке, разразился большой скандал, его немедленно сняли с должности министра. Чтобы не попасть в тюрьму, Меллону пришлось всю свою коллекцию отдать в дар американскому народу. Он основал в Вашингтоне Национальную галерею искусства, значительная часть экспонатов которой состоит из шедевров, проданных Меллону из собрания Эрмитажа.
В Национальной галерее искусства в Вашингтоне не указано, что многие её экспонаты раньше хранились в русском Эрмитаже. И подобная порочная практика, к сожалению, существует и в других зарубежных музеях, в которых оказались наши художественные ценности, проданные на рубеже 1920–1930 годов. Конечно, это некорректно. Впрочем, надо заметить, что далеко не во всех российских музеях, как и в музеях всего постсоветского пространства, есть указания о том, кому принадлежали их экспонаты до 1917 года.
И в Музее Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне, другом крупнейшем заграничном хранилище проданных сокровищ Эрмитажа, такие указания не существуют.
Их практически нигде нет, разве что в специализированных каталогах. Провенанс (информация о происхождении) существует в документах, имеющихся в музейных фондах, разумеется. Но не в подписях к экспонатам в залах. Гюльбенкян, кстати, тоже был крупнейшим скупщиком российских художественных ценностей.
Но сейчас я хочу обратить внимание на другой важный нюанс. Помните фильм советского режиссёра Эдмонда Кеосаяна «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», где доблестные юные чекисты противостоят злым и карикатурным белоэмигрантам, якобы пытающимся выкрасть из советского музея Большую императорскую корону?
Мне он нравится. Хотя бы потому, что в нём очень много смелых по тому времени подтекстов. В частности, прекрасную и в высшем смысле патриотическую песню «Русское поле» поёт белогвардейский поручик. Так вот: там есть эпизод, когда экскурсовод в музее произносит очень необычный для советского времени монолог:
«В стране ещё голод и разруха. Не продать ли всё это? Сменять на сахар, хлеб, одежду. Нет – вы это не сделаете никогда. Вы должны сохранить сокровища, потому что они неотделимы от истории нашей, истории беды и величия России».
Создатели фильма посчитали нужным эту позицию обозначить хотя бы таким образом: ведь и тогда невозможно было говорить о том позоре 1920–1930 годов… Кстати, экспонаты из музейных фондов в то время советская власть реализовывала не только за границей, но и на аукционах внутри страны.
Тут уже вспоминается сюжет «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова.
Да, там очень чётко описано, как всё это происходило. Например, в Ленинграде одна из подобных торговых точек находилась непосредственно в Зимнем дворце. Этот аукцион весьма активно работал. Эрмитажные исследователи, например, обнаружили, что на одном таком аукционе кооператив сотрудников ОГПУ приобрёл полотно под названием «Вера, надежда, любовь». Я сразу представила, как эта картина смотрелась в кабинете следователя…
Конечно, сотрудники Эрмитажа сопротивлялись распродажам, нередко рискуя не только свободой, но и жизнью. Для этого они использовали разные способы. Иногда, пользуясь художественной безграмотностью работников «Антиквариата», музейщики отдавали им не те полотна, которые те требовали, а похожие.
Были и другие ухищрения. Но когда люди из «Антиквариата» вооружались каталогом фирмы «Липке», где каждый предмет из коллекции Эрмитажа имел не только наименование, но и инвентарный номер, противостоять этому было невозможно.
Тогда в ход пошли письма самому высокому начальству. В 1932 году директор Эрмитажа Борис Легран предложил своему заместителю Иосифу Орбели написать Сталину пистьмо с просьбой оградить от распродажи сектор Востока Эрмитажа. Легран отправил это послание через секретаря ЦИК Авеля Енукидзе, которого хорошо знал.
Енукидзе в тот период был у вождя в фаворе. Не знаю, это ли сыграло свою роль или какие-либо иные факторы, но вскоре из Кремля пришёл положительный ответ, который музейщики Эрмитажа использовали как охранную грамоту для восточной коллекции.
Но главный удар распродаж был нанесён не восточному искусству, а западноевропейскому. И тут защиты от посягательств сотрудников «Антиквариата» не имелось, хотя после ответа Сталина на письмо Орбели сотрудники Эрмитажа пытались отнести к сектору Востока многие предметы западноевропейского искусства. Но однажды заведующая отделом Запада Татьяна Лиловая случайно увидела на столе одного из руководителей «Антиквариата» список эрмитажных реликвий, готовившихся к продаже за границу.
Среди них были «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи (это единственная его работа, хранящаяся в нашей стране!), «Хозяйка и служанка» Питера де Хоха, «Юдифь» Джорджоне (это тоже единственная его картина в России) и ещё несколько шедевров аналогичного уровня. Лиловая от увиденного пришла в ужас и написана ещё одно письмо Сталину.
Текст она сформулировала, умело используя в нём официозную советскую риторику, написав, что лишить Эрмитаж и страну этих картин равносильно тому, что вычеркнуть имя Сталина из истории партии. Отклика не последовало.
В 1933–1934 годах эти позорные заграничные распродажи постепенно прекратились. К тому времени мировая экономика ещё не оправилась от Великой депрессии. В условиях низких цен на драгоценные металлы и антиквариат больших доходов от этих распродаж не было, но, как мы уже говорили, они приносили нашей стране тяжелейший репутационный ущерб на международной арене. Кроме того – и это главное – пропала необходимость. Страна всё же выбралась из разрухи 1920‑х.
В истории известны случаи, когда императоры или министры продавали части свои коллекций. Подчеркнём – своих, не государственных. Но всегда, и в дореволюционной России в том числе, считалось, что покупка художественных ценностей, сокровищ искусства – признак могущества государства.
Именно этим принципом руководствовалась Екатерина Великая, когда после Семилетней войны купила в Германии коллекцию картин, чтобы «утереть нос» Фридриху II, который изначально намеревался их приобрести, но не смог из-за оскудения казны. Русская казна тоже была пустоватой в тот момент, но императрица прагматично решила, что эффект от покупки дороже денег. И она оказалась права.
Кстати, именно это собрание стало «закладным камнем» основанного ею в 1764 году Эрмитажа. Вот такая историческая антитеза – Екатерина в сложный период для страны покупала искусство на Западе, а большевики в период кризиса его туда продавали.
Сейчас до сих пор немало персонажей, пытающихся оправдать эти сталинские распродажи российского культурного достояния на рубеже 1920–1930‑х годов нуждами индустриализации или необходимостью повысить обороноспособность нашей страны накануне грядущей войны.
Пусть найдут в себе интеллектуальные силы изучать и анализировать историю по различным подлинным документам, а не по советским изданиям материалов съездов КПСС, «Краткому курсу ВКП (б)» и им подобным.
Почти никогда нельзя сказать, все документы рассекречены и доступны или нет, поскольку неизвестно, сколько их и в каких архивах они находятся. Но большое количество материалов в постсоветское время опубликовано и открыто исследователям. В своё время Эрмитаж, например, вёл серьёзную работу, связанную с публикацией документов о распродажах. Эта работа важна и для искусствоведов, и для исследователей советского периода нашей истории, да и для всех, кто хочет знать прошлое своей страны, а не «питаться» мифами.
Вышло несколько томов с документами в серии «Эрмитажные распродажи». Но в одночасье, в 2016 году, эта деятельность была «заморожена». В музее о причинах этого говорят подчёркнуто невнятно и глухо, о возможности возобновления публикации документов – тоже. И эта пауза, затянувшаяся на пять лет, наводит на невесёлые мысли…
Я уже говорила, что ущерб, нанесённый нашей культуре в 1920–1930 годы, не оценить и не восполнить. Вексельберг смог выкупить пасхальные яйца, потому что они находились в частной коллекции. Но большинство произведений искусства, проданных в 1920–1930 годы, как мы уже говорили, принадлежит крупнейшим мировым музеям. С юридической точки зрения эти музеи владеют ими совершенно законно. Естественно, никто не станет продавать их обратно.
Таким образом, деньги на «сталинскую индустриализацию брались либо с отобранных у «буржуев» и проданных на Запад ценностей, либо с проданного зерна – отобранного у крестьян ценой голода и миллионов жертв. При этом в качестве рабочих строили все эти военные заводы в основном заключённые ГУЛАГа – карта лагерей которого фактически в точности совпадает со сталинскими «новостройками».
По факту – в ходе своей «индустриализации» большевики уничтожили миллионы людей, сгноив их в концлагерях и в оцепленных войсками голодающих сёлах и лишились тем самым нормального будущего – уничтожив генофонд и построив взамен несколько заводов, устаревших через пару десятилетий.
А теперь давайте посмотрим, что было до Сталина и его уродливой «индустриализации». Не идеализируя царскую Россию, нужно признать факты – в начале XX века эта страна довольно быстро развивалась и её промышленные мощности росли буквально с каждым месяцем. Беда в том, что сейчас достаточно трудно найти реальную статистику – в советские времена всё было тщательно подчищено и переписано на совковый лад, но даже то немногое, что осталось, впечатляет.
Самое главное и основное отличие – дореволюционное промышленное развитие происходило без жертв, без ГУЛАГа и без убийства и ограбления миллионов – а просто естественным путём, при помощи разумного предпринимательства и частной инициативы.
Следует просто вспомнить, как развивалась цивилизация в начале XX века – здесь Россия шла в ногу с европейскими странами. В городах строились электростанции и проводилось электричество. В домах была горячая вода, ванны и канализация. Более того – сами дома и квартиры были шикарными, многие до сих пор считают доходные дома периода 1900–1917 годов лучшим, что было в городской архитектуре в принципе. Посмотрите на Санкт-Петербург – всё его великолепие было построено не при Петре Первом (как думают многие), при Петре строились 2–3-этажные домики с деревянными балками, и ещё в середине XIX века Петербург был преимущественно деревянным городом. Все его шикарные 5–8‑этажные дома были построены, в основном, в период 1890–1917 годов. В городах появлялись электрические трамваи и телефоны.
А что было на селе? Совки рисуют нам картины ободранных бомжей в лаптях – но так выглядели далеко не все крестьяне. Инициативные люди зарабатывали на селе немалые деньги – вы могли, например, взят кредит, купить технику и обрабатывать свою землю, получая доходы. Техники было полно – к примеру, мотоплуг Штокка (фактически трактор) мог купить любой желающий – за наличные либо в кредит. Делались плуги, кстати, совместым предприятием – в России осуществлялась крупноузловая сборка и сервис.
Ещё верите в сказки, что впервые комбайн на селе увидели только при коммуняках?
Фирма «Артур Коппель» – совместного российско-германского предприятия, выпускала очень сложные машины – от паровозов до камнесверлильных аппаратов. По тем временам – это вершины технического прогресса.
Локомобили, аэропланы и гидропланы. В СССР рассказывали сказки, что самолёт изобрели чуть ли не в совке, замалчивая тот факт, что в Первую мировую войну у России уже был собственный воздушный флот.
Очень важный момент, который также необходимо понять, – развитие промышленной и военной техники в дореволюционные годы шло в ногу с остальными европейскими странами, создавалось множество СП и собственных предприятий, и, что ещё очень важно, – это никак не мешало развитию бытовой техники и полезных вещей для людей. В свободной продаже были автомобили, велосипеды, печатные машинки, граммофоны, телефоны и все другие новинки.
После переворота большевики просто отобрали и переименовали старые царские заводы – например, фабрику галош «Треугольник» переименовали в «Красный треугольник» – и тем самым это моментально стал «советский» завод. А позже стали заказывать строительство заводов (в основном, военных) на Западе – будучи не в состоянии самостоятельно что-то построить, большевики могли только приглашать иностранных специалистов за отобранные у ограбленного народа деньги.
Без совка и сталинизма всё было бы только лучше – всё развивалось бы естественным путём, без «раскулачиваний», без миллионов жертв и без бесплатных рабов из ГУЛАГа.
Как сооружались «сталинские объекты индустрии», можно рассмотреть на примерах.
Наблюдая всё нарастающий за последние годы поток претензий и ненависти со стороны части жителей Украины в адрес России, хочется услышать от таких громадян конкретные примеры – чем же им насолили соседи-россияне в союзные времена? Но понимая, что ответы получить не удастся, попробуем пойти методом «от обратного» и взглянем на то, чем пожертвовала в своё время «большая» Россия ради украинских успехов в развитии. Весьма красноречивый пример – создание одного из флагманов энергетики нынешней Незалежной.
Когда слышишь высказывания тамошних политиков, обвиняющих наше государство в вековом притеснении украинцев, возникает желание воскликнуть: «Мы же для вас во времена СССР столько хорошего сделали, порой себе, то есть России, в ущерб; а вы теперь нас же и мордуете!»
Среди самых значительных российских жертвоприношений на украинский алтарь можно упомянуть историю почти вековой давности, связанную со строительством ДнепроГЭСа – легендарной электростанции на Днепре.
История этого грандиозного гидротехнического проекта начинается с первых лет советской власти. Ещё в раннем, «ленинском» плане ГОЭЛРО предполагалось построить крупную гидроэлектростанцию в районе Запорожья. Однако тогда приступить к осуществлению задуманного не удалось: у Страны Советов, разорённой годами войн и революций, просто не было средств и технических возможностей. Ленин до воплощения смелого плана «оседлать днепровские пороги» не дожил. Но уже вскоре после его смерти у идеи строительства ДнепроГЭСа появился новый весьма влиятельный сторонник – Троцкий.
Тут в ситуацию вмешалась партийно-идеологическая борьба: набирающий силу в руководстве страны Сталин, оппонируя «пламенному Льву» по большинству вопросов партийного и государственного развития, заодно ополчился и на продвигаемую им идею днепровской гидроэлектростанции: «Товарищ Троцкий думает подхлёстывать наши центральные учреждения… преувеличенными планами промышленного строительства. Но преувеличенные планы промышленного строительства – плохое средство для подхлёстывания. Ибо что такое преувеличенный промышленный план? Это есть план, составленный не по средствам, план, оторванный от наших финансовых и иных возможностей».
Споры вокруг проекта новой гидростанции усугубляла география. Ведь новый энергетический гигант должен был появиться на территории Украинской ССР, а потому здешние республиканские власти очень ревниво относились к задержкам в принятии решения. Дело дошло до внутрисоюзного противостояния: УССР ратовала за то, чтобы в качестве приоритетного проекта для всей страны был выбран ДнепроГЭС, а руководители РСФСР настаивали на «российском» варианте «главной стройки социализма» – прокладке Волго-Донского канала. При этом союзное руководство спорщикам объясняло, что одновременно вытянуть две столь грандиозные строительные эпопеи СССР не сможет.
Впрочем, ситуация сдвинулась вскоре в нужную именно украинским товарищам сторону. К концу 1926‑го партийная верхушка во главе со Сталиным изменила свои взгляды на «днепрогэсовский» вопрос. На состоявшейся осенью 1926 года XV партконференции ВКП (б) был провозглашён инициированный Иосифом Виссарионовичем тезис «о построении социализма в отдельно взятой стране». Но для такого «построения» необходимо ускорить развитие промышленности в Союзе, что в свою очередь требовало достаточного обеспечения электроэнергией. Поэтому, вроде как «забыв» о существовании прежних предложений Троцкого, вместо них выдвинули уже «сталинский» вариант, который пошёл в народ призывом «Даёшь ДнепроГЭС!».
31 января 1927 года Политбюро приняло решение о строительстве на Днепре новой, самой мощной советской электростанции, вслед за тем соответствующий документ был подписан в Совнаркоме. Сооружение ДнепроГЭСа получило статус первоочередной стройки в СССР. Что же касается проекта-конкурента, предлагавшегося на территории РСФСР, – прокладки судоходного канала между Волгой и Доном, – то его отложили на более позднее время (в итоге «Волго-Дон» был открыт лишь в начале 1950‑х).
Естественно, начиная грандиозное строительство, учли административное его подчинение. Курировать работы должны были республиканские власти Украины. В ноябре 1926‑го Политбюро ЦК КП (б) У образовало Комитет содействия Днепрострою во главе с руководителем правительства УССР Власом Чубарём.
Однако участие в ударной стройке приняли рабочие не только с Украины, но и из многих других областей и республик Союза. Значительную часть составляли комсомольцы-добровольцы, приехавшие возводить гигант советской энергетики со всей страны по путёвкам своих райкомов.
К возведению плотины на Днепре приступили уже весной 1927 года. 98 лет назад, в начале марта, прогремели первые взрывы, которыми рушили скальные выступы на месте будущей гидростанции.
Для осуществления масштабного гидротехнического проекта требовались немалые финансовые средства. Рассчитывать только на союзный бюджет кремлёвские руководители не могли. Поэтому в стране один за другим были организованы несколько выпусков государственных займов «индустриализации». Во всех республиках жители городов и посёлков «добровольно-принудительно» отдавали весьма значительную часть своей зарплаты на покупку облигаций этих займов (расплачиваться по ним государство начало лишь многие годы спустя).
Но и этого было мало. В Советском Союзе развернули мощную агитационную кампанию в поддержку намеченного строительства. Повсеместно на предприятиях, в организациях проводили собрания и митинги, на которых безоговорочно принимались решения об отчислении работниками части своего заработка в фонд строительства новой ГЭС на Днепре. Только за пару месяцев, к 1 апреля 1927‑го, в такую «всесоюзную копилку» поступило более миллиона рублей.
Впрочем, на фоне общих затрат на сооружение украинского ДнепроГЭСа эта сумма выглядит очень скромной. В итоге реализация всего днепровского проекта потянула, по некоторым данным, более чем на 300 миллионов.
Сооружение мощной гидроэлектростанции, не имеющей аналогов в стране, требовало привлечения высококвалифицированных специалистов, часть которых пригласили из-за рубежа. Основными западными партнёрами, участвовавшими в строительстве, были германская компания Siemens и американская Cooper Engineering Company.
Их инженеров и мастеров, прибывших на днепровскую стройку, поразило увиденное здесь: бригады рабочих трудились с энтузиазмом, но при этом «доисторическими» методами. Основными «агрегатами» были лопаты, тачки, носилки.
Впрочем, при помощи такого примитивного арсенала можно было выполнить лишь часть работ. А вот когда очередь дошла до установки технического оборудования, ресурсы, которыми располагала Страна Советов, оказались недостаточными. Здесь было не обойтись без импортных поставок.
В итоге из США на ДнепроГЭС привезли несколько построенных по заказу СССР мощных гидротурбин, из Германии – высоковольтные трансформаторы, из Чехии – металлоконструкции…
За всю эту технику и оборудование необходимо было платить «капиталистам» в валюте. Но где же нищей Советской России раздобыть заветные доллары-марки-фунты стерлингов?
Основными товарами советской экспортной программы в ту пору были нефть, древесина и, главное, зерно. Именно за счёт продажи в Европу пшеницы Советам удавалось получать большую часть валютной выручки. Составы с зерном гнали и гнали на запад, объёмы таких поставок наращивали в ущерб собственным гражданам: по стране вновь начал гулять призрак голода. Но даже этих «хлебных» денег не хватало на закупку всего импортного оборудования, необходимого для реализации программы индустриализации: ведь помимо ДнепроГЭСа в СССР возводилось и ещё несколько крупных промышленных объектов: Сталинградский и Челябинский тракторные заводы, Магнитка – металлургический комбинат на Урале…
Требовалось найти дополнительный источник поступления валюты. И кремлёвские власти его нашли. Было решено предложить «богатеньким буржуинам» очень востребованный у них товар: произведения искусства из коллекций крупнейших российских музеев. Тогда и началась распродажа художественных ценностей, о которой говорилось выше.
Искусствоведы называют эту торговую эпопею, растянувшуюся на пять лет, «трагедией и катастрофой».
Дополнительную остроту описываемым событиям придаёт тот факт, что зачастую большевистские торговцы прекрасным, желая поскорее получить деньги, откровенно демпинговали. Вот лишь один красноречивый пример: на берлинском аукционе 1928 года было продано 122 ценнейших предмета из коллекции Эрмитажа, за них в общей сложности удалось получить сумму, эквивалентную немногим более 350 тысяч рублей. Одна из немецких газет, описывая устроенный благодаря Советам аукционный переполох, озаглавила посвящённый очередным торгам материал так: «Большие имена, маленькие цены».
Итак, Москва и Ленинград заметно обеднели, лишившись части своих уникальных музейных сокровищ. Зато полученная за эти артефакты валюта очень пригодилась для покупки импортного оборудования для строящихся по программе 1‑й пятилетки промышленных гигантов.
Одной из таких «ударных строек социализма» стал украинский ДнепроГЭС. Пуск первого генератора станции приурочили к «красной дате календаря» – первомайскому празднику 1932 года.
Благодаря новой мощной гидроэлектростанции преобразилась жизнь на юго-востоке Украины. Энергия, вырабатываемая турбинами и генераторами ДнепроГЭСа, была направлена на промышленные предприятия Запорожья, Донбасса, Днепропетровска, Кривого Рога… Электричество пришло и во многие украинские сёла и посёлки. Кроме того, при помощи сооружённой огромной плотины удалось поднять уровень воды в Днепре, скрыть его опасные пороги, в результате река на большем своём протяжении стала судоходной. 1 мая 1933 года через шлюз Днепровской ГЭС прошёл вниз по течению первый рейсовый пароход новой пассажирской линии Киев – Херсон.
Практически все эти достижения времён ударной советской индустриализации сохранились до наших дней. После распада СССР они достались Украине. И сейчас, глядя на исполинскую бетонную дугу ДнепроГЭСа, людям, которые живут в этом независимом государстве, не стоит забывать, какой ценой была построена днепровская красавица-гидростанция. В её создание вложили свой самоотверженный труд тысячи строителей-добровольцев, приехавших на берега Днепра из разных уголков огромной России. На её сооружение и оснащение пошли деньги из общего бюджета Советского Союза, из взносов простых граждан – это деньги, сэкономленные на благополучии и здоровье не только самих украинцев, но и русских, белорусов, татар, казахов, башкир…
А ещё при упоминании о ДнепроГЭСе не надо забывать, громадяне, о тех утратах, которые понесли почти 100 лет назад крупнейшие российские художественные музеи, в том числе и ради строительства этой гидроэлектростанции. Да, потери были вынужденные, «по приказу сверху», но от этого они не становятся менее ощутимыми.
Взгляните на Днепровскую плотину и почувствуйте, что за её могучими конструкциями мелькают миражи ушедших от нас величайших шедевров: рафаэлевской «Мадонны», «Волхвов» Боттичелли, «Венеры» Тициана… Почувствуйте и задумайтесь – это ведь именно «плохие» русские принесли такую жертву ради будущего благополучия вашей страны.
В 1930 году сотрудники «Антиквара», почти исчерпав музейные резервы двух столиц, отправились на гастроли в провинцию. За Уралом их внимание привлекла Научная библиотека Томского университета. В апреле 1930 года в город прибыла «ударная бригада» из трёх ленинградских товарищей, которые должны были оценить и изъять часть раритетов научки. Надо сказать, что контора по экспорту антиквариата пользовалась всяческой поддержкой другой могущественной конторы – ОГПУ. Поэтому в Томске перед дорогими гостями были открыты все двери, в том числе железная дверь кабинета графических искусств, где хранилась Строгановская библиотека, состоявшая (на момент прибытия «бригады») из 24 тысяч томов. Именно это собрание оказалось главной целью ленинградских визитёров.
– Строгановская библиотека была подарена основателю Томского университета Василию Флоринскому, который провёл переговоры с наследниками графа Григория Строганова, русского дипломата и общественного деятеля, – рассказывает Валерия Есипова, заведующая сектором изучения и раскрытия фонда НБ ТГУ. – Строганов бóльшую часть жизни провёл за границей и всю жизнь собирал книги. Будучи франкофоном, он обращал особое внимание на французскую букинистику. После смерти графа его книжное собрание хранилось в упакованном виде в Гостином дворе Санкт-Петербурга. Василий Маркович Флоринский всем наследникам графа говорил примерно одно и то же: когда-то Строгановы покорили Сибирь для московского царя оружием, а теперь пришло время покорять её с помощью культуры. Наследникам эта мысль приглянулась, и они подарили первому сибирскому университету это собрание, содержавшее в том числе средневековые рукописи, Библии XIII века, книги из библиотеки французских королей, на что указывал штемпель фамилии Бурбонов (три лилии в круглом щитке и над ним корона), прижизненное издание писем Вольтера с собственноручными правками и заметками автора, газеты и журналы времён Великой французской революции и много других раритетов.
К открытию университета фонд библиотеки насчитывал свыше 96 тысяч томов. Среди бывших владельцев личных библиотек были графы Строгановы, князья Голицыны, поэт Василий Жуковский, цензор Никитенко и сам Василий Флоринский, который 22 июля 1888 года, выступая на церемонии официального открытия Императорского Томского университета, особо отметил, что:
«Едва ли найдётся другой университет, который ко дню своего открытия обладал бы таким богатым запасом книг по всем отраслям знания, каким в настоящее время обладает Томский университет. Мне особенно приятно указать здесь на эти богатые приобретения, потому что все они составлены из добровольных пожертвований частных лиц, и при этом не одних сибиряков, но по преимуществу ревнителей просвещения из Европейской России».
Именно дарами ревнителей просвещения из европейской России особо заинтересовались «антиквары» из Ленинграда. Путеводителем по томским книжным сокровищам для них была статья «Библиотека гр. Строганова в Томском университете», опубликованная журналом «Русский библиофил» в 1914 году.
Автор статьи сообщал читателям, что «в библиотеке немало “уник”, особых подносных экземпляров, напечатанных на пергамене, принадлежавших лицам королевской фамилии, украшенных оригинальными рисунками иллюстраторов или пробными оттисками гравюр».
Галина Колосова, главный библиотекарь НБ ТГУ, первой опубликовала документы, посвящённые «ограблению научки» в 1930 году (статья Г. Колосовой «История изъятия книжных раритетов из фонда Научной библиотеки Томского государственного университета»). Она предполагает, что строгановское собрание могло бы остаться нетронутым, если бы не «реклама» в «Русском библиофиле», попавшаяся на глаза сотрудникам «Антиквара».
– Мы всегда знали, что когда-то, ещё до войны, из Томска в Ленинград вывезли несколько десятков ящиков с редкими книгами, – рассказывает Галина Колосова. – Но подробности стали известны только в конце 1980‑х годов благодаря папке, которую собрал бывший директор Научной библиотеки Михаил Филимонов. Уходя с должности директора, Михаил Родионович передал в отдел редких книг и рукописей небольшой том, который долгое время хранился у него в сейфе, так как имел гриф «Не подлежит оглашению»… Позднее мне удалось найти в архиве библиотеки ещё несколько документов, с помощью которых была восстановлена картина изъятия книжных раритетов товарищами из ударной бригады. Из-за их действий сильно пострадало не только строгановское книжное собрание, но и библиотека Жуковского, – говорит Колосова.
«Не подлежит оглашению. Томск, 25 апреля 1930 г. Мы, нижеподписавшиеся: Член Штаба Ударной Бригады по выделению и изъятию музейных и Библиотечных ценностей для нужд. экспорта т. Эпштейн Л. З., действующий на основании Мандата Правительственной комиссии т. [Л. М.] Хинчука и Наркомпроса Р. С.Ф.С.Р. от 3 февраля 1930 г. за № 570/С, члены той же Бригады – т. Петровский А. С., т. Шик М. Я., Директор Томской Университетской Библиотеки т. Курдыба Г. И. и представитель Томского Окружного отделения О.Г.П.У т. Батищев – произвели, на основании секретного постановления Совнаркома Р. С.Ф.С.Р. от 6/1–1930 г. (протокол 10/16), обследование книгохранилища Главной библиотеки Томского университета и признали имеющими экспортное значение – книги, рисунки, гравюры и проч., перечисленные в прилагаемых при сём списках на 46 стр[аницах] в количестве 830 номеров, состоящих из 2093 корешков общей ориентировочной оценкой в сумме 185 090 рублей, в чём и составили настоящий Акт».
Бóльшую часть списка составляют издания XVIII в. Из изданий ХVI – ХVП вв. отобрано около 100 названий и все 7 инкунабул, причём два экземпляра – из библиотеки М. В. Сурина, а остальные из строгановского собрания. Своим вниманием члены бригады не обошли и прижизненные издания произведений французских писателей XIX в., таких как О. Бальзак, А. Дюма и др. Ударная бригада писала:
«Нами произведена экспертиза и оценка книг, выделенных из Томской библиотеки и находящихся в помещении Антиквариата. Означенные книги признаны экспортными и оценены на общую сумму руб. 34.500».
Томская профессура тоже выступала против этой спецоперации. Несмотря на то, что мероприятие по отбору книг из фонда библиотеки старались произвести без широкой огласки, представители научной общественности университета попытались противостоять изъятию книг. Профессор Ревердатто (директор университетского гербария) вступился за библиотеку и составил список книг по биологии, которые необходимо оставить в Томске. Причём в своей записке Ревердатто, с профессорской иронией указывая на нелепость совершаемых действий, писал, что научная и преподавательская работа получит серьёзный ущерб и придётся некоторые книги вновь выписывать из-за границы, то есть платить за них валютой. Краевые власти, а Томск входил тогда в Западносибирский край, пытались помешать «ударной бригаде». В своей статье я привожу телеграмму из Новосибирска: «Категорически воспрещается выдача материалов библиотеки Строгановых. Выезжает наш представитель».
Приехавший из Новосибирска представитель Крайисполкома Н. Кутафьев, ознакомившись с актом и списком отобранных книг, также выразил свой протест против изъятия из библиотеки ряда изданий, о чём свидетельствует сохранившийся в архиве документ под названием: «Мотивировка протеста представителей Сибкрая к списку книг, намеченных к изъятию из Томской университетской библиотеки».
В документе перечислялись конкретные издания, против изъятия которых возражал Кутафьев. Но это не помогло.
Из «центра» поступали телеграммы в Томск и Новосибирск с требованием как можно быстрее упаковать и отправить в Ленинград книги, отобранные для продажи за границу.
Книги были уложены в 49 ящиков и стояли в книгохранилище. Их не спешили отправлять, но требования Наркомпроса были жёсткими. Сохранившиеся в архиве библиотеки несколько телеграмм подтверждают это.
Требование «центра», поддержанное авторитетом ОГПУ, было исполнено. Весной того же года в Ленинград из Томска отправилось 49 ящиков с двумя тысячами экземпляров экспортных книг. Примерно 10 процентов Строгановской библиотеки – среди них очень ценные издания, такие как письма Вольтера, 7 книг XVI века и 5 инкунабул, изданных до 1501 года, на заре европейского книгопечатания. Впрочем, неизвестно, насколько ограбление библиотеки Томского университета помогло святому делу сталинской индустриализации. Скорее всего, «Антиквару» не удалось реализовать «уники» из собрания графа Строганова за те деньги, на которые рассчитывало руководство Наркомвнешторга. Массовый выброс на продажу книжного антиквариата сильно «перегрел» европейский рынок. Цены упали настолько, что агенты американских букинистических компаний, активно работавшие в Европе, скупали редкие книги оптом и на вес, а затем получали большую прибыль, продавая их среди библиофилов США и других западных стран.
– Да, впечатляет, – вздохнул Аркадий.
– Но был ещё один способ ограбления населения, – напомнил Семён. – Это Торгсин.
Сегодня в России мало кто знает, что такое Торгсин и какую роль он сыграл в истории страны. Для тех же, кто в сознательном возрасте пережил 1930 годы, Торгсин явление не менее знаковое, чем «Берёзка» для поколения 1970–1980‑х. В представлении обывателя магазины системы «Торгсин» – это возможность обменять серебряные ложки на отрез ткани или кулёк сахара. Но с исторической точки зрения Торгсин сыграл куда более важную роль, чем просто удовлетворение минимальных потребностей населения в трудные для страны годы. Об этой стороне деятельности Торгсина корреспондент журнала «Эхо планеты» Варвара Васильева поговорила с известным экспертом по Торгсину, доктором исторических наук, автором книги «Золото для индустриализации: Торгсин» Еленой Осокиной.
– В вашем фундаментальном исследовании Торгсин предстаёт глобальной, сложной, хорошо организованной политической операцией большевистского руководства СССР, целью которой было путём шантажа полностью реквизировать все накопления народа, собранные за предыдущие 300 лет истории страны. Методом шантажа в вашей книге предстаёт голод, а конечной задачей – получение средств для оплаты невероятной по срокам и масштабам индустриализации страны. Как вы оцениваете суть такого явления, как Торгсин?
– Прежде всего не понятно, почему создалось такое впечатление от книги. На самом деле я не думаю, что создание Торгсина было спланированной, организованной и продуманной операцией. Если читать исследования по 1930 годам по любой теме – по коллективизации, индустриализации, – то в каждом из них авторы подчёркивают, что организация и планирование шли на ходу. Никаких заранее продуманных калек, чертежей, проектов не было.
Такая же ситуация была и с Торгсином. Он во многом был государственной импровизацией на тему голода. Это время ведь было не только периодом выживания людей, но и периодом выживания советского государства, которому надо было проводить индустриализацию с пустым карманом.
Я не хотела в книге показать, что Торгсин был подготовленной спецоперацией, что некий злой гений заранее продумал методы шантажа населения. Такие выводы скорее – домыслы читателей. Когда занимаешься Торгсином, становится очевидно, что в его работе было много пробелов, ошибок, ляпсусов, упущенных возможностей для государства. Книга показывает, что Торгсин всё время запаздывал, не опережал, а шёл вслед за развитием событий.
Поэтому ещё раз повторю: эта операция не была организована, не была продумана. Сама идея, витавшая в воздухе, о том, что можно допустить советских людей в Торгсин – до 1931 года это учреждение торговало только с иностранцами – была высказана директором одного из московских магазинов. Он не был изобретателем Торгсина, но первым предложил обменивать товары на бытовое золото, лом, драгоценности. Но даже после того, как он высказал эту идею, её осуществление полгода буксовало в бюрократических инстанциях.
И как окончательный продукт, Торгсин был результатом участия двух сторон: не только государства, которое хотело получить ценности для финансирования индустриализации, но и людей, которые приспосабливали Торгсин под себя, подсказывали советской власти, что ещё у них можно забрать. Ведь сначала правительство разрешило приносить в Торгсин только золотой чекан – царские монеты, а с декабря 1931 года – бытовое золото. Но ни серебро, ни бриллианты, ни платину, ни произведения искусства Торгсин вначале не принимал. Решения о приёме в Торгсине этих ценностей запоздали. Если бы торгсиновская идея действительно изначально была продумана, то, наверное, сразу бы разрешили приносить всё.
– То есть Торгсин – это импровизированная чрезвычайная мера в условиях разразившегося в стране финансового кризиса?
– Да. Это действительно была чрезвычайная мера, во многом даже компромисс: идеологический и экономический. Торгсин ведь на деле был предпринимательством, и в качестве главного предпринимателя здесь выступало пролетарское государство. Это была грандиозная спекуляция, проводимая в то время, когда спекуляция по закону считалась преступлением. Торгсин был компромиссом, «поступлением принципами»: отказ от принципа государственной валютной монополии, отступление от классового принципа – всё это было нехарактерно для того времени.
В этой импровизации были и упущенные возможности, и много ошибок. Например, можно было бы открыть скупку золота раньше. Ведь 1932 год был таким же голодным, как и 1933‑й. Однако, если сравнить тоннаж золота, которое принесли в Торгсин люди в эти годы, разница будет огромной: в 1932 году – 20,8 тонны, а в 1933 году в два с лишним раза больше – 45 тонн чистого золота. 1932 год был с точки зрения правительства упущен: Торгсин опаздывал, он начал разворачивать золотую скупку только на второй год голода.
– И всё-таки можно ли на основании проведённого вами исследования утверждать, что голод начала 1930 годов – не только результат коммунистических преобразований в деревне, но и сознательная акция советской власти, вынуждавшая людей отдать последние сбережения в обмен на продовольствие, источником которого был Торгсин?
– Я не поддерживаю идею о том, что голод явился целенаправленным, заранее спланированным деянием государства. Голод, на мой взгляд, был неизбежным результатом того типа индустриализации, который был выбран – индустриализации за счёт обирания деревни, выкачивания оттуда сырья и продовольствия для продажи на мировом рынке за валюту. Как я не считаю, что голод был заранее спланирован, так и не считаю, что Торгсин был заранее продуман и специально организован. И одно из доказательств тому упущенный голодный 1932 год. Если бы власти планировали этот голод, заранее его организовывали, то, наверное, уж позаботились бы развернуть торгсиновскую торговую сеть до 1932 года.
Ещё одно доказательство – запоздалое начало скупки серебра. Одна из возможных гипотез, высказанная в книге: с серебром не торопились, чтобы собрать «золотые сливки». Иначе люди сначала пытались бы решить свои проблемы за счёт сдачи серебра и придерживали бы золото. Но тем не менее, на мой взгляд, советская власть «не добрала» серебра: открой они Торгсин для населения хотя бы на год пораньше, могли бы выручить гораздо больше.
На самом деле голод только создал условия, в которых государство импровизировало, стремясь использовать ситуацию. Повторюсь, я не согласна, что голод был заранее спланирован и подготовлен.
– Позвольте вернуться к тому, что вы назвали «экономическим компромиссом». По сути, советское государство через Торгсин выкачало все ликвидные ценности у населения – золото, серебро, платину. Эффективность работы Торгсина напрямую зависела от экономического положения населения: невозможно выкачивать деньги там, где их изначально нет, как и там, где население не вынуждается к «сдаче» накоплений.
Одним из ключевых источников средств для индустриализации стало изрядно обнищавшее в результате тотальных коммунистических реформ конца 1920 годов население. В этой связи вопрос – что такое индустриализация в вашем представлении? Могла ли Советская власть провести индустриализацию более рационально, в течение более длительного периода, без тяжёлых потерь и надрыва сил населения СССР?
– Конечно, государство могло провести индустриализацию другим способом, но это был вопрос времени. Можно было это сделать на основе НЭПа, смешанной экономики, но такой тип индустриализации потребовал бы гораздо больше времени. Пришлось бы учитывать интересы крестьян как покупателей и производить товары для них: сельскохозяйственные машины, сапоги, ситец – чтобы стимулировать сдачу сельскохозяйственной продукции. Тогда бы процесс аккумулирования средств для индустриализации значительно затянулся бы.
Но – и в этом мнении сходятся все исследователи – советское руководство считало, что времени у него не было. Вожди большевиков, правда, не могли с точностью сказать, с кем они будут воевать: с Англией или, может быть, с Польшей. И только после прихода в 1933 году к власти Гитлера стало понятно – с Германией. Но главное – они были уверены, что война вот-вот начнётся.
– В этой связи как вы относитесь к существующему среди специалистов мнению, что индустриализация 1930 годов осуществлялась с одной целью – создать самый мощный ВПК в мире для последующего вооружённого экспорта коммунистической революции сначала в Западную Европу, а потом – по всему миру? В соответствии с этой точкой зрения невиданные темпы и жёсткость проведения индустриализации вполне объяснимы. Очевидно, что финансировать такие цели и средства их реализации нормальными методами было невозможно. Тогда Торгсин вписывается в перечень циничных чрезвычайных мер, направленных на извлечение из населения всех возможных ресурсов.
– Я вообще не сторонник таких спекуляций, я человек фактов. В моей книге всё основано на цифрах, данных и анализе конкретного материала.
С моей точки зрения, идея мировой революции к середине 1930 годов для сталинского руководства не была первостепенной. Идея «мирового пожара» была одной из ведущих после революции, в начале 1920 годов, тогда на её реализацию было потрачено много денег. В 1930 годы Сталин уже сформулировал тезис о возможности победы социализма в одной стране.
Конечно, идея мировой революции окончательно не пропала, она, несомненно, существовала, но, с моей точки зрения, она ушла на второй, а то и на третий план. Внешняя политика Советского Союза в 1930‑е и последующие годы основывалась в большей степени уже на других принципах: его руководители скорее искали союзников на Западе, чем пытались насильственно экспортировать революцию в другие страны.
Высказанная вами гипотеза, конечно, имеет право на жизнь. Действительно торопились индустриализовывать страну, стать сильными и подготовленными с военной точки зрения. Но, на мой взгляд, советское руководство стремилось к этому не для того, чтобы экспортировать мировую революцию. Скорее, целью было получить возможность в предстоящей войне, по меньшей мере, себя защитить, а по большому счёту – может, что-то ещё и прихватить у других.
Мне кажется, было бы слишком прямолинейно утверждать, что индустриализацию делали в интересах мировой революции. Моя точка зрения, с которой многие могут не согласиться, индустриализацию делали для того, чтобы Советский Союз мог не только выжить в капиталистическом окружении, но и усилиться, и необязательно за счёт мировой революции. Каждое государство имеет свои геополитические интересы, и было бы неверно представлять СССР в качестве единственного агрессора.
В этой связи я бы не стала вписывать Торгсин в идею мировой революции. В книге я вписала Торгсин в реализацию идеи форсированной индустриализации и моё понимание сталинизма. Сталинизм не только коммунистическая идея, идеология и тоталитарный режим, но и система социально-экономических и даже рыночных институтов, как Торгсин. Сталинизм определялся приоритетами индустриализации, целью которой было построение современного технологического общества, способного защитить себя и решить свои внутренние и внешнеполитические задачи.
Думаю, этот путь изначально предполагал необходимость идейных и экономических компромиссов. Советское руководство считало, что в критических ситуациях можно поступиться некоторыми идеологическими и социально-экономическими принципами. Торгсин возник как импровизация в определённых условиях, но как конечный продукт он является частью сталинизма. В нём видны и политические идеи сталинизма, и его методы, а больше всего социально-экономическая составляющая сталинизма – индустриальные приоритеты, подчинение, иногда даже идеологии, интересам промышленного рывка.
Архивные документы, ссылки на которые есть в книге, свидетельствуют о том, что, когда в советских и партийных верхах шло обсуждение идеи Торгсина, ОГПУ выступало против, считая допущение советских людей в Торгсин нецелесообразным. Для ОГПУ такое допущение означало дополнительную «головную боль»: допуск в Торгсин советского человека означал расширение валютных операций в стране, расширение и чёрного валютного рынка, ответственность за борьбу с которым лежала на ОГПУ. Только после того, как Политбюро решило допустить советских покупателей в Торгсин, ОГПУ пришлось участвовать в этой операции. Со временем ОГПУ стало приспосабливать Торгсин под себя – следило за покупателями, выявляя «держателей ценностей», а затем проводило аресты, обыски их квартир и конфискации. В конце концов, сотрудничать с Торгсином оказалось выгоднее, чем конфликтовать.
– Как проходила «сталинская индустриализация» теперь понятно. – заключил Аркадий. – А своими силами в стране в те годы что-нибудь разрабатывалось?
Семён некоторое время вспоминал, а потом воскликнул:
– Вспомнил! В качестве примера собственной отечественной разработки можно рассмотреть советские машины на дровах и шишках.
В автомобилях были установлены газогенераторы, которые производили из древесины генераторный газ, благодаря которому автомобиль и ехал.
Что самое интересное, ни в одном советском фильме вы практически никогда не увидите такой автомобиль – их стыдливо прятали, рассказывая сказки о невероятно растущей мощности коммунизма, а фотографа, снявшего коптящий и чадящий газогенераторный автомобиль на улице города, могли обвинить в «очернении советской действительности».
Советские автомобили и грузовики на дровяном топливе разрабатывались с 1920‑х годов, но массово начали внедряться в тридцатые годы. Зачем вообще в СССР разрабатывалась такая бесперспективная технология? Ведь газогенераторные машины имеют сложные и склонные к поломкам схемы, имеют низкий КПД и неудобство в эксплуатации – водителю постоянно приходится выходить из кабины и «шуровать» горящее топливо, а также подкидывать в топку новые дрова или торфяные брикеты.
В тридцатые годы СССР активно готовился к войне и покорению мира, готовясь также к возможным перебоям с дизельным/бензиновым топливом – и наличие газогенераторных автомобилей могло быть оправданным там, где был дефицит бензина. Танк на дровах не поедет (слишком малая мощность), а вот грузовик – вполне, ну а оставшийся бензин лучше отдать танкам.
Фанаты СССР с гордостью рассказывают истории, как в годы войны советские машины на дровах массово использовались «в условиях нехватки топлива», забывая добавить, что использовались они в основном на Колыме, где никакого фронта не было, а были только концлагеря ГУЛАГа.
Эксплуатация советского автомобиля на дровах была трудным и малоприятным делом. Во-первых, всё автомобильное газогенераторно-дровяное хозяйство весило примерно 200–300 кг, и это без учёта веса дров или другого сухого топлива – всё это намного снижало грузоподъёмность автомобиля.
Во-вторых, очень неудобным был сам процесс эксплуатации. Вот вы топили когда-нибудь камин? За ним надо постоянно следить – подбрасывать дрова, поворачивать их, чтобы лучше горели, следить чтобы дрова были хорошо уложены и был в топке нормальный приток воздуха. Примерно то же самое делал и водитель газогенераторного авто – нужно было часто останавливаться и проделывать все вышеуказанные процедуры. Кстати, сам запуск генератора перед стартом поездки занимал не менее 15 минут.
В-третьих, двигатель бы чрезвычайно маломощным, а сама система была подвержена постоянным поломкам. Нередкой была ситуация, когда водитель просто стоял на обочине и пытался понять, что произошло с чадящим и дымящим чудищем и почему оно никак не хочет ехать дальше.
В-четвёртых, пробег. На одной (полной) заправке бака газогенератора твёрдым топливом (дровами, торфом, брикетами прессованной соломы и так далее) автомобиль ехал всего около 60–80 километров, после чего требовал полной загрузки топлива. На практике же рекомендовалось подкидывать дрова с опустошением бака примерно наполовину. То есть каждые 25–30 км дороги водитель вынужден был останавливаться и «лезть в печку».
Для эксплуатации советских машин на дровах в СССР издавались целые книги, в которых подробно описывался весь процесс. Так, например, в 1956 году была издана книга под названием «Пособие для шофёра третьего класса», целый раздел в которой посвящён дровяным автомобилям.
Последний новенький газогенераторный советский автомобиль сошёл с конвейера в 1956 году, ну а ездил он ещё как минимум 10 лет – то есть последние газогенераторные автомобили доживали свой век где-то в шестидесятые-семидесятые годы. А за рубежом в те годы уже выпускались прекрасные автомобили.
По воспоминаниям очевидцев, в семидесятые можно было нередко увидеть коптящий «газген» в советской глубинке, и не удивительно, если ещё и в восьмидесятые годы они успешно использовались. Ну а там и СССР кончился.
Как известно, 11 октября 1920 года вышел декрет Совнаркома об отмене некоторых денежных расчётов. В ноябре его дополнил декрет об упрощении денежного обращения, а в декабре Совнарком распорядился бесплатно отпускать населению продовольственные продукты и товары широкого потребления.
В советской России наступил коммунизм, но весьма своеобразный, получивший название военного. Государство сделало ставку на свёртывание товарно-денежных отношений, запрет частной торговли и уравнивание в распределении материальных благ. В планы большевиков входил полный отказ от традиционной финансовой системы и от денег вообще, поскольку они «ослепляют невежественные массы». Новая власть решила перевести всё на натуральный обмен и ввести систему распределения.
Уже в октябре 1920‑го была отменена плата за жильё, транспорт и прочие услуги. Видный большевик Юрий Ларин писал, что отмирание денег возрастает по мере возрастания организованности советского хозяйства, а сами деньги утратят своё значение и останутся только тем, чем они являются на самом деле: цветной бумагой. «Наши дети, – говорил он, – выросши, будут знакомы с деньгами уже только по воспоминаниям, а наши внуки узнают о них только по цветным картинкам в учебниках истории». К возможно более быстрому уничтожению денег призывал и Ленин.
Однако теория экспериментаторов не подтвердилась. Без денег экономика существовать не могла. Первые советские рубли были выпущены в 1922 году. Денежные знаки до десяти рублей именовались Государственными казначейскими билетами, а банкноты более высокого номинала – Билетами Государственного Банка СССР. Вскоре
– уже в 1924 году – декретом СНК СССР эмиссия совзнаков была прекращена и вместо них выпущены новые банкноты. Они обменивались по курсу 1 рубль за 5 000 000 рублей образца двухлетней давности или 50 000 000 000 рублей ещё более ранних выпусков. В следующем году была допечатана новая партия банкнот с новым дизайном, в том числе Государственный Казначейский билет на один рубль золотом. Очередное обновление дизайна купюр произошло в 1934 году. Эти банкноты были допечатаны тремя годами позже и, хотя дата отпечатки на них осталась прежней – 1934 год, – с банкнот пропала подпись комиссара финансов. Выпущенные в 1938 году подверглись очередному редизайну, при этом купюры достоинством в один, три и пять рублей не обладали водяным знаком, а на банкнотах большего достоинства номинал указывался в червонцах.
С 19 июля 1937 года Госбанк СССР «привязал» рубль к доллару. Курс американской валюты был установлен на уровне 5,30 рубля за доллар. Этот курс продержался неизменным (с некоторыми нюансами) до 1 марта 1950 года. Далее, в условиях разгоравшейся «холодной войны», в первую очередь с Америкой, Сталин потребовал отказаться от привязки рубля к американскому доллару. Кроме того, для блока социалистических государств нужно было создать финансовую систему, альтернативную капиталистическому миру. Доллар был привязан к золоту, а валюты прочих участников соглашения были привязаны к доллару. Постановление Совета Министров СССР от 28 февраля 1950 года перевело рубль на золотую основу. Золотое содержание рубля составляло 0,222168 грамма золота. С 1 марта 1950 года была установлена покупная цена Госбанка СССР на золото в 4,45 рубля за грамм. Этот курс продержался неизменным до 1960 года. При этом курс доллара был установлен на уровне 4 рублей за доллар.
В 1947 году власти провели ещё одну денежную реформу, новые рубли обменивались на старые в соотношении 10:1. Вместе с этим был видоизменён дизайн банкнот – в связи с упразднением Карело-Финской ССР на ленте герба СССР осталось только 15 витков. Одна из самых значимых денежных реформ состоялась через 15 лет – в 1961‑м. Масштаб цен был изменён в десять раз, а выпущенные банкноты в неизменном виде оставались вплоть до 1991 года. Эта реформа значительно облегчила взаиморасчёты, а округление цен в большую сторону принесло бюджету от трёх до четырёх с половиной миллиардов рублей. Вместе с этим меньший формат купюр обусловил уменьшение себестоимости производства этих банкнот. Последнее существенное изменение дизайна советских рублей произошло уже в ходе перестройки – в 1991 году, когда были выпущены купюры номиналом 50 и 100 рублей, позже к ним были допечатаны купюры номиналом в 1, 3, 5, 10, 200, 500 и 1000 рублей. По сравнению с предыдущими советскими деньгами, отсутствовала только купюра в 25 рублей.
Для советских пролетариев до осени 1929 года воскресенье было выходным днём. Это была награда за шесть трудовых будней. Можно было побыть с семьёй, посетить церковь или заняться уборкой, в конце концов. Но в глазах советского правительства во главе с товарищем Сталиным воскресенье представляло собой угрозу для промышленного прогресса.
Станки простаивали, производительность падала до нуля, а люди привыкали к буржуазному комфорту. Это противоречило идеалам революции, и была введена непрерывная рабочая неделя.
29 сентября 1929 года стало последним воскресеньем, которое было выходным. В следующее воскресенье такой коллективной паузы уже не произошло. Указом правительства Советского Союза 80 % рабочих были отправлены к станку. Дома оставались лишь 20 %. Для всего трудового народа началась практика непрерывного рабочего процесса или семидневной рабочей недели. Теперь дни отдыха попадали вразброс в течение недели. Такой график предложил советский экономист и политик Юрий Ларин. Машины никогда не должны простаивать.
«Непрерывка» должна была произвести революцию в представлении о труде, повысить производительность и сделать религиозное поклонение слишком хлопотным. Всё выглядело прекрасно в теории, но на практике проект потерпел неудачу практически по всем пунктам. В него были внесены некоторые изменения. В 1931 году цикл был продлён до шести дней. В конце концов, после 11 лет проб и ошибок проект был свёрнут в июне 1940 года. Революции в сфере труда не получилось.
Что же представляла собой «непрерывка»?
В отличие от обычной семидневной недели, непрерывная неделя начиналась как пятидневный цикл. Каждый его день был отмечен определённым цветом и символом в календаре. Население было разделено на группы, у каждой из которых был свой день для отдыха. Дни недели, такие родные и знакомые, постепенно потеряли всяческий смысл.
Вместо названия каждый из пяти новых дней был отмечен символическим, политически уместным предметом. Это были: пшеничный сноп, красная звезда, серп и молот, книга и будёновка. Календари тех времён показывают дни, отмеченные разноцветными кружочками. Эти кружочки обозначали, когда нужно работать, когда отдыхать. Это был график посменной работы самого грандиозного масштаба в истории человечества.
С самого начала всё пошло не так, как хотелось. Рабочий класс был страшно не доволен нововведением. Пролетарии писали письма в газеты, в различные партийные организации о том, что такой график сводит на нет весь смысл выходного дня. Люди возмущались: «Что нам делать дома, если наши жёны на фабрике, дети в школе, друзья и родственники на работе? Это не выходной, если нужно просидеть целый день одному дома». Рабочие не просто не могли отдохнуть нормально, невозможно было даже просто собраться вместе с семьёй.
Всё это уничтожало любые экономические бонусы такой системы. Недовольный человек не может полноценно, с полной отдачей, трудиться. Стала страдать и социальная сфера, культура. Невозможность собраться всей семьёй, усложнение практики религиозного поклонения. Праздники полностью исчезли из жизни трудящихся. Вместо этого родилась иллюзия интенсивной работы. Существуют сведения о семейных проблемах, вызванных непрерывной неделей. В те годы стало обычным делом отмечать своих друзей и знакомых в адресных книгах определённым цветом в зависимости от того, когда у них выходной.
Социолог и автор книги «Семидневный круг: История и значение недели», Эвиатар Зерубавель, утверждает, что календарная реформа может быть связана с традиционным марксистским отвращением к семье. Делать семейные ячейки общества менее интегрированными и сплочёнными, возможно, даже входило в сознательную часть повестки дня. В отсутствие технологий, говорит Зерубавель, временная симметрия – это клей, который скрепляет общество. Здесь же не было общего досуга. Без него советской державе было легче разделять и властвовать.
Более вероятно, что «непрерывка» пыталась атаковать другую сферу жизни советских трудящихся. Религиозную. Если бы Советское правительство действительно было озабочено только экономическими потерями, было бы достаточно просто ввести семидневку. При введённом же экспериментальном графике выходных дней в году выходило больше, чем раньше. Может, целью этой атаки было воскресенье, как традиционный день для похода в церковь?
В конце концов жалобы рабочих были приняты во внимание. Чтобы семьям было легче общаться и проводить время вместе, была проведена очередная реформа. В марте 1930 года правительство издало постановление об установлении общих выходных для членов одной семьи.
Теория утверждала, что непрерывная неделя сделает религиозное поклонение практически невозможным. Без пятницы, субботы или воскресенья и мусульмане, и евреи, и христиане не могли посещать служения. Это считалось выигрышным результатом двухлетней кампании советского правительства против религии.
Поэтому нововведения, которые могли сломить влияние религии на умы людей, были встречены с энтузиазмом. На первый взгляд может показаться нелепым, что создание подобных неудобств может искоренить в людях веру в Бога. Но партийным функционерам казалось, что это возможно. Тем более никто никогда до этого не пробовал ничего подобного поэтому никто и не знал, как это работает. Затея провалилась, как и всё остальное. Никакие ограничения не смогли повлиять на веру людей. Хотя многие и перестали ходить в церковь по воскресеньям, но полностью искоренить религию не удалось.
Кроме всего прочего, за пределами больших городов целые группы населения остались за пределами действия календарной реформы. Непрерывная неделя их практически не коснулась. В сельских районах колхозники занимались посадкой и сбором урожая, уходом за скотиной, а это никак не поддаётся влиянию дней недели. Вдали от бюрократических городских центров страны аграрная жизнь продолжалась почти так же, как и раньше. Правда многие колхозы и совхозы взяли за правило отменять как новые светские государственные праздники, так и традиционные дни богослужений. Чиновники жаловались, что крестьяне всё ещё находятся под влиянием традиционных привычек.
Трудно точно определить все последствия непрерывной недели для общества. В конце концов, это была лишь часть огромного культурного и политического переворота, вызванного советской индустриализацией. Реформа увеличила пропасть между городом и селом. Ведь жизнь в деревнях протекала совершенно в другом ритме и подчинялась другим законам. Примерно в это время для контроля миграции сельского населения были введены внутренние паспорта. Крестьяне старались вырваться из ужасных условий и переехать в город. Нечто подобное существует и сегодня в Москве, чтобы ограничить количество людей, желающих поселиться в столице.
Одиннадцать лет жизни в Советском Союзе прошли под знаком хаоса. Календари того периода были запутанными и странными. Общественный транспорт работал по пятидневному циклу, многие предприятия – по шесть дней, упрямое сельское население – традиционно семь дней в неделю. В конце концов, реформа окончательно провалилась. Производительность труда упала до исторического минимума. Непрерывное использование приводило к быстрому изнашиванию рабочих машин. Уже в 1931 году стало ясно, что так называемые совместные обязанности часто означают то, что никто не берёт на себя ответственность за свои рабочие задачи. Понятно, насколько это пагубно сказывается на работе в целом.
26 июня 1940 года, в среду, Указ Президиума Верховного Совета объявил о восстановлении семидневного цикла. Воскресенье снова стало выходным днём. Отношение к рабочему процессу, рабочая, так сказать, идеология, осталась неизменной. Для обычных рабочих увольнение с работы, прогул или опоздание более чем на 20 минут каралось уголовной ответственностью. Наказанием мог стать вполне реальный тюремный срок.
И в то же время были энтузиасты, готовые трудиться самоотверженно…
В поздней, скупой на слова, как и подобает казённым бумагам, автобиографии для отдела кадров о своей жизни он писал: «Я, Стаханов Алексей, родился в 1905 году 21 декабря в деревне Луговое Орловской области в семье крестьянина. В 1913 году пошёл учиться в сельскую школу, где проучился три года. В 1917 году я нанялся к кулаку на мельницу, где проработал до 1927 года. В 1927 году выехал в Донбасс на шахту «Центральное-Ирмино», где работал коногоном до 1929 года. В 1929 году перешёл работать крепильщиком, в качестве которого работал до 1931 года. В 1931 году перешёл работать забойщиком… На этой же шахте 30 августа 1935 года мною был установлен рекорд по добыче угля. За смену я вырубил 102 тонны угля…»
– Знаете, столько лет прошло, а меня всё спрашивают, почему Стаханова выбрали, почему мы вообще решились на рекорд, – рассказывал в 1985 году Константин Григорьевич Петров, занимавший полувеком ранее должность парторга ЦК ВКП (б) на шахте «Центральная-Ирмино». – На первый вопрос я ещё тогда для себя ответил. Работать Алексей любил и умел лучше многих. И парень был видный, сильный. Не для печати добавлю. Я думал про себя: кулаки у него тяжёлые, соберутся побить за то, что высовывается промеж прочих, так отобьётся.
– А что – бывало? – поинтересовался корреспондент.
– А то нет?! – хмыкнул Петров. – Между нами добавлю: я его часто вспоминал, когда Высоцкий в моду вошёл. У него же песня есть про шахтёров. Помните, наверное: «А он стахановец, гагановец, загладовец, и надо же, чтоб завалило именно его».
