Рождённые после Великой Победы бесплатное чтение
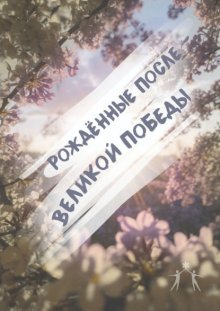
Авторы: Арсентьева Ирина, Патов Сергей, Незамайков Григорий, Камушкова Мария, Преснякова Наталья, Никитина Валентина, Устинова Виталина, Яблоновская Ольга, Кречмер Алла, Горецкая Татьяна, Ащеулова Антонина, Богданова Вероника, Войтович Михаил, Бажина Ольга, Полещикова Елена, Шишина Цветана, Костарев Станислав, Некрасова Наталия, Килиджан Светлана, Анюховский Александр, Боронина Татьяна, Конюшенко Ирина, Лескова Анастасия, Яковлева Мария, Счастливая Танечка, Гаськова Анна, Гончаров Владимир, Дудоладова Ольга, Кудин Николай, Долгих Людмила, Костина Галина, Муканбетов Эдияр, Скрипченко Екатерина, Ковалев Никита, Костылева Людмила, Арутюнов Герман, Прусакова Анна, Рассохин Виктор, Рассохин Сергей, Агаева Майя, Годунова Тамара, Наджафова Алина, Васильева Ольга, Мороз Софья, Старченко Ольга, Климова Татьяна, Советова Анастасия, Фёдорова Елена
Редактор Ирина Коробейникова
Дизайнер обложки Ксения Алексеева
© Ирина Арсентьева, 2025
© Сергей Патов, 2025
© Григорий Незамайков, 2025
© Мария Камушкова, 2025
© Наталья Преснякова, 2025
© Валентина Никитина, 2025
© Виталина Устинова, 2025
© Ольга Яблоновская, 2025
© Алла Кречмер, 2025
© Татьяна Горецкая, 2025
© Антонина Ащеулова, 2025
© Вероника Богданова, 2025
© Михаил Войтович, 2025
© Ольга Бажина, 2025
© Елена Полещикова, 2025
© Цветана Шишина, 2025
© Станислав Костарев, 2025
© Наталия Некрасова, 2025
© Светлана Килиджан, 2025
© Александр Анюховский, 2025
© Татьяна Боронина, 2025
© Ирина Конюшенко, 2025
© Анастасия Лескова, 2025
© Мария Яковлева, 2025
© Танечка Счастливая, 2025
© Анна Гаськова, 2025
© Владимир Гончаров, 2025
© Ольга Дудоладова, 2025
© Николай Кудин, 2025
© Людмила Долгих, 2025
© Галина Костина, 2025
© Эдияр Муканбетов, 2025
© Екатерина Скрипченко, 2025
© Никита Ковалев, 2025
© Людмила Костылева, 2025
© Герман Арутюнов, 2025
© Анна Прусакова, 2025
© Виктор Рассохин, 2025
© Сергей Рассохин, 2025
© Майя Агаева, 2025
© Тамара Годунова, 2025
© Алина Наджафова, 2025
© Ольга Васильева, 2025
© Софья Мороз, 2025
© Ольга Старченко, 2025
© Татьяна Климова, 2025
© Анастасия Советова, 2025
© Елена Фёдорова, 2025
© Ксения Алексеева, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0065-9689-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Вступление
80-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается…
Мы, рождённые в послевоенное время, являемся благословенным поколением. Вся наша жизнь тому подтверждение.
Мы воспитывались в 60-х, учились в 70-х. Женились и выходили замуж в 80-х. Работали и меняли мировоззрение в 90-е. Прозрели в 2000-х. Удивлялись! Приспосабливались! Не сдаёмся и в 2025!
Два разных века! Два тысячелетия!
Пройден путь от междугороднего телефона до видеозвонков в любую точку мира, от диафильмов на стене, от виниловых пластинок, от писем в конвертах до современных соцсетей, интернет-технологий и искусственного интеллекта.
Играя в хоккей и катаясь на велосипедах, мы никогда не носили шлемов. Мы не боялись одни ходить в школу. После уроков мы до заката играли на улице и никогда не смотрели по полдня телевизор.
Если мы хотели пить, то пили водопроводную воду из-под крана, а не покупную из бутылок.
Мы мало болели, хотя делили один стакан сока на четверых. Наши родители лечили нас копеечными таблетками от кашля. Мы никогда не набирали вес, хотя ели много картошки и хлеба.
Наши родители не были богаты, но дарили нам свою любовь и учили ценить духовное, а не материальное. Они дали нам понятие о настоящих человеческих ценностях – честности, верности, уважении, трудолюбии.
У нас не было мобильных телефонов, компьютеров, интернет-чатов, но были реальные друзья, а не виртуальные. Мы заходили к ним без приглашения. Нас угощали простой и скромной едой.
Наши воспоминания были на чёрно-белых фотографиях, но они были яркими и красочными. Мы с наслаждением листали семейные альбомы и хранили портреты предков. Мы не отправляли на помойку книги, мы стояли за ними в очередях, а потом запоем читали.
Мы уникальны, потому что мы последнее поколение, которое слушало своих родителей, и мы первые, кто должен был слушать своих детей.
Мы пережили больше, чем любое другое поколение в истории человечества.
Мы родом из СССР. Рождённые после Великой Победы!
Эти воспоминания мы посвящаем уникальному поколению, которому довелось жить после Великой Победы.
Редактор сборника – Ирина Коробейникова
Вероника Богданова
Настоящий
Весной, едва только сбрасывала речка Архипка корявый ледяной панцирь, негранёными алмазами уползавший по течению в туманную даль, а прибрежный ивняк начинал пушиться серебристыми серёжками, появлявшимися раньше листвы, принаряжался дед Иван, единственный ветеран войны на всю Архиповку, в пиджак чёрного сукна и, позвякивая медалями, выходил во двор. Там он откладывал в сторону деревянную трость с резиновым наконечником и не торопясь, основательно усаживался на грубо сколоченную скамью.
И скамья, и трость, да и сам Иван Прокопьевич Сурков были словно одной породы: крепкой, кряжистой, мужицкой. И взгляд у старика – хозяину под стать: стальные глаза целились в собеседника из-под кустистых бровей пронзительно и цепко, так, что невольно хотелось съёжиться.
Глядя на Суркова, деревенские уважительно думали: вот такие мужики и добыли победу в Великой Отечественной! Даже примету сочинили: пока сидит по весне на своей скамье дед Иван, всё в Архиповке будет идти своим чередом, без потрясений.
Так и шло всё, покуда в местную школу – три класса да два коридора – не пришла новая учительница Вера Андреевна. С весенней фамилией Скворцова и непослушными светлыми волосами, вечно выбивающимися из аккуратно заплетённой и уложенной вокруг головы косы, создавая у лица нежный, золотящийся в солнечных лучах ореол…
Верочка – так её сразу назвали и местные педагоги, и ученики – оказалась мастерицей устраивать всяческие потрясения. Естественно, в хорошем смысле этого слова.
Это она придумала в октябре провести осенний бал прямо на школьном дворе, где в ту пору, удачно заменяя декорации, стыдливо рдели усыпанные ягодами рябины и звенели золотом листьев берёзы. В чистом, сухом воздухе бабьего лета далеко разносились вальсы и фокстроты, маня к школе живущих по соседству архиповцев. Танцевальный вечер завершился затемно, когда звёзды стали ярче листьев, и над школьным крыльцом вспыхнул неяркий фонарь, указывая дорогу просветлённым деревенским, разбредающимся по избам «после бала»…
Это она на Новый год вместе с учениками нарядила всё в том же школьном дворе единственную затесавшуюся среди оголившихся на зиму деревьев ёлку, чтобы все желающие могли в любое время водить вокруг неё хороводы. Рядом с ёлкой неожиданно появился криво слепленный снеговик в лихо нахлобученном на голову ведре и с морковкой вместо носа: её всю зиму терпеливо расклёвывали здешние вороны. Ох, и весёлая кутерьма творилась возле школы в новогодние каникулы!
И это она, Верочка, решила в погожий майский день накануне праздника Великой Победы устроить тимуровский десант в доме Ивана Прокопьевича…
Дед Иван, само собой, вовремя «открыл» очередную весну, усевшись на свежем воздухе со своей вечной спутницей – тростью и устремив стальной взор на бурно мчащиеся воды освободившейся из-подо льда Архипки. Вода и серое нахмуренное небо над ней в точности повторяли цвет стариковских глаз. Вот такая нынче выдалась весна: сырая, нахохлившаяся, как вороны в школьном дворе, неуютная.
Но в день, когда стайка тимуровцев галдящими воробушками насыпалась во двор ветерана, небо очистилось, словно кто-то стёр с него серый налёт, явив миру невероятную синь и озарив лицо возглавившей бригаду Верочки ослепительным ореолом выбившихся из причёски кудряшек.
Иван Прокопьевич засуетился, неловко привстал со скамьи, ухватившись за трость, а ребятишки обступили его и принялись радостно приветствовать, теребя за пиджак и восхищённо глядя на тускло блестящие в лучах солнца медали.
Растерявшийся дед робко улыбался, – видно, не привык к столь многочисленному и шумному обществу. Чаще всего он степенно беседовал с соседями, а иногда выступал на праздничных мероприятиях с воспоминаниями о боевом прошлом, да только и там на речи был скуп, а лицом неулыбчив. Тут же губы Суркова невольно растягивались, а ладони пытались погладить ершистые затылки мальчишек. Всех сразу.
Верочка, как и полагается учительнице, быстро взяла всё в свои руки, угомонила и выстроила школяров, извинилась перед Иваном Прокопьевичем и определилась с фронтом работ. Сошлись на уборке в домике и вокруг него – и непременно с последующим чаепитием. Печенье и сахар Вера Андреевна захватила с собой.
И работа закипела! Оказалось, ребятишки умеют не только галдеть да баловаться, но и по хозяйству помогать приучены: окна мыли дочиста, до стекольного скрипа, пыль натирали старательно, подметали аккуратно и даже вымыли полы!
Только вот закавыка: в одном из углов комнаты, под самым потолком, домовитый паук решил соткать свою ловчую сеть, и она, покрытая сажей и пылью, выбивалась из общей картины свежей чистоты и ухоженности.
– Непорядок! – решительно провозгласила Верочка и, как самая рослая среди тимуровцев, попыталась расправиться с паутиной.
Но даже с приземистой табуретки она не смогла дотянуться тряпкой до сомнительной детали интерьера. И тогда учительница вспомнила о трости, которую заметила в руках Суркова. В светлую голову Верочки пришла не менее светлая мысль: попросить у деда трость и расправиться наконец с этой гадостью в углу!
Сказано – сделано. Заметно удлинив руку с помощью трости, молодая женщина зацепила концом палки, одетым в чёрную резиновую пробку, серую паутину и потянула на себя. Вдруг из пыльного комка стремительно вынырнул крупный мохнатый паук и устремился вниз, прямо к лицу вмиг остолбеневшей Верочки. Пронзительный крик – и учительница, отпрянув от напугавшего её паука, потеряла равновесие и упала, цепляясь тростью за табурет и с грохотом роняя его на пол…
Дальше всё происходило словно при замедленной съёмке: чёрная пробка слетела с трости, и из полого деревянного нутра на свежевымытый пол посыпались украшения. Кольца и серьги, явно золотые и серебряные, когда-то блестящие, но теперь потускневшие и густо покрытые чем-то тёмно-рыжим, словно изъеденные ржавчиной. Но ведь золото не ржавеет, подумалось Верочке, и от этой неправильности происходящего сердечко её сбилось с привычного ритма, а глаза расширились, превратившись в две тёмные бездны…
Она уставилась на одно из колечек, лежавшее совсем рядом. Тонкий золотистый ободок с небольшим прозрачно-голубым камушком, тоже покрытый засохшей кровью, – Вера Андреевна нутром поняла, что это кровь! – показался ей знакомым.
Вдруг между её лицом и колечком, торопливо перебирая лапками, прошебуршал тот самый паук, с которого всё началось. Верочка вновь отшатнулась – и вдруг вспомнила!
Маленькое чудовище, пробегая, словно мимоходом стёрло пелену с памяти, милосердно скрывавшую горькую правду в тёмных глубинах сознания, и Вера Андреевна внезапно провалилась в прошлое и стала крошечной пятилетней девчушкой…
Стены дома исчезли, словно растворились в гари пожарища: фашисты выжгли её родную деревеньку дотла, только несколько печных труб сиротливо тянулись к небу, как скорбные памятники согнанным на расстрел хозяевам.
Горстка людей замерла на краю наспех вырытой неглубокой ямы. Их было немного: десятка два растерзанных баб да несколько разновозрастных ребятишек. Отчего-то все молчали, даже дети, которых пытались спрятать за своими спинами застывшие, от ужаса обратившиеся в статуи матери.
Мама крепко держала ладошку Верочки ледяными пальцами, будто боялась потерять в тот самый последний миг, когда душа покидает тело и устремляется ввысь. Им непременно надо лететь вместе, чтобы не заблудиться там, в небесной пустоте, не потерять друг друга за последней чертой…
Ладонь девочки царапало мамино колечко. Вера повернула голову и посмотрела на него: тоненький золотой ободок с прозрачно-голубым камушком. «Папин свадебный подарок», – говорила мама.
Папа в самом начале войны ушёл на фронт и сгинул в первых страшных сражениях, когда фашисты неодолимым валом катились по нашей земле, сея смерть и разруху. И вот теперь обычная маленькая деревенька столкнулась с этим валом, чтобы исчезнуть навсегда в жестоком адском огне…
Верочка не сразу поняла, что произошло. Треск автоматных очередей показался ей сперва нестрашным и обыденным, как звук мотора проезжающего мимо трактора. На тракторе работал папа, подумалось девочке, а потом она ощутила резкий рывок и упала на землю, увлекаемая так и не расцепившимися пальцами убитой матери…
Кто подсказал ей лежать тихонько, Верочка не знала. Только отчего-то она замерла на ледяной земле в окружении окровавленных тел и из-под опущенных ресниц наблюдала за тем, как вокруг расхаживают пыльные сапоги. Сверху звучала чужая речь. Но один голос был свой, понятный, он лепетал как-то по-особенному гадко, вызывая смех тех, других.
– Зачем золотишко-то закапывать? – услышала Верочка, и к ней наклонился тот самый, свой-чужой, протянул руку и принялся торопливо стаскивать с окровавленного маминого пальца маленькое колечко – последний подарок погибшего на фронте отца.
Девочка хотела было вцепиться в эту жуткую руку, изуродованную на запястье отвратительным родимым пятном в форме паука, остановить чудовищный акт мародёрства, но милосердные небеса не дали ребёнку погибнуть. Верочка впала в спасительное небытие…
…Вера Андреевна вскрикнула, когда увидела протянутую к ней мужскую руку. Запястье скрывало чёрное сукно рукава.
«Там паук! Там есть чёрный паук!» – билась в голове женщины безнадёжная мысль, лишая последних сил. Но ведь это неправильно, так не должно быть! Это же дед Иван, единственный ветеран на всю Архиповку, настоящий фронтовик, прошедший войну, переживший несколько ранений! Вон, и палка у него…
– Вставай, дочка, – услышала Верочка голос Ивана Прокопьевича. Звучал он как-то непривычно глухо.
Женщина ухватилась за руку деда и поднялась с пола. Рукав пиджака скользнул вверх, на несколько мгновений обнажив запястье стоявшего перед ней человека. Взгляд Веры Андреевны, с какой-то жадной надеждой устремившийся в этот просвет, вспыхнул девчоночьим ликованием: пусто! Никаких пауков! Обычное запястье, крепкое и широкое, как и полагается настоящему мужику.
Вера обессиленно опустилась на поднятую с пола табуретку и вдруг тихонько, по-бабьи подвывая, разрыдалась, спрятав лицо в ладони. Это были слёзы облегчения – потому что дед Иван оказался не тем перевёртышем, своим-чужим, а просто своим, родным и настоящим, и Верочка ругала себя за леденящее нутро чувство паники, которому она поддалась на мгновение, увидев протянутую к себе руку. А ещё это были невыплаканные когда-то горькие слёзы военного сиротства, прорвавшиеся наконец во взрослую жизнь и наполнившую её так нежданно обретёнными воспоминаниями и новым смыслом.
– Мамочка моя… Я ведь совсем ничего не помнила! Ничего, кроме своего имени! – повторяла Верочка, теребя маленькое колечко, отбросившее её за тот порог сознания, куда она никогда не возвращалась за всю свою жизнь.
Она действительно ничего не помнила: ни как уехали тогда прочь сделавшие своё кровавое дело фашистские палачи, ни как её, полумёртвую, напрочь потерявшую память, вызволили из наспех забросанной землёй ямы партизаны.
Верочкина новая память – и новая жизнь началась с бесконечных железнодорожных перегонов в теплушках и товарняках. Вместе с небольшой разношёрстной группой ребятишек её долго везли куда-то в тыл, за Урал, где она и попала в детский дом. Выросла, выучилась, стала учительницей, отправилась за любимым человеком в Москву. Но не сложилась у них столичная жизнь, не срослось что-то живое и трепетное там, внутри, где прячется душа, в нужный час дающая команду вить гнездо и являть миру новые живые души…
Так и попала Верочка в Архиповку: ткнула пальцем в карту и сбежала от болезненных воспоминаний в очередную новую жизнь, на этот раз самостоятельно выбранную.
А судьба – она, как то колечко, закрутилась-завертелась – и вернула её к самому началу. Туда, где до поры до времени прятались отец-фронтовик и расстрелянная мама, похороненная где-то в братской могиле. Только вот где её теперь искать, могилу эту?
Верочка решительно вытерла слёзы тыльной стороной ладони, как делала когда-то в детдоме, и огляделась, окончательно возвращаясь в реальность.
Пока она приходила в себя, её ученики собрали с пола украшения, снятые когда-то мародёром с казнённых людей, и сложили их горсткой на столе. Потом они под чутким руководством Ивана Игнатьевича вскипятили воды, заварили чай в пузатом фарфоровом чайнике с маленькой щербинкой у носика и уселись рядком на скамейку, во все глаза молчком глядя на свою учительницу. Вера Андреевна так же молча достала сахар и печенье.
Потом все вместе пили чай, и притихшие ученики понемногу расслабились, защебетали, принялись расспрашивать Ивана Прокопьевича о его военном прошлом. И он, удивляясь себе самому, вдруг включился в разговор, отмяк лицом и сердцем, посветлел глазами, и они уже не казались строгими и колючими, как раньше.
Вот так и первый ясный весенний денёк, выпавший на тимуровский десант, открыл череду долгожданных солнечных майских дней, наполненных удивительным теплом. Даже речка Архипка, послушно отражая синеву безмятежного неба, теперь не казалась хмурой. Она тихонько сияла меж сочно зеленеющих берегов и дарила полноценное летнее блаженство: хоть беги да купайся!
Верочка активно включилась в подготовку к празднованию 9 Мая, закрутилась, ненадолго отпустив из сердца мысли о потерянной навсегда братской могиле в сожжённой деревеньке, где осталась её мама – и её безжалостно перечёркнутая настоящая жизнь. Только по вечерам, невольно трогая поселившееся на пальце мамино колечко, Вера Антоновна мысленно листала прожитые годы и тихонько всхлипывала. И казалось ей, что воздух в доме едва уловимо пахнет гарью…
Сразу после Дня Победы к школе подъехал автомобиль. Из него выбрался незнакомый молодой человек и позвал Веру Андреевну проехаться. Усаживаясь на заднее сидение, она с удивлением увидела сидящего впереди деда Ивана. Он, как обычно, был при параде: в пиджаке с медалями. Руки его сжимали ту самую злополучную трость, а глаза были не мягкими, как в тот памятный день, и даже не колючими, как обычно. Скорее, какими-то одновременно отрешёнными и решительными, если такое, конечно, возможно.
Ехали около часа, подпрыгивая на просёлке и минуя перелески, то и дело вспыхивающие сквозь зелень шапками цветущих яблонь. И у Верочки в душе затеплилось странное ощущение чего-то удивительного, что вот-вот должно было произойти…
И произошло…
Шофёр остановил машину в странном месте: среди абсолютно ровного, чем-то похожего на плац участка поля, которое с одной стороны обступили высоченные деревья, сиротливо стояла одинокая полуразвалившаяся печь, почерневшей трубой пронзающая ярко-синее небо. Эта труба казалась выше окружающих её деревьев, и видно было, что когда-то была она не одна, что такие же, как она, искорёженные остовы изб каким-то образом исчезли с поляны.
Сердце Верочки вздрогнуло и мелко-мелко заколотилось, когда страшная и одновременно спасительная догадка заставила её броситься к стоявшему поодаль деду Ивану и затормошить его, то ли шепча, то ли выкрикивая:
– Это здесь, да? Здесь?! Мамочка моя!
Вера хотела броситься на землю прямо возле одинокой печи, оставшейся от сожжённой фашистами родной деревеньки, но Иван Прокопьевич легонько придержал её за локоть и развернул к дороге. Там, с другой стороны колеи, на поросшем высокой травой едва заметном холмике возвышался скромный металлический обелиск.
– Там твоя мамка, Верочка. Я ведь тоже из этой деревни, дочка, – глухо сказал дед Иван.
Глаза его на мгновение потухли. Он вновь вспомнил тот далёкий день, когда везли его двое боевых товарищей на подводе, раненого, потерявшего много крови и готового уже отдать богу душу. Внезапно один из бойцов остановил телегу, спрыгнул с неё и, подняв что-то с земли, полез обратно, говоря:
– Ничего, Прокопьич, вот, нашёл тебе третью ногу, вылечишься – ходить будешь!
Рядом с Сурковым легла на солому тяжёлая трость с чёрным резиновым кончиком. Не знали солдаты, что неподалёку в рощице лежит ничком наполнивший её жутким содержимым мародёр, убитый выстрелом в затылок свой-чужой, полицай с родимым пятном в виде паука на запястье. Недаром же говорят – Бог шельму метит!
Иван, превозмогая боль, приподнялся, ухватившись за боковину телеги, и огляделся, спрашивая:
– Где мы, братцы?
И вдруг другая боль – огромная, чёрная и страшная, гораздо страшнее, чем боль от ранения, такая, что дышать стало невозможно, – опрокинула его навзничь в окровавленную солому. Там, где они остановились, находилась его деревня. Вернее, то, что от неё осталось. В память потерявшего сознание от боли Ивана Суркова навсегда врезались сгоревшие дотла избы и тянущиеся к небу изломанные силуэты выживших в огне печей…
Позже солдат узнал, что все жители деревни расстреляны фашистами. И там, в братской могиле, осталась его жена. Его любимая Аннушка.
После войны Иван Прокопьевич поселился в Архиповке – деревеньке, расположившейся неподалеку от её, Аннушкиной, могилы. Так и не сумел он справиться ни с душевной болью, ни с прогрессирующей хромотой – последствием ранения.
И прожил бывший фронтовик Сурков без малого три десятка лет вдовцом неприкаянным, закрывшим сердце для любых проявлений чувств, пока не явилась в Архиповку Верочка – учительница с золотистым ореолом кудряшек вокруг лица. Совсем таким же, как у её мамы Ирины, – их соседки из прошлой, довоенной жизни. Помнится, когда деревенские мужики уходили на фронт, как раз была у Иринки крохотная щебетунья-дочка, Верочкой звали…
Теперь дед Иван понял, кого ему смутно напоминала новенькая учительница. Она выросла точной копией своей матери, разделившей общую могилу с Аннушкой.
С того дня, когда Верочка случайно открыла тайну трости, в душе деда Ивана словно прорвались неведомые шлюзы, выпустив на волю лавину спрятанных где-то очень глубоко внутри чувств. И Сурков, до той поры предпочитавший тихонько восседать на скамейке возле дома, созерцая пробуждающуюся ото сна природу, сам словно воскрес, выбрался из анабиоза, куда был погружён всё это время.
Теперь они вместе ездят туда, где остались лежать под скромным обелиском осколки сердец старого фронтовика и выжившей во время карательной экспедиции девочки. Где столько лет ждала Верочку неоплаканная могила её матери. Горькая братская могила, отпустившая однажды на волю для новой жизни будущую учительницу с весенней фамилией Скворцова…
Небеса детского счастья
А помните, каким было весеннее небо в детстве? Помните?
Каким-то необыкновенно высоким и сияющим, словно кто-то выплеснул в него незабудковую синь и слегка разбелил её свежим парным молоком.
Запрокинешь голову, зажмуришься, ощущая отвыкшей за зиму от солнца кожей лица нестерпимую небесную нежность… И хочется отчего-то смеяться и плакать одновременно!
Это теперь я понимаю, что таким и бывает настоящее счастье. Что можно вдыхать его всей кожей и не бояться расплескать, или, напротив, смаковать по капельке, откуда-то зная: одной-единственной каплей счастья можно наполнить душу до краёв!
И мы наполняли! Попробуем повторить?
Капелька первая. День Победы
Безмятежное майское небо. Солнце, золотящее девчачьи косички и щедро осыпающее мелкими пахучими цветами кусты акации в городском сквере. Нас трое: моя старшая сестра, я и велосипед. Новенький, «дамский», с низкой рамой и широкими протекторами: «Десна-2». Мы гордо раскатываем на нём, ощущая всю ответственность добровольно взятой на себя миссии. Сегодня мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны с самым главным праздником: Днём Победы!
Нам кажется, что в этот день весь город вышел на улицу, чтобы встретить этот «праздник с сединою на висках»! Повсюду сияющие лица, на скамейках у подъездов – они, главные герои, совсем ещё молодые, в костюмах и при орденах. Кто-то степенно беседует, кто-то лихо наяривает на гармошке, а кто-то, не таясь, выпивает «сто грамм фронтовых»: сегодня не возбраняется!
Это сейчас я понимаю, что ветераны в те благословенные годы были по-настоящему молодыми. Многим из них в ту пору исполнилось меньше лет, чем мне сейчас. Например, военрук из школы, где работала моя мама, Сан Саныч Роговской, едва ли перешагнул тогда полувековой юбилей. А мне он казался настоящей легендой, недосягаемым по возрасту и человеческим достоинствам героем… Именно ему я посвятила свои первые, совсем ещё детские стихи о войне.
Итак, миссия!
Мы с сестрой торжественно подъезжали ко всем встреченным по пути ветеранам, останавливали велик, с почтением вглядывались в их просветлённые лица, в их блестящие от слёз радости глаза и хором кричали: «С Днём Победы! Ур-р-р-а-а-а-а!»
Эту будоражащую радость, рвущуюся наружу, я помню до сих пор! И тогда мне казалось, что на всём свете нет сейчас людей счастливее нас! А может, и не казалось вовсе?
Капелька вторая. Книги
По субботам меня частенько отправляли на ночёвку к бабушке с дедушкой, живущим на соседней улице. И вся неделя проходила в предвкушении маленького личного праздника!
Дело в том, что во мне с раннего детства жил книжный маньяк. Наверняка его передала мне вместе с генами моя мама, которая все приёмы пищи сопровождала чтением. Её открытые книжки и журналы, лежащие на кухонном столе, втихаря перечитывала я. Делать это надо было очень быстро, чтобы поспеть за мамой.
Ах, милая моя мамочка! Ты оказалась на редкость продуктивным читателем, но я умудрилась не только сравняться с тобой в скорости поглощения литературы, но и «ускакать» далеко вперёд. «Мастера и Маргариту», полученную мной в девятом классе, как мне помнится, на одну ночь, я успешно «съела», навсегда влюбившись в магическое творение мессира Булгакова.
Видимо, от мамы мне досталась и книжная всеядность, которую я деятельно утоляла, прочитав к шестому классу всё, что хранилось на полках школьной библиотеки…
А вот содержимое книжных шкафов в квартире бабушки и дедушки так легко одолеть не получилось! Но я старалась вовсю. Поздним вечером, когда дом погружался в сон, я потихоньку включала ночник над кроватью в дедовском кабинете, кралась к шкафу, извлекала оттуда очередной волшебный томик – и пропадала!
Припомню навскидку, какие собеседники доставались мне дивными бессонными ночами, проведёнными за чтением в детстве и юности: Чингиз Айтматов, Иван Ефремов, Чарльз Диккенс, Эмиль Золя, Стендаль, Майн Рид, Конан Дойл, Фенимор Купер, Виктор Гюго, Тур Хейердал, а ещё – бесконечная «Тысяча и одна ночь»…
А небо в оконном проёме меж тем постепенно светлело…
Какие противоречивые чувства я испытывала тогда! С вершин восторга я обрушивалась в пропасть страха и отчаяния, мне хотелось плакать и смеяться, я проживала бесконечное множество жизней с героями величайших классиков…
Вот тогда-то я и начала писать продолжения особенно полюбившихся мне произведений, чтобы подольше оставаться в плену самых захватывающих миров. И чтобы попробовать на вкус: каково это – самому стать создателем собственного мира? Затягивающее это дело, надо отметить…
Капелька третья. Журналы, телевидение и многое другое…
Но не только книги встречали меня в квартире у бабушки с дедушкой. На стене напротив кровати, на которую меня наивно пытались уложить спать, висели удивительные вещи. Семиструнная цыганская гитара тёмного дерева, большая пузатая балалайка с выцветшей атласной ленточкой на грифе, старинные фотоаппараты в солидных кожаных футлярах…
У каждого из этих несомненных сокровищ была своя история, которая, увы, навсегда останется нерассказанной. Давно нет на свете бабушки с дедушкой. Но сердце помнит всё то, чем они жили и дышали в те времена. Семидесятые. Восьмидесятые. Давние, безвозвратно канувшие в вечность и благословенные…
Деда Вова был знатным цветоводом и по-детски радовался, когда десятки лет «молчавший» кактус вдруг решил расцвести. Дедушка позвонил нам ночью и позвал посмотреть на это чудо. Да, мы стали свидетелями самого настоящего чуда! Цветоносная стрелка лениво вытянулась, на глазах вспыхивая нежно-золотистым бутоном, который, словно в замедленной съёмке, распустился, явив миру пышный трёхслойный венчик, напоминающий граммофонную трубу.
Оказывается, этот кактус цветёт лишь раз в столетие. Наше столетие состоялось!
А ещё дедушка занимался фотографией. Мы с нетерпением ждали тот день, когда должно было свершиться таинство! В ванной комнате расставлялась аппаратура, ванночки наполнялись реактивами, включалась алая лампа, и мы, затаив дыхание, наблюдали, как на глянцевой поверхности бумаги появляется изображение…
Чаще всего это было наше изображение! Вот фонтан «Каменный цветок» в городском сквере – да-да, том самом, где по весне цвела акация! А на кромке фонтана – я. Смешная белобрысая девчонка, в улыбке которой и в сощуренных глазах отражается летнее солнце – и небо, полное незабудок!
По вечерам, когда по телевидению начинались самые интересные передачи, мы усаживались у экрана и жадно смотрели! «Кинопанорама», «Что? Где? Когда?», «Вокруг смеха»… Наш вкус воспитывался не на самых плохих образцах советского телеискусства.
Но, сколь верёвочке не виться, а приходится вернуться к началу начал – чтению! Потому что ещё одним крючком, на который ловили мою детскую душу субботние вечера, была пресса, которую выписывала моя родня в фантастических количествах! И всё это читалось, перечитывалось, разглядывалось, а дедушкой ещё и вырезалось из журналов и сшивалось в настоящие книги! Эти удивительно интересные самодельные книги лежали в тумбочке под телевизором и тоже частенько извлекались на свет божий.
Боюсь, мне не хватит строк, чтобы перечислить названия всех этих сокровищ, ожидавших юного читателя в кухне, на табуретке возле стола. В стопочке встречались «Крокодил», «Огонёк», «Смена», «Роман-газета», «Работница», «Крестьянка», «Наука и жизнь», «Неделя», «Литературная газета»… А дома эстафету принимали «Юность», «Москва», «Нева», «Сибирские огни», «Уральский следопыт», «Парус»…
Умоляю вас, остановите меня! Господи, какими гурманами периодики были наши родители! Как тянулись за ними мы, жаждущие новых знаний и впечатлений! И мы по книгам запоминали названия созвездий, сияющих на нашем детском небе. И кактусов, которые цветут раз в столетие! Кто бы мне теперь напомнил, что это был за кактус…
Капелька четвёртая. Новый год
И какое же детское счастье без Нового года? Без набора игрушек из Германии, лежащего в огромной коробке, переложенной ватой?
…Эти игрушки были особенными. Их цвета, если мне не изменяет память, звучали, как музыка: сиреневый, бирюзовый, малиновый, золотистый… Покрытые тончайшим слоем стеклянного серебристого инея, так похожего на настоящий, они загадочно поблёскивали из своих картонных отсеков: домики, шишки, букеты цветов…
Самой красивой была нежная корзинка фиалок. Мама очень переживала за неё. Как выяснилось, не зря. Хрупкая игрушка не выдержала моего чересчур деятельного восхищения и надломилась в детских пальчиках.
Я не помню, последовали ли за этим какие-нибудь родительские санкции. Да это и не важно! Ведь не одно лишь воспоминание о разбитой игрушке хранится в моей новогодней шкатулке памяти!
Чаще всего сам Новый год мы встречали – вы не поверите! – у бабушки с дедушкой. Наши милые Дед Мороз и Снегурочка всегда готовили для нас с сестрой праздничные сюрпризы: коробочки с секретными сокровищами. Мы разбирали их с таким интересом! Заколки, конфеты, значки, «переливчатые» календарики, – чего там только не было!
Мы в ответ обязательно готовили новогодний концерт с песнями и юмористическими сценками. Помнится, последние такие концерты мы с сестрой устраивали уже, будучи студентками института. После этого института мы стали горными инженерами. Совсем как наши бабушка с дедушкой…
А ещё на новогоднем столе непременно исходила волшебным ароматом яблочного счастья фирменная бабушкина шарлотка, а с бобин магнитофона «Астра» лились сладкие голоса «итальянцев»: это мы с дедушкой записали фестиваль «Сан-Ремо» 1984 года…
А небо за окнами было таким серым, низким, дышащим снегом. И лишь иногда – лунным, как в любимой песне Тото Кутуньо…
Прошу простить меня за неимоверное для такого короткого текста количество многоточий. Когда вот так, с разбегу, погружаешься в детство, вся сегодняшняя жизнь превращается в одно гигантское многоточие.
А небо сейчас и в самом деле вовсе не такое, как в детстве. Разве что в Крыму в погожий летний день… Но это уже совсем другая история!
Михаил Войтович
Разговор с дедом
- Помнишь, дед, что мне в детстве рассказывал,
- Как лежал беззаботно-расслабленно
- Под могучим раскидистым деревом,
- Как по речке пускал кораблики,
- Но расцвёл вдруг кровавыми стразами
- Тот трагичный июнь сорок первого…
- Ты на фронт ушёл без сомнения
- Совсем юным, неоперившимся,
- А вернулся седым и с морщинами,
- Но и с правдой, тебе открывшейся,
- Мудрецом, закалённым в сражениях —
- Род всегда наш гордился мужчинами!..
- Знаешь, дед, боль твоя и всего человечества
- Не утихла за годы прошедшие
- И кипит до сих пор в сердце раненом
- Неискупной виной пред ушедшими,
- Кто отдал свою жизнь за Отечество
- В том июне, скорбном и памятном.
- С той поры не любил ты дней солнечных,
- Лето видел в оттенках сумрачных,
- Вспоминая погибших товарищей —
- Всех увидевших свет за тучами
- Среди звёзд, серебром отороченных,
- На последнем своём пристанище…
- Веришь, дед, мы продолжим начатое,
- Не дадим ваши подвиги ратные
- Предавать суду и забвению;
- Не бывает пути здесь обратного,
- Пусть сегодня в день скорби и плачем мы,
- Но те слёзы – обряд очищения.
- Будешь, дед, мне опорой зрячею?
- Чтоб развидеть завесу туманную,
- Обнять землю, нас разбудившую,
- Стать глазами июня багряного
- И принять эту боль неутраченную?
- Навсегда в тех глазах застывшую…
Последний бой
Памяти бойцов, погибших в Великой Отечественной войне
- Разбудил меня с утра
- Ротный —
- Будем брать высоту
- На рассвете,
- И пошли сквозь туман
- Плотный,
- Пока ночь грядущим днём
- Бредит.
- Помолился Богу я
- Тихо,
- Зарядил свой ППШ
- Молча —
- Эх, не впервой нам будить
- Лихо,
- Беспощадно рвать врага
- В клочья.
- Посмотрел я с тоской
- В небо —
- Журавли там летят
- Прямо,
- А земля чёрным дышит
- Хлебом,
- Да туман ползёт вверх
- Пьяно.
- Ощетинился лес
- Стволами,
- Зашумели кроны злым
- Ветром,
- Замелькало в темноте
- Пламя
- И накрыло нас огнём
- Беглым.
- Полегла в бою том вся
- Рота,
- Стала больше журавлей
- Стая,
- Навсегда связав два
- Рода
- У распахнутых дверей
- Рая.
- Кто сказал, что время боль
- Лечит?
- На душе мозоли в кровь
- Стёрты,
- Вдовы ждут в домах нас
- Вечность,
- Вспоминая как живых —
- Мёртвых…
Руки бабушки
- Бабушка… Руки твои золотые,
- Морщинистые, родные,
- Мне и сегодня снятся,
- Как и те дни былые
- В памяти колосятся.
- Что они только ни делали:
- Шили, вязали, сеяли,
- Тесто месили, пекли,
- Нас, неразумных, лелеяли,
- Грели и берегли.
- Делились последним с бедными,
- Будили в часы рассветные,
- Украдкой смахнув слезу…
- Вплетали подснежники бледные
- В редеющую косу.
- Землю пахали стылую,
- Сено кидали вилами,
- Хлеб из печи доставали,
- Вздуваясь синими жилами —
- Как же вы уставали!
- В годы тяжёлые, смутные
- Советы давали мудрые
- Без суеты и без слов,
- Крестом осеняя путников,
- Вселяя в сердца любовь.
- А пришла война окаянная —
- Помогали вы выжить раненым,
- Отдавая своё тепло,
- Обладая особым знанием,
- Искореняющем зло.
- Как мне без рук твоих холодно
- В силках равнодушного города,
- Как одиноко и грустно…
- Но всё же дороже золота
- Душе это светлое чувство.
Старый снимок
- Отливают синью небеса
- На винтажно-пыльном глянце снимка,
- И опять на нём блестит роса,
- По которой мы идём в обнимку.
- Это плачу я… По прежним нам,
- По мечтам, несбывшимся и зыбким,
- По тем ярким свежим небесам,
- По твоей бесхитростной улыбке.
- Там, на снимке, травы шелестят,
- Утро дышит мёдом и прохладой,
- И глаза твои загадочно блестят
- Отражением ночного звездопада.
- А страна стремилась только ввысь,
- Покоряя неизведанные дали.
- Песни звонкие со всех сторон неслись
- И слезами тихо в душах оседали…
- Жили мы одной тогда семьёй
- Без обид, без зависти и злости,
- Вместе строили свой дом родной,
- Как сказал поэт, не люди были – гвозди!
- А внутри у тех гвоздей – цветы,
- Радуга над необъятными полями,
- И рождённые в пыли дорог мечты,
- Что взошли под рукотворными дождями.
- Где то время, где былые мы?
- Беззаботные романтики, хмельные…
- Не вкусившие ещё тоскливой тьмы —
- Несмышлёные и слишком молодые.
- Сколько с той поры минуло лет,
- Сколько утекло воды беспечной,
- Сколько раз в ней преломлялся свет
- По дороге к станции конечной…
- Фотографию я бережно храню
- Как поклон земной годам чудесным,
- Где не надо было нам носить броню,
- Мир понятным был, доверчивым и честным…
Ностальгия
- Серпа и молота империя
- Переживала свой закат,
- Но в нас, наивных, ещё верила —
- Стоящих дружно ровно в ряд.
- На шеях галстуки полощутся,
- Словно знамёна на ветру,
- Горит костёр в зелёной рощице,
- Открыв во времени дыру.
- Оттуда смотрим в день сегодняшний,
- Клянёмся в верности стране
- А сами, как щенок нашкодивший,
- Всё ищем что-то в стороне —
- Битлов тайком с восторгом слушаем,
- Читаем Маркеса взахлёб,
- Братаясь родственными душами,
- Влюблёнными в родной народ.
- Юны, чисты были и искренни,
- Мечтали в космос полететь,
- Промчаться бешеными искрами,
- Звездою вспыхнуть и сгореть.
- Но раскидала судьба щепками
- По разным мусорным углам,
- Мостим свой путь мечтами тщетными
- Во власти ежедневных драм.
- А ностальгия всё настойчивей
- Стучится в души и сердца:
- Нам новый дивный мир пророчили
- За занавесом из свинца.
- В той жутко-праздничной утопии
- Росли подстриженной травой,
- Потом с оборванными стропами
- Упали камнем в мир чужой.
- Но всё же только там, в объятиях
- От всех закрытых берегов
- Себя мы чувствовали братьями
- Без пафоса и громких слов…
Школьный дневник
- Дрожа, предчувствием томим,
- Листаю сзади наперёд
- Наивный школьный свой дневник —
- Запечатлен в нём каждый миг,
- Как сладок этот детства дым,
- Где столько лет вмещает год.
- Уроки знаний и добра
- Впитали губкою сухой,
- Вобрали детским естеством,
- Горячим дружеским родством —
- Неповторимая пора
- Всё возместила нам с лихвой.
- Вот выпускной, улыбок свет
- Учителя, цветы в руках,
- Смех и веселье без границ,
- Сиянье глаз и свежих лиц,
- Зарницы будущих побед
- И солнце в белых облаках.
- История, литература, труд,
- Родной язык и цифр бег,
- Писатели – немой укор —
- Ведут свой бесконечный спор
- О глубине сибирских руд
- И кто же это – человек?
- Румянец алый на щеках,
- Соседки быстрый острый взгляд
- В глазах – незаданный вопрос,
- И перекинут зыбкий мост,
- Душа летит на всех парах —
- Запретный плод, манящий сад.
- А поцелуй, как сладкий мёд,
- Не надо клятв, не нужно слов…
- Всё в этом миге навсегда
- В живой воде – осколки льда,
- Мы одолели этот брод,
- Ты где сейчас, моя любовь?
- А вот и самый первый класс.
- Испуг и радость, дождь и дрожь,
- Звонок звенит – путёвка в свет,
- Длиною в жизнь один ответ:
- Пусть этот мир запомнит нас,
- Отвергнет страх, отвадит ложь.
- Захлопнул школьный я альбом,
- На город опустилась мгла,
- Луна мерцала в небесах —
- Шкала на внутренних весах…
- Я помню дивный этот звон
- Как эхо давнего тепла.
Делится жизнь…
- Делится жизнь на отрезки —
- Маленькие и большие,
- Карикатуры и фрески,
- На пропасти и вершины.
- Делится жизнь на успехи —
- Заслуженные и не очень,
- На тупики и вехи,
- На близких людей и прочих.
- Делится жизнь на ошибки —
- Собственные и чужие,
- На слёзы и на улыбки —
- Открытые и кривые.
- Делится жизнь на поступки —
- От сердца и от гордыни,
- Отказы, издержки, уступки,
- На реки и на пустыни.
- На что будет жизнь делиться,
- Решать самому придётся —
- Лететь к солнцу вольной птицей
- Или не видеть солнца…
Григорий Незамайков
Дважды рождённый
– 1 —
Однажды дед мне сказал:
– А знаешь, я ведь царя видел!
– На троне? В Зимнем дворце?
– Нет, конечно… Мне было лет шесть, мы жили в Нижнем Новгороде. А Николай Второй с большой свитой, на низеньком, плоском пароходике плыл вверх по Волге из Нижнего в Ярославль. В этот день отец взял меня на берег, где было очень много народа. На плечи посадил. Корабль шёл достаточно близко к берегу. По палубе ходили нарядные дамы и такие же кавалеры. Отец показал мне на невысокого человека и сказал: «Вот, смотри, это царь!» Я разочарованно выдохнул. Мне казалось, что царь должен быть высоким, огромным, большим. А этот какой-то обыкновенный…
Мой дед, Константин Григорьевич Брендючков – человек уникальной судьбы. Жизнь протащила его через такие жернова, которые неведомы большинству нынешних. Революция, разруха, Великая Отечественная война, Бухенвальд… Казалось, это должно сломать и уничтожить всё человеческое в душе! Но этого не произошло…
– 2 —
Константин Брендючков появился на свет в октябре 1908 года. И сразу после его рождения начались события невероятные и даже слегка забавные, но об этом чуть позже.
Детство Кости прошло в семье рабочего Сормовского Нижегородского завода Григория Алексеевича Брендючкова. Григорий Алексеевич был известным профессиональным революционером, членом РСДРП. Вёл переписку со Львом Троцким. Эти письма позже, при Сталине, пришлось уничтожить от греха подальше по вполне понятным причинам. В доме бывали известные участники революционного движения. Часто появлялся Максим Горький, пили чай, разговаривали. Дед вспоминал, что Горький очень тепло к нему относился и с радостью брал на колени. Играл, забавлялся, качая на ноге, покуда велись взрослые, серьёзные разговоры.
Очевидно, наслушавшись, маленький Костя в 1915 году решил отправиться на войну! Заготовил нехитрые харчи, собрал сумку и пошёл пешком в сторону боевых действий. Однако был остановлен околоточным и доставлен домой, где был выпорот отцом, но не за побег, а за то, что потерял в грязи одну калошу из недавно купленной пары.
– 3 —
С Максимом Горьким был связан ещё один эпизод.
После окончания Нижегородского электротехникума в 1930 году Константина Брендючкова направили на строительство Челябинского тракторного завода техником-электриком. Работал он там, как и большинство людей того времени, яростно, истово и с энтузиазмом. И вот, через пару лет, ясным рабочим днём прибегает комсорг их ячейки и сообщает, что в дирекции его ожидает никто иной как сам писатель Максим Горький! И что немедленно надо идти к нему!
Мой дед, как человек суровый, ответил, что сегодня не первое апреля, и эту шутку он не принимает. Комсорг ещё долго клялся и даже крестился, но потом убежал. Вскоре появился начальник электроцеха с тем же сообщением. Мол, Горький ждёт, хочет поговорить! Вскипев, дед ответил начальнику, что если Горький хочет поговорить, то пускай сам сюда и идёт.
Дальнейшее дед описывал так:
– И вот смотрю, по заводскому пустырю приближается ко мне одинокая долговязая фигура, до боли знакомая по газетным фотографиям. Батюшки! Да это же и в правду Алексей Максимович! Подошёл, поздоровался, начали говорить.
– А о чём говорили-то?
– Да разговора толком не получилось! Я сам был ошарашен, сконфужен. Так неудобно вышло! А он всё больше спрашивал о моём отце, который умер уже лет пять назад. Коротко рассказал мне что-то про заграницу… Ну а потом мы простились. Он меня приобнял, сказав: «Ну, будь здоров, сынок!» и отправился в обратную сторону.
– 4 —
А потом… Потом была война. Константин Брендючков был мобилизован в 1941 году и отправлен в составе 52-й стрелковой дивизии на фронт. Воевал под Ржевом, затем на Харьковском направлении в звании воентехника 1-го ранга.
Под городом Славянском Константин Григорьевич Брендючков попал в плен…
Из автобиографии: «В марте 1943 года мастерская, в которой я служил в составе шести человек мастеров и рабочих вместе со мной и под командой начальника мастерской, без оружия, передвигались ночью на грузовике от города Славянска по указанному маршруту, следуя отданному нам приказу. Перед утром наткнулись на какую-то немецкую группировку, зашедшую в тыл нашим частям, и были обстреляны, причём двое были убиты, а остальные захвачены в плен».
Дальше были несколько тюрем во Владимире-Волынском, в Ченстохове, в Лимбурге. И вот в августе 1943 года он и группа других советских офицеров оказались перед строением с железными воротами, на которых было написано «Jedem das Seine» («Каждому своё»).
Это были ворота немецкого концлагеря Бухенвальд.
– 5 —
В этом жутком месте моему деду предстояло провести почти два года.
Бухенвальд был лагерем смерти. Это означало, что он был конечной точкой для заключённых. Отсюда никого никуда не отправляли, кроме как в крематорий. Смерть была привычной, она всегда была рядом, она стояла через одного в строю на поверках на аппельплаце. Любой эсэсовец имел право застрелить заключённого просто так, без объяснений. И они этим правом пользовались. Любой охранник на вышке ночью, услышав некий шум в бараке, мог дать очередь из пулемёта по крыше. Это означало: «Эй, вы, потише там!» И никого не волновало, что утром из этого барака выносили несколько трупов.
Но, как бы то ни было, люди продолжали жить и в таких условиях. Рядом с лагерем предприимчивые немцы возвели мебельную фабрику, где использовали труд заключённых. Это было неизбежным, но взаимовыгодным обстоятельством. Немцы получали дармовой труд, а заключённые – нужные им для разных целей инструменты и материалы. Таким же важным делом было общение с внешним миром. Это занятие было выгодно и лагерному подполью, которое и определило Константина Брендючкова, как специалиста по электрооборудованию, на такую работу.
– 6 —
Удивительно, но в критических ситуациях в человеке иногда просыпаются скрытые способности. Вот и у моего деда совершенно внезапно в лагере смерти Бухенвальд проявилось литературное умение писать стихи и прозу. Сначала это выражалось в коротких, хорошо запоминающихся стихах-четверостишиях, к несчастью, несохранившихся. Потом появилась лирика и патриотические строки.
К концу войны условия содержания заключённых стали немного мягче. Эсэсовцы уже не так лютовали: чувствовали неминуемое поражение. И тогда удалось совершить чудо! Совершенно невероятным образом удалось организовать самодеятельный театр. Константин Григорьевич по памяти записал пьесу Чехова «Медведь». Заключённые поставили и отрепетировали эту пьесу. Несколько раз её показывали в разных блоках лагеря.
После «Медведя» Константин Григорьевич уже сам написал две пьесы для этого театра: «Потомки Чапаева» и «Жестокий факультет». Эти пьесы тоже были поставлены в самодеятельном театре. Оригиналы текста этих двух пьес по сей день хранятся в музее Бухенвальда.
– 7 —
До 1944 года побегов из Бухенвальда не было. Точнее, происходили попытки побега, но все они были неудачными. В 1944—1945 годах, когда режим стал мягче, начались удачные побеги из лагеря. Однако, дважды бежать не удавалось никому. Никому, кроме Константина Брендючкова!
Первый раз удалось бежать зимой 1945 года, в феврале. И всё получилось бы удачно, но, переправляясь через несколько рек вплавь, в холода, дед заболел. В бессознательном состоянии его обнаружила немецкая военная полиция и переправила обратно в Бухенвальд.
И быть бы ему наутро публично казнённому, но подпольщики исхитрились его спасти. Были подобраны ключи к помещению каземата, где тот находился (пригодились инструменты…), и имитировали самоубийство. Вместо живого человека подсунули какое-то мёртвое тело, которых по лагерю было в избытке. Оборвали проводку на стене, якобы произошёл удар электротоком. К счастью, имитация удалась, и очутился мой дед опять в бараке среди заключённых, но под другим номером и с другим именем.
Второй раз убежать получилось уже удачно буквально за несколько дней до знаменитого Бухенвальдского восстания, в самом начале апреля 1945 года. Гитлеровцы начали перевозить заключённых в другие места, подальше от фронта, и перед отправкой из эшелона Константин Григорьевич бежал. Через некоторое время был окончательно освобождён нашими частями в районе города Выстриц в Судетской области. Вот так и получился единственный в истории Бухенвальда «двойной» побег.
Через много-много лет я неожиданно познакомился со «следами» этих побегов. Как-то дед попросил меня:
– Пожалуйста, не клади чеснок в это блюдо! Или приготовь мне отдельно, без чеснока!
– Что такое? Почему?
– Да знаешь… В войну, когда я первый раз убежал из Бухенвальда, я две недели пробирался на восток. Ночью двигался, а днём залегал где-нибудь в укромном месте, чтобы не быть обнаруженным. Однажды два дня провёл на огромном поле, засеянном чесноком. Передвигаться было невозможно, а кушать, как понимаешь, хотелось. Вот и пришлось через силу одним чесноком питаться. До сих пор его терпеть не могу!
– 8 —
После Победы дед вернулся к семье, которая проживала всю войну в городе Ветлуга Нижегородской (тогда Горьковской) области. Встретили его жена Екатерина и дочь Ариадна, моя будущая мама. Это именно к ним он обращался из далёкого Веймара строками своей поэмы «Позёмка»:
- Дорогая! Далёкая! Милая!
- Ни с каких не увидишь сторон,
- Как влачу свою жизнь через силу я,
- Отстреляв свой последний патрон.
- Ты не слышишь, как дышит задавленно
- Изнемогший в неволе барак.
- На квартирах далёких оставлена
- Довоенная наша пора.
- Мне пришлось очерстветь и озлобиться,
- Привыкая врага убивать.
- Помоги не забыть твоего лица,
- Человечности не растерять.
- Дай мне вспомнить, как летом к заутрене
- Поспешала спросонья река,
- Самоцветами и перламутрами
- Принималась небрежно сверкать.
- Про леса мне напомни про давние,
- Где в избушке у богатырей
- Непоруганно дремлют сказания
- Под загадочный крик журавлей.
- Всё затмило военной метелицей,
- Тяжко жить, об утратах скорбя.
- А любовь моя поровну делится
- На отечество и на тебя.
- Знать, земля не в ту сторону кружится,
- А над ней бомбовозы гудят.
- Пожелай мне великого мужества.
- Снись почаще! Тоскует солдат…
Отдохнув, Константин Григорьевич занялся преподавательской деятельностью в местном техникуме. Преподавал математику, черчение и электротехнику. Одновременно получил прерванное войной высшее педагогическое образование.
– 9 —
А когда Константин Григорьевич выправлял себе утерянные документы, вышел забавный казус, открывший некоторые подробности его младенчества.
В то время, по традиции, после крещения надо было выправлять метрику, то есть свидетельство о рождении, говоря современным языком. Перед этим родители собрали стол, позвали родственников и достаточно хорошо «посидели». Оформлять метрику вызвалась кума. Быстро собралась и ушла. Вернулась довольная: «Всё хорошо, записала Костю!» Её спросили, на какую фамилию записала-то? «Меня спросили фамилию, я назвала свою. Я же Волкова!» Обругали куму дурой безмозглой, и уже кум отправился исправлять оплошность. Вернулся: «Ну вот, всё поправили». А на какую фамилию-то поправили? «Так я же Ометов! На эту и поправили». Тут уж поднялся отец, Григорий Алексеевич, и лично сам пошёл. Выправили фамилию на Брендючкова.
И вот, по какой-то неизвестной причине, неправильные записи в книге не удалили, оставили действующими. Служащий ЗАГСа ошарашенно сообщил моему деду, что он может на вполне законных основаниях выбрать себе одну фамилию из трёх: Ометов, Волков или Брендючков. Разумеется, дед выбрал фамилию родителей и стал Брендючковым.
– 10 —
Но и литературная работа не отпускала. В эти годы Константин Григорьевич написал роман «Дважды рождённые», где подробно рассказал о событиях в Бухенвальде. Быт заключённых, филигранная и опасная деятельность подполья, подготовка восстания – всё это было отражено в романе. Роман вышел в свет в 1958 году. Однако работа над книгой продолжалась, и в 1961 году было выпущено второе издание, дополненное.
Немного погодя, Константин Григорьевич Брендючков был принят в Союз писателей РСФСР.
Когда я работал над этими воспоминаниями, обнаружил интересную газетную вырезку того времени. Газета «Литература и жизнь» от 30.12.1962 года: «Секретариат правления Союза писателей РСФСР принял в члены союза новую группу литераторов. Среди них автор повести „Один день Ивана Денисовича“ А. Солженицын. В союз приняты: Абдашев Ю. Н. (Краснодар), Белоногов А. Е. (Удмуртия) … Брендючков К. Г. (Ярославль) … Солженицын А. И. (Рязань)…» Хорошая компания!
А следующей книгой после «Дважды рождённых» была вторая – «Школьный выдумщик». Разумеется, про школу, про учителей, про их работу, самоотдачу.
– 11 —
В середине 60-х дед переехал в небольшой посёлок Семибратово неподалёку от Ярославля. Там, на заводе газоочистительной аппаратуры, он устроился инженером-конструктором. Затем работал в филиале научно-исследовательского института заведующим лабораторией. Именно в институте НИИОГАЗ проявилась инженерная и изобретательская жилка. Только по специализации он получил более десяти авторских свидетельств на изобретения. А кроме того, посылал заявку на изобретение пишущей машинки для нот. Много лет работал над изобретением роторного двигателя и несколько раз даже посылал заявки. Как он уверял, два раза опаздывал на пару лет от аналогичных изобретений.
По литературной «прописке» он числился в Ярославском отделении Союза писателей СССР. Очень часто ездил на встречи с читателями, «на гастроли», как сам говорил. Кроме всего прочего это был небольшой заработок, потому как с 1970 года дед уже был на пенсии.
А вот 11 апреля каждого года Константин Григорьевич надевал свой парадный пиджак с медалями и отправлялся в Москву. В одной из школ Москвы, в школе №1577 (ранее это была школа №752) находился музей «Бухенвальдский набат». По мере возможностей там собирали встречи уцелевших узников этого лагеря. И не только из СССР, но и из других стран. Приезжали даже немецкие узники-коммунисты. Константин Григорьевич называл это «встречи выпускников». Один раз и я был вместе с дедом на такой встрече, видел этих легендарных людей.
– 12 —
Несмотря на то, что никаких репрессий к деду по поводу его плена никогда не было, сам он постоянно опасался последствий. «Да! Найдётся какая-нибудь сволочь, узнает про плен, вот и обеспечат цугундер! – не раз говорил он мне и добавлял: – Вот увидишь, и тебя это тоже коснётся!»
Не коснулось.
Но как-то раз был случай… Вот как это описывал Константин Григорьевич:
– Однажды за мной всё-таки пришли! За дверью двое: «Вы Константин Григорьевич Брендючков?» Я отвечаю: «Да». «Вы должны проехать с нами!» «А собраться можно?» – спрашиваю. «Этого не требуется». Вышли на улицу, а там «воронок» стоит с водителем. Посадили меня вперёд, сами сели на заднее сидение. Думаю, вот олухи, я же могу по дороге попытаться выпрыгнуть. Хоть шею свернуть, да не мучиться! Приехали в Ярославль, остановились перед воротами некоего здания. Перед воротами – охрана. Ну что же, думаю, дело знакомое, тюрьма! Завели в здание, оставили в какой-то закрытой комнате. «Сейчас за вами придут! Подождите!» Приходит женщина: «Константин Григорьевич Брендючков? Следуйте за мной!» Следую. Коридор. Заходим в большое помещение. И тут вижу: зрительный зал, битком набитый людьми в форме, сцена, на сцене президиум сидит. Один из президиума встал и говорит: «А теперь давайте поприветствуем писателя Брендючкова! Он в своё время был заключённым в немецких тюрьмах и многое может рассказать о режимных особенностях этих заведений…»
– Ничего себе! И что дальше?
– Ну что… отдышался, начал рассказывать. Должен сказать, беседа хорошая получилась, содержательная. Это, оказывается, был слёт офицеров исправительных учреждений. Они много вопросов задавали. Правильные вопросы, по делу!
– Но слушай, ведь так инфаркт получить можно!
– А я потом с начальством этой конторы побеседовал. Извинился полковник. А тем двоим бо-ольшой нагоняй был. Чтобы не шутили так.
– 13 —
Оставшийся отрезок жизни деда всё равно был наполнен работой. Он увлёкся фантастикой и очень много читал. В местную библиотеку ходил чаще, чем в продуктовый магазин. Завёл тетрадь, где записывал прочитанные книги («Ты смотри, я ведь это уже читал пять лет назад…») и ставил оценки, своего рода рейтинг. Написал и издал фантастическую повесть «Последний ангел». Кстати, даже сегодня, если погуглить, можно не только найти и скачать эту повесть, но и встретить несколько весьма положительных рецензий с подробным и умным разбором сюжета.
Работал над словарём рифм. Чуть ли не половина черновиков в архиве – это страницы рифмованных подборок. На вопрос: «Дед, а нафига это надо?», прищурившись, ехидно отвечал: «А ты назови рифму к слову „окунь“! А у меня есть!» Но здесь, к сожалению, компьютер переплюнул Константина Григорьевича. Сегодня в сети много сайтов для подбора рифм, хотя все они грешат неточностью.
Но любимое детище Константина Григорьевича всё-таки не дошло до официальной публикации. Десятки лет он работал над поэмой «Позёмка», посвящённой подвигу бухенвальдцев. Частично отрывки были изданы в журналах, но полностью она увидела свет только в облике «самиздата». Вручную были отпечатаны и переплетены десяток экземпляров, которые разошлись по близким людям.
– 14 —
Последний удар ждал Константина Григорьевича на излёте. Ушли из жизни самые близкие его люди. Сначала ушла жена, Екатерина Герасимовна, с которой он прожил более 60 лет, потом дочь Ариадна. Однако он не остался в одиночестве. Он смог дождаться даже своих правнуков.
Видимо, сжалившись, испытав на этом человеке все ужасы, которые только можно придумать, судьба одумалась. Как ни жестоко это прозвучит, но она подарила Константину Григорьевичу Брендючкову быструю и безболезненную смерть. Как от пули. Как от пули, догнавшей его через полвека.
Он умер в декабре 1994 года легко и мгновенно.
Примерно за месяц до смерти он сказал мне, что хочет подтянуть свой немецкий язык. Набрал учебников в библиотеке, и долго по вечерам горела настольная лампа в его кабинете…
Александр Анюховский
Он вернулся с войны
- На груди ордена. Он вернулся с войны.
- В сорок пятом пришёл из Берлина.
- Он с боями прошёл от родной стороны,
- От отцовского старого тына.
- Там, где дом его был – пепелище одно,
- Только печь смотрит в небо трубою.
- Только яблоня та, что смотрелась в окно,
- Расцвела. Знать, хранима судьбою.
- Что отца больше нет, мать писала в письме —
- Сгинул батя в огне Сталинграда.
- А что хату с семьёю сожгли по весне,
- Лишь сейчас рассказали солдату.
- В тихой скорби застыв, всё стоял и стоял.
- Проносились года над планетой…
- И сейчас он стоит, а под ним пьедестал
- И цветов ярко-красных букеты!
Безымянному солдату!
- В полный рост из окопа встал
- Он за Родину, дом и мать.
- За сестру, что в яслях качал.
- На врага Он шёл! Убивать!
- Шаг уверенный был тяжёл,
- Ведь не Он на чужой земле
- Сотни жёг деревень и сёл,
- Обезумев в кровавой мгле.
- Не бросал Он людей в огонь,
- Будто это вязанки дров…
- Он всё крепче сжимал ладонь
- У несжатых с полей хлебов.
- За спиной багровел рассвет,
- Был на запад тяжёлым путь,
- Но ломал Он врагу хребет,
- Чтоб с земли навсегда стряхнуть!
- Умирал Он не раз, не два,
- Лишь сильнее стал во сто крат!
- У него судьба такова —
- Он советский простой СОЛДАТ!
Советским военнопленным 1941—1945 г. г. посвящается
- Не судите солдата, попавшего в плен.
- Обвинять не спешите в измене.
- Он не пачкал в грязи ни погон, ни колен:
- Он лишь жить захотел на мгновенье.
- Дома старая мать и жена на сносях,
- И хозяйство нехитрое в доме.
- «Коль не будет меня?.. – думал он второпях.
- Жизнь и смерть – у судьбы на изломе. —
- Что же плен?! Если буду живой – убегу!
- Жажда мести мне силы удвоит.
- А сейчас, даже «сдавшись», не сдамся врагу.
- Слёзы страха лицо не умоют!»
- Он сжимал кулаки, выживая в аду.
- Рядом смерть собирала трофеи.
- Души дымом и пеплом летели в трубу,
- На костях пировали злодеи.
- Голод рвал изнутри. С ног валился порой,
- Измождённый трудом непосильным.
- Но не встал на колени, не сдался герой,
- Словно бинт оставаясь стерильным.
- Как солдата зовут? Смог ли всё же бежать?
- Вновь бороться с нацистскою гидрой.
- Или вечно остался в граните стоять,
- Как несломленный Карбышев Дмитрий.
Людмила Костылева
Витёк
Он уверенно шёл по железнодорожным рельсам с охапкой весенних полевых цветов. Тёплое солнце светило в глаза, отчего хотелось жмуриться и одновременно улыбаться. Родителям на собрании всё равно сообщат, что он прогуливает уроки, а одним днём больше, одним меньше – какая разница. За спиной послышался гудок поезда, ещё далеко, но спрыгивать на насыпь перед самым составом с цветами рискованно, поэтому в этот раз он спустился пораньше обычного, укрывая своим телом нежные растения от создаваемого движущейся громадиной порыва воздуха.
– Почём букетик? – представительный мужчина в шляпе и очках обратился к мальчугану.
– Рупь.
– Ты чего так дорого берёшь?
– А вы сами, однако, полазьте по лугам.
– Давай за пятьдесят копеек?
– Ладно.
Оставалось всего два букетика, но они, пригретые в полдень, стали медленно опускать вялые головки; листочки без воды тоже выглядели печально. Потенциальных покупателей в поле зрения не наблюдалось – сегодня не рыночный день, а есть и пить хотелось до ужасти. Витёк отошёл в сторону и пересчитал заработанные монетки. Совсем неплохо. Большую часть он отложит в заначку на стою мечту, а немного можно потратить прямо сейчас.
– Сколько тебе?
– Давайте три. Нет четыре.
Он заворожённо смотрел на продавщицу, выдавливающую на вафлю цилиндр вкуснейшего мороженого, как на волшебницу. Усевшись на соседнюю скамейку, голодный пацанёнок принялся растягивать блаженство, подставив смуглую мордашку под яркие лучи.
– Давайте ещё три.
Продавщица покосилась, внимательно посмотрела на широкое довольное лицо мальчишки с явными примесями бурятской крови, но что-то говорить не сочла нужным. Дети войны, да ещё в центре Сибири, получили такое естественное закаливание – никакая зараза не возьмёт. Чего уж там лишняя порция пломбира.
Счастливый Витёк бодро шагал в обратном направлении. В кармане приятно позвякивали заработанные монетки; ещё немного, и он сможет купить себе велосипед, как у Витьки-медведя с другой улицы. На деревянной, со слегка облупившейся краской скамейке остались увядать никому не нужные цветочки.
Достав из кустов припрятанный портфель, Витёк повернул к дому, пиная попадающиеся под бывшие отцовские ботинки камешки и мечтая о том, что, когда вырастет, обязательно станет машинистом. Из окошка чердака торчал толстый зад матери, стоящей на приставной лесенке. Мальчик весь напрягся: «Нашла!»
– Мать, ты чего туда залезла?
Женщина замерла, поправила чуть задравшийся выше колен подол цветастого платья, потом медленно стала спускаться вниз. Раскрасневшееся лицо её выглядело виноватым, но и одновременно злым от отчаяния.
– Витька, паршивец, я знаю, что у тебя есть деньги.
– Есть, мои.
Мальчик обратил внимание на влажные подмышки домашнего платья матери. Значит, давно везде выискивает.
– Знамо, что твои.
– А ты зачем шаришь, ежели мои?
– Надо, однако.
– Всем всегда надо. Я заработал – значит, мои.
Мать потянулась к уху своенравного и прижимистого пацана, но он вовремя увернулся и забежал за угол дома, облегчённо выдохнув: «Значит, не нашла!»
Из будки лениво вылезла большая лохматая собака, потянулась, словно нехотя зевнула, высунув яркий язык и блеснув острыми зубами, затем смиренно уставилась с умным видом на молодого хозяина, нервно кусающего губы, стоя за поленницей.
– Витька, отдай деньги по-хорошему! – кричала во дворе мать, выглядывая, где сорванец спрятался.
Шумела она долго, но безрезультатно.
– Вить, а ты чего тут стоишь? – с любопытством заглянул в укрытие младший братишка, ковыряя пальчиком в носу.
– Тебе чего надо? – шёпотом огрызнулся мальчик. – Иди отсюда!
– Ах, вот ты где! – За спиной братишки выросла крупная фигура матери, закрыв собой просвет как надежду. – Вот я тебя сейчас ремнём!
– За что?!
– Чтоб от матери не бегал и деньги не прятал.
– На, бей! Бей! А деньги всё равно мои!
Мать в сердцах стукнула кулаком по спине, повёрнутой в её сторону с вызовом, и тут же отступилась. Опустилась на подгнившую старую скамейку и запричитала, руками злые на судьбу слёзы утирая.
– Краску там привезли половую. Мало. Быстро разберут. Сколько наши половицы скоблить можно? Я руки все в кровь изодрала, заживать не успевают. Вот думала, покрасим, гладкий коричневый и красивый пол в избе станет.
Витёк стоял рядом, молчал. На велосипед самую малость не хватало. Потом медленно пошёл к лесенке, поднялся на чердак. Там, под самой крышей в щели между досок был его заветный тайничок. Достал, подержал в руках и решительно спустился вниз. Мать смотрела с надеждой.
– На, покупай чего хотела, – всунул звенящий скомканный бумажный пакетик в натруженные сильные руки и убежал.
– Велосипед мы купим тебе с отцовской получки! – крикнула вслед растроганная мать, но Витёк уже не слышал.
С получки велосипед купить родители не смогли, но на следующий год чуток ещё подросший мальчишка крутил педалями и, сверкая рамой новенького велосипеда, рассекал по утоптанным дорожкам родного посёлка.
Мария Камушкова
Посвящается дедушке
Мой дед Василий Ефимович Аталыков родился 23 февраля 1919 года.
В 1938 году призван в армию. Воевал, имеет множество орденов и медалей.
Войну закончил в Вене.
После Победы продолжил службу в Советской Армии в звании подполковника.
23 февраля 1995 года ушёл из жизни.
Вечная память!
Ему посвящаю эти стихотворения…
Советское «оттуда»
- Всем добрый из Советского «оттуда»!
- Иду сейчас, мороженое ем.
- Звенит в авоське чистая посуда.
- Чтоб сдать её – помыли перед тем!
- А в небе ясном солнышко играет,
- Щекочет ветер первую листву.
- И, как сейчас, девчонка вспоминает
- Ту тёплую и мирную весну!
- Бежит троллейбус с яркими флажками,
- И шарики взмывают до небес.
- На площади народ стоит кружками:
- Встречают Первомай сегодня здесь.
- Играет вальсы духовой оркестр,
- Танцуют пары, весело кружа…
- И папа с сыном наблюдают вместе,
- Как улетает в небо красный шар…
- Привет вам из Советского «оттуда»,
- Где детство наше светлое прошло!
- Где в Новый год все дети ждали чуда,
- А взрослым просто было хорошо!
- Где было небо синее над нами,
- Где мир царил, добро и тишина.
- И где всегда гордилась именами
- Могучая и сильная страна!
- Привет вам из Советского «оттуда»…
Я родилась
- Я не чесала макушку лета
- И не встречала прилёт скворцов —
- Я окунулась в объятья света
- Под гордым знаком двух Близнецов!
- В тот день прохладный гроза гуляла,
- И резкий ветер стучал в окно,
- Но это было пути начало,
- Пройти который мне суждено.
- Как будто сразу, в порывах плача,
- Мне дан был свыше большой талант:
- Совсем девчонка – уже скрипачка
- И так почетно: «Я музыкант!»
- Но жизнь чертила свои зигзаги,
- Лечило время тоску потерь,
- Меня учили: «Твори во благо!»,
- Мне говорили: «В судьбу поверь!»
- И вот полвека мне дышат в спину,
- Я лет как тридцать лечу людей,
- А скоро снова увижу сына,
- И будет новый прекрасный день.
- А в день волшебный сойдутся звёзды,
- И дрогнет небо в пылу стихий.
- И вновь явлюсь я в Созвездьи гордом
- И напишу вам свои стихи.
- Я не чесала макушку лета
- И не встречала прилёт скворцов —
- Я окунулась в объятья света
- Под гордым знаком двух Близнецов.
Волыны
- О своей деревеньке Волыны
- Пару строк я хочу написать.
- Деревенька живёт и поныне
- И лет сто ещё будет стоять.
- В тех краях протекает речушка,
- Там берёзок бескрайняя даль,
- А в лесу не смолкает кукушка,
- Словно хочет мне век нагадать.
- Запах солнца и жаркого лета,
- Аромат свежесобранных трав.
- В ярких красках деревня воспета —
- Живописный художников край.
- Здесь прошло беззаботное детство,
- Здесь деревья росли вслед за мной.
- И хотелось успеть на рассвете
- Родниковой умыться водой.
- Земляника стелилась коврами,
- Васильками пестрели поля…
- И всегда осыпала дарами
- Плодородная наша земля.
- Только время проносится мимо.
- Невозможно его удержать.
- И деревья те стали большими,
- И кукушка устала гадать…
- Но живёт деревенька поныне,
- И сто лет ещё будет стоять,
- И названием гордым Волыны
- Станет нас, как и прежде, встречать.
- ________________________________
- * Деревня Волыны, Свердловской области, городской округ Староуткинск, Шалинского района.
На чердаке
- На чердаке среди старого хлама
- Лежат давно забытые вещи:
- Вот самокат, что купила мама,
- На нём теперь лишь множество трещин.
- А самолёт, что дарили брату:
- Давно разбился тот истребитель…
- В тот день пилоту дали награду,
- Теперь у брата личный водитель.
- А эта кукла, что плачет вечно.
- Её сестрёнка нашла под ёлкой.
- И платья, шитые бесконечно,
- Уже не модны совсем нисколько.
- А этот стол сколько в жизни видел!
- Гостей, рождений, поминок, плясок.
- И первый ламповый телевизор
- Его как будто украсил сразу.
- И тот комод, что давно без ножки,
- В углу томится покрытый пылью…
- И стопка книг в помятых обложках
- Расскажет внукам, как это было…
- На чердаке среди старого хлама
- Лежит давно ушедшее детство…
- А нам яичницу жарит мама.
- Ну что ты? Вот же мы! Дай раздеться.
Таксофон
- «Привет, могу услышать Сашу?»
- «Пардон, попали не туда!»
- Вот так по молодости нашей
- Гуляли связи провода.
- В стеклянном мире таксофона
- Хранился свой большой секрет,
- И «двушка» методичным звоном
- Вершила судьбы много лет.
- Движеньем диска набирались
- Всего лишь шесть заветных цифр,
- И голос страсти и печали
- Невольно слышал целый мир.
- И перед грустью расставанья,
- Когда не знали, что сказать,
- Всегда срабатывало: «Ладно,
- Прости, но тут уже стучат!»
- И, как молитва, были с нами
- С небес кричащие слова:
- «Ты позвони любимой маме —
- Она весь день звонка ждала…»
- Уходит славная эпоха,
- И отголоском «двушек» звон,
- Лишь смотрит в вечность одиноко
- Вершивший судьбы таксофон.
- И дверь его никто не смажет,
- Не склеят старый ржавый диск…
- Лишь возглас «Здрасьте, можно Сашу?»
- Печально в воздухе повис.
Мой папа
- Мой папа – художник талантливый очень,
- Он вырастил двух замечательных дочек,
- Красивых и сильных, послушных и стройных,
- И в школе они отучились без троек.
- Росли две девчушки – веснушки-косички,
- И были так дру́жны родные сестрички,
- Но жизнь неизбежно внесла коррективы,
- И их разлучила судьбою строптивой.
- Уехала старшая в дальние дали —
- Об этом она никогда не мечтала,
- А младшая дома осталась послушно —
- Ей в дальние дали и даром не нужно.
- Но судьбы обеих сложились удачно:
- Замужество, семьи, детишки и дачи,
- Но ценностей этих девчонкам не надо:
- Пусть папа всегда будет с сёстрами рядом.
- Пусть словом поддержит, советом поможет,
- И внуков понянчить, конечно же, сможет.
- И если случится большая беда,
- Нам папа любимый поможет всегда!
- Мой папа – художник талантливый очень,
- Он вырастил двух замечательных дочек,
- Одна из которых дизайнером стала,
- Другая вам эти стихи написала.
Экипаж машины боевой
- Под шаги военного парада
- Ветераны снова встали в строй,
- Вспоминает майский сорок пятый
- Экипаж машины боевой.
- Вспоминает лютые морозы,
- Проклинает серые дожди,
- Погибает, проливая слёзы,
- В треугольном смятое: «Не жди!»
- Пролетает, разрывая небо,
- Наступает раненой стеной.
- Согревает кровь краюшка хлеба
- И металл машины боевой.
- Поднимает песней на рассвете,
- Поминает тех, кто не дожил…
- Понимает: дома плачут дети!
- Мы вернёмся! Дай нам только сил…
- И под марш военного парада
- Ветераны снова встанут в строй.
- И пройдёт победным «сорок пятым»
- Экипаж машины. Боевой!
Дом
- Всё тот же дом, да покосились ставни,
- Всё тот же двор, где бегали недавно,
- Всё тот же пёс, изрядно похудевший…,
- Травой зарос журавль с водою свежей.
- А этот дед с потухшим серым взглядом
- Ещё вчера командовал отрядом,
- Но в эту ночь опять война приснилась…
- И с неба прочь в туман звезда скатилась…
- И снова дом, в котором всё знакомо,
- Всё чисто в нём, в углу стоят иконы,
- В сенях висит травы сушёной веник,
- И мирно спит забытый кем-то велик.
- …И, как вчера, играет солнцем речка,
- Уже с утра пыхтит дровами печка.
- Горячий хлеб и молоко парное,
- И смотрит с ветки яблоко большое…
- В полях туман, росой трава умылась,
- А где-то там опять звезда скатилась…
- И серый пёс, простуженный немного,
- Повесив хвост улёгся на дорогу…
- Наряжен сад черемухой душистой…
- Но по ночам порой мне всё же снится
- Тот старый дом, что поседел от века…
- Всё так же в нём, да не к кому заехать…
Май
- Пока цветут сады, встречая лето,
- А в небе пляшет первая гроза,
- Пока душе не спится до рассвета,
- А в травы льётся свежая роса,
- Мы будем жить,
- Встречать весну и лето
- И песни петь, собравшись у костра.
- И это очень добрая примета,
- Когда придёт цветения пора.
- Покуда бьётся сердце молодое,
- А струны нежно плачут от любви,
- Пока над нами небо голубое,
- А в рощах не смолкают соловьи,
- Мы будем жить и радоваться лету,
- В мечтах встречать рассветы у воды.
- И самая хорошая примета,
- Когда цветут весенние сады.
- Пока шагает май победным маршем,
- А в небо льётся брызгами салют,
- Пока хранит молчаньем память наша,
- Тот светлый день и яблони в цвету,
- Мы будем жить, и снова будет лето,
- И улыбнётся солнце с высоты.
- Но самая хорошая примета,
- Когда цветут весенние сады!
- Пока цветут сады в начале мая…
Антонина Ащеулова
Забвению не подлежит
Тема Великой Отечественной войны в нашей семье связана с болью и потерями: оба мои дяди, Тимофей Егорович (1913 г. р.) и Фёдор Егорович (1924 г. р.) Мещеряковы, не вернулись с фронта. В детстве много интересного о них я узнавала из рассказов моей мамы, Казариной Анастасии Егоровны. Со временем важные моменты их боевого пути постепенно стёрлись из моей памяти. Очень жаль, что осознание нами семейных ценностей происходит, чаще всего, в зрелом возрасте. Поэтому, стремясь до конца исполнить свой долг перед погибшими родственниками, несколько последних лет я занималась восстановлением их военной биографии.
Из маминых рассказов в моём сознании довольно чётко сохранился лишь эпизод проводов на фронт второго сына бабушки. До сих пор я вспоминаю об этом событии с комом в горле. Проводив старшего сына, моя бабушка, Елизавета Константиновна Мещерякова, всё же лелеяла надежду, что младшего своего, восемнадцатилетнего Феденьку, сможет уберечь от ужасов войны. В действительности же оказалось, что победа ковалась ценой жизни и таких юнцов. Обессилившая от слёз и горя, она сначала пыталась идти по цветущему летнему лугу рядом с группой уходивших на фронт односельчан. Затем, понемногу отставая, всё равно шла за ними, не переставая махать рукой на прощание. И даже когда далеко за горизонтом скрылась фигура сына, бабушка по-прежнему медленно шла вперёд. Иногда она останавливалась и вновь начинала махать рукой им вслед.
Сколько же переживаний выпало на долю этой хрупкой женщины в военную годину! Немало ей пришлось выплакать слёз, оставаясь в неведении о судьбе двух своих сыновей. Письма от Тимофея, хоть и изредка, но всё же приходили. А вот от Феденьки не было никакой весточки. Со временем, когда ситуация на фронте немного прояснилась, Тимофей вкратце написал маме с сестрой, что Орловская битва оставила солдатам слишком мало шансов на выживание.
На сайте города Орла в разделе «Летопись города» совсем недавно я прочитала: «В истории Великой Отечественной войны Орловская битва не имеет себе равных по продолжительности. Боевые действия длились непрерывно двадцать четыре месяца – с октября 1941 года по октябрь 1943 года, что составляет половину всего военного периода. В этой битве наша страна понесла огромные потери людских ресурсов. В целом неудачей для войск Красной Армии закончилась Орловская наступательная операция (февраль—март 1943 года). За два месяца непрерывных боёв число убитых и пропавших без вести составило 40 871 человек, раненых – 77 323 человека».
Лишь после изучения многочисленных документов, в последнее время появившихся в свободном доступе, я узнала, что один из боёв мартовской Орловской операции стал последним и в жизни моего дяди, Мещерякова Фёдора Егоровича. Удивительным образом вскоре удалось в общих чертах воспроизвести картину подобных военных сражений на этой земле. Из беседы с одноклассницей, жительницей Наровчата Пензенской области Ниной Сергеевной Поляковой я узнала, что родословная нить её мужа тянется с Орловщины. В деревне Кожуховка Ливенского района прошло детство его папы.
Войну он встретил двенадцатилетним мальчишкой: через их село проходила линия фронта. До конца своей жизни он с ужасом вспоминал о детском страхе, с каким во время очередного боя они с другом убегали прятаться в лес вместе с другими жителями. А чтобы не потеряться в общей толпе, они крепко держали друг друга за руки. От разрывов бомб и снарядов всё взлетало в воздух, горели земля и небо.
Когда бой затихал, население потихоньку возвращалось в село. Взору каждого открывалось страшное зрелище: повсюду лежали тела погибших бойцов, по военной форме которых можно было определить и солдат немецкой армии. Затем представитель местной власти приглашал всех односельчан, а это были люди преклонного возраста и малолетние дети, для погребения убитых воинов. Передавая мысли родственника, Нина Сергеевна рассказывала, с каким трудом голодные, обессиленные мальчишки перетаскивали к общей яме тела убитых. Порой сразу всех не успевали захоронить.
Возможно, подобным образом складывалась и картина последнего боя моего дяди. А начало его военного пути помогло определить одно из моих детских воспоминаний. Вернее, одна из ассоциаций, которая возникла в связи с маминым рассказом. Рассказывая о судьбе своего брата, она часто называла имя жителя села Ляча Наровчатского района Пензенской области Петра Семёновича Деева. В моей памяти отложилось, что они одновременно с дядей были призваны Наровчатским РВК и направлены на курсы в Тамбов, а затем их военные пути разошлись.
Немало воды утекло с тех пор. Почти два десятилетия назад не стало нашей мамы. Постепенно уходят и непосредственные участники боевых сражений, очевидцы тех страшных событий. А в октябре 2012 года проводили в последний путь и П. С. Деева. Приступая к поиску информации о Ф. Е. Мещерякове, я попыталась вспомнить, что же мне о нём известно. По словам мамы, Фёдор был на два года старше её, значит, он был рождён в 1924 году. Предпринимая многочисленные попытки восстановить героическую страницу моих близких, я посетила сайты Министерства Обороны РФ ОБД – Мемориал» и «Подвиг народа». Успех моему поиску также обеспечило и знакомство с обновлённой Всенародной Книгой памяти Пензенской области «Никто не забыт, ничто не забыто». Целая страница там была посвящена Петру Семёновичу Дееву. Во-первых, меня интересовало начало его военного пути. Вот наконец-то и появилась главная зацепка, которой были связаны военные судьбы двух земляков. Документальный материал со страницы Петра Семёновича помог дополнить военную биографию Фёдора их общими фактами: «Призван в Красную Армию 21 июля 1942 года Наровчатским РВК Пензенской области. Направлен в Тамбовское пулемётное училище (ТПУ), зачислен с 20 августа 1942 года курсантом. Участник Отечественной войны с октября 1942 года».
Дальнейшим источником информации послужила Книга Памяти 1941—1945 годов. Из неё я узнала, что младший лейтенант Мещеряков Фёдор Егорович погиб в бою 10 марта 1943 года. Первичным местом его захоронения считается Орловская область. К сожалению, полностью отсутствуют данные о боевых действиях в составе воинских частей на период его службы.
Сообщение о гибели Фёдора Егоровича в семью пришло значительно позже фактической даты. Но Елизавета Константиновна свято верила, что обязательно дождётся сыновей живыми. Неугасающую надежду в её сердце вселяло и полученное от Тимофея письмо, в котором он пообещал приехать домой к Михайлову дню, т. е. к 21 ноября 1945 года. Сообщал, что уже освобождает с нашими войсками Венгрию. К сожалению, это была его последняя весточка.
Передо мной лежит пожелтевший от времени листок с двумя военными штемпелями. Это ответ на мамин запрос в Москву от 6 октября 1950 года в отдел по учёту погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава Советской Армии генштаба Советской Армии. Других документов в нашей семье не сохранилось: фронтовые письма-треугольники вместе с фотографиями братьев мама передала работникам Большеколоярского сельского совета.
Согласно этим документам были составлены списки для памятника погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны. Памятник установлен в селе Большой Колояр, на мемориальных плитах которого среди других освободителей числятся и имена братьев Мещеряковых. Очень грустно, что об этом при жизни не узнала бабушка Лиза. От безутешного горя она лишилась зрения, и последнее десятилетие жизни бабушки было наполнено ежесекундной борьбой по преодолению невидимого её взору окружающего пространства.
Эта грустная история с бабушкой и неизвестная судьба Тимофея Егоровича побудили меня продолжить архивные поиски. На протяжении нескольких лет мною неоднократно предпринимались попытки восстановить его боевой путь. Последняя из них увенчалась успехом. Введя в поисковую строку инициалы старшего брата мамы, я перешла на сайт «Память народа». Там была размещена Всероссийская Книга памяти. С сильно бьющимся от волнения сердцем я открыла 362 страницу 5 тома, где были напечатаны архивные данные нескольких участников войны с фамилией Мещеряков. Быстро пробежала глазами по этому списку и замерла, обнаружив знакомые инициалы. Со слезами на глазах прочитала три строки официального текста, вместившие всю жизнь моего дяди: «Мещеряков Тимофей Егорович, 1913 год рождения, место рождения Пензенская область Наровчатский район с. Акимовщино, место призыва Наровчатский РВК, старшина, 00. 10. 1945 года пропал без вести».
Отсутствие даты призыва мне удалось предположительно установить на основании военной биографии младшего брата. Если Тимофей был призван на фронт первым, то это могло произойти раньше 21 июля 1942 года, официальной даты Фёдора. Значит, на тот период ему исполнилось 28 лет. Обсуждая с сёстрами полученную информацию, неожиданно вспомнили эпизод маминого рассказа о ранении Тимофея в плечо и о его направлении на излечение в Наровчатский эвакогоспиталь. Как же досадно, что значительно позже сообщили об этом семье! С большим сожалением мама рассказывала, что бабушка Лиза преодолела пешком более двадцати километров, но сына к этому моменту уже отправили на фронт. Из-за отсутствия списков раненых определить точную дату поступления Тимофея Егоровича в эвакогоспиталь не предоставляется возможным. В настоящий момент в военной биографии братьев Мещеряковых ещё много вопросов, но благодаря доступным документальным источникам на главные из них удалось найти достоверные ответы. Очень хочется надеяться, что со временем и на оставшиеся удастся их получить.
С каждым годом всё дальше в прошлое уходит Великая Отечественная война, но сокровенные воспоминания о ней пронзительной болью живут в сердцах детей и внуков освободителей. Жизнью доказано, что это чувство неподвластно времени. А это значит, что священная память о великом подвиге советских солдат, как и имена погибших защитников Отечества, забвению не подлежат!
Елена Полещикова
«В карауле стоят берёзы…»
- В карауле стоят берёзы,
- Обрамляя надгробий ряд.
- На глазах ветеранов – слёзы,
- На груди – медали горят.
- Сокращается список всё резче
- Тех, кто жизни своей не щадя,
- Не страшились ни ран, ни увечий,
- От Отчизны удар отводя.
- И сегодня немного растерянно
- Друг на друга взирают они,
- Вспоминая погибших безвременно
- И этапы минувшей войны.
- Вспоминают, скорее угадывают,
- Сквозь морщины, сквозь слёзы и боль
- Те черты, что навеки утрачивают
- Все мальчишки, вступившие в бой.
- И признательные поколения
- Свято подвиг их помнят и чтут.
- Им сегодня цветы, поздравления
- И в темнеющем небе салют!
Ветеранам посвящается
- Поколение наше знакомо с войной,
- К счастью, только по фильмам и книгам,
- Но живёт в нашей памяти каждый Герой —
- Храбрый воин Отчизны великой.
- Сколько их не вернулось с кровавой войны,
- Скольких мучают старые раны,
- Только братству солдатскому свято верны,
- Не сдаются легко ветераны.
- И, последние силы с натугой собрав,
- Вспоминая погибших до срока,
- Все награды наденут они на парад,
- Пряча слёзы, стесняясь немного.
- Перед мужеством их в неоплатном долгу
- Мы за мирные наши рассветы,
- За страну, что они не отдали врагу,
- И пьянящую радость Победы!
«Всё зло на свете – из-за войн…»
Где ты, иволга, леса отшельница?
Н. Заболоцкий
- Всё зло на свете – из-за войн,
- Из-за стремленья верховодить,
- Власть получить любой ценой,
- Обман искусно узаконить.
- Всё зло на свете – в нас самих,
- В амбициях, в жестоком «эго»,
- В словах и действиях дурных,
- Что недостойно Человека.
- И рушим мы волшебный мир,
- Мир красоты, добра и света,
- Где иволги наряд пестрит,
- И голосок звучит, как флейта,
- Где на берёзовых ветвях
- С листвой заигрывает ветер,
- И жизнь течёт не второпях,
- И каждый миг в ней чист и светел!
«Победа – весомое, ёмкое слово!..»
- Победа – весомое, ёмкое слово!
- Огромная воля победы основа.
- В той страшной войне, что страну захватила,
- Народ приложил для Победы все силы.
- Отважно сражаясь, себя не жалея,
- И ночью, и днём вдохновляясь идеей
- Отпор дать врагу, чтоб на вечные веки
- Царил мир вокруг и в душе человека.
- Девятое Мая – священная дата!
- Звучат поздравленья, салюта раскаты…
- Победа, великая наша Победа!
- За мирное небо спасибо вам, Деды!
«Бессмертный полк, бессмертная Победа…»
- Бессмертный полк, бессмертная Победа,
- Добытая немыслимой ценой.
- И память, память об отцах и дедах,
- Что отняты жестокою войной.
- Бессмертный полк – и молодые лица
- На фотографиях плывут в толпе людской.
- Им никогда уже не измениться,
- Принявшим свой последний смертный бой,
- Отдавшим жизнь, чтобы могли рождаться
- Под мирным небом дети и цветы,
- И чтобы никогда не повторяться
- Безумию и ужасам войны.
- В глаза на фото смотрим виновато,
- К ним прикасаемся и взглядом, и душой…
- Простите нас, Родной страны Солдаты,
- Всё помним, только… не окончен бой…
«Старинный марш «Прощание славянки» …»
- Старинный марш «Прощание славянки» —
- Красивый символ нескольких эпох —
- При проводах на фронт, и на гражданке
- Сопровождает расставанья вздох.
- Лиричный марш с судьбою непростою
- Трагизм и чувственность в себе объединил,
- Патриотизма покоряет глубиною
- И придаёт решимости и сил.
- Когда щемит под ложечкой разлука,
- И душу забирает в плен тоска,
- «Прощания славянки» слышу звуки
- С аккордом паровозного гудка.
Людмила Долгих
Родом с Курской дуги
Предисловие
Как бы ни старались уходящие десятилетия упрятать в глубь времени острую память о событиях Великой Отечественной войны, они оказались не властны над нашим родом – родом с Курской дуги, охраняемым самой Вселенной!
Наши родители, повидавшие смерть, испытавшие голод и лишения, чудом выжили. Они не только создали крепкую семью, не только дали жизнь всем своим двенадцати детям, но и создали такие условия, в которых каждый из нас чувствовал себя абсолютно счастливым и защищённым. Мы в нашей большой и дружной семье получили всё необходимое для успешной самостоятельной жизни. Крепким фундаментом и главными ориентирами семьи были образование, самоотверженный труд и любовь к Родине.
Чтобы глубже понять смысл этих основополагающих и смыслообразующих жизненных основ, появилась необходимость начать первые две главы с маленькой предыстории довоенного времени и рассказать о родовых корнях наших родителей, которые всем нам дали достойное образование! Мы же, выросшие в Советском Союзе и воспитанные на высоких идеалах, честным и добросовестным трудом пополнили родительские достижения государственными наградами.
Все мы, за исключением двух младших сестёр, давно на пенсии, но с особой любовью вспоминаем своё беззаботное, счастливое детство, которому посвящена последняя глава.
Глава 1. Отец
Славную историю нашего рода – рода Кобылиных – можно начинать с ХIХ века, можно – с ХVIII, всё дальше и дальше уходя в глубь веков. Мы начнём с того события, когда семья зажиточного мещанина Василия Собянина – жена да четверо детей – вынуждена была уехать из Перми в мало кому известную сибирскую деревню Новогребенщиково, которая находилась в Здвинском районе Новосибирской области. Сегодня это исчезнувшая деревня, как и многие российские небольшие населённые пункты. Неизвестно, как бы сложилась судьба семьи Собяниных, в которой все умели отменно работать. Кто знает, как посмотрела бы смутная история периода революции на эту зажиточную мещанскую семью, уехавшую тайно ночью в сибирскую глубинку? История, сотрясающая тогда все слои населения!
Старики так говорили про свой отъезд:
– Мы вынуждены были с Рассеи уехать в Сибирь.
Впоследствии одна из дочерей Собяниных – Акулина Михайловна – вышла замуж за Ипата Васильевича Кобылина, уроженца Здвинского района. Ипат и Акулина родили четверых детей: Михаила да младших Александру, Юрия и Веру. Старший сын, родившийся 5 сентября 1924 года, отсюда, из Здвинского района, 8 марта 1943 года ушёл на войну. Воевал на Курской дуге связистом. Смутно помню маленькую, сморщенную, словно кто стянул её ниткой, ранку. Под лопаткой. Это пуля фашистская тут побывала. Чуть до сердца не добралась, пытаясь отнять жизнь бойца Михаила Кобылина. Слаба она оказалась перед самоотверженным трудом врачей и медсестричек. Ангелы в белых халатах вытащили молодого красноармейца с того света! После длительного лечения в госпитале вернулся он домой, где мужских рук так не хватало!
Здвинские старожилы вспоминают время, когда молодой парень Михаил вернулся с войны:
– А у Мишки-то шинель какая крепкая, новая! А на шинели-то медали! Светятся!
Женился Михаил Ипатович на девушке красивой, хрупкой, но очень выносливой да крепкой, и родили они двенадцать детей. После многих переездов обосновались в северной деревне с интересным названием Болчары.
Зимой в деревне лохматая темнота рано вытесняет белый день, с уверенностью проникая в ледяные окна, разрисованные морозом. Вечер тянулся долго, поэтому можно было и уроки выучить, и книгу почитать, и порисовать. Да мало ли увлечений в северной глубинке, плотно и надолго укрытой снегами! В один из таких вечеров дочь, которая училась в третьем классе, подошла к отцу:
– Пап, мне надо сочинение написать о каком-нибудь военном событии. Учительница сказала, что, если кто не напишет, тому поставит «два».
Отец, участник Великой Отечественной, никогда войну не вспоминал, никому ничего о ней не рассказывал, все разговоры на эту тему избегал или ловко переводил в другую плоскость. Сам он, как и его жена Галина, образования никакого не получил, поэтому в большой семье, в которой каждые два года появлялся ещё один ребёнок, особое значение придавали образованию: тройки считались недопустимыми, о двойках тем более никакой речи быть не могло. А тут дочь со своим заданием! Замолчал отец двенадцати детей, задумался. Долго он так сидел, погрузившись в какой-то свой, неведомый никому мир. Потом, словно очнувшись, начал говорить, делая длительные паузы между каждым предложением:
– Призвали меня на войну в восемнадцать лет. Воевать мне довелось на Курской дуге. Бой был очень тяжёлый. Связь прервалась. А без неё как? Невозможно! Срочно нужно найти обрыв и восстановить связь. Отправили первого связиста. Погиб. Отправили второго. Погиб. Отправляют меня.
– Ну, браток, сделай невозможное! Приказываю найти обрыв! И вернуться! Слышишь? Исправить и вернуться! – прокричал среди оглушительного громыханья командир, крепко сжав мне левое плечо.
Ползком, плотно прижимаясь к изрытой бомбами земле, под шкальным огнём я выполнил задачу командира, – продолжал отец. – Правда, меня тогда тяжело ранило. Под левую лопатку. Больше ничего не помню. Очнулся в госпитале. Полгода лечили. Чудом выжил.
Отец замолчал, устремив взгляд непонятно куда. Казалось, он смотрит сквозь шкафы, сквозь стены и сквозь время. Потом, словно вернувшись откуда-то, сказал:
– Давай, дочь, пиши своё сочинение. Старайся, чтобы пятёрку получила, – и нежно погладил девочку по голове.
Эта единственная история стала почти легендой в большой семье. Младшие дети, а потом внуки и правнуки часто задают вопросы о дедушке Михаиле и его подвигах и искренне удивляются отсутствию ещё какой-либо информации. Конечно, им, живущим в огромном информационном поле, сложно это понять. Мы, чьё детство и юность выпали на 60—70—80 годы двадцатого века, прекрасно всё понимаем и радуемся, что эта маленькая история о Кобылине Михаиле Ипатовиче получила вечную жизнь.
Действительно, не только наш отец, но и многие вернувшиеся с той жестокой, нечеловеческой войны не любили рассказывать о ней. Каждый считал, что он выполнил свою мужскую работу, поэтому стоит ли вообще об этом говорить? Да и кому рассказывать о войне? Соседу? Так он тоже воевал! Воевали все, жившие на других улицах, в других деревнях и городах.
Да, отец ничего не рассказывал, но жил с войной всю жизнь, а война прочно жила в нём.
Старшие братья вспоминают, как они мальчишками стояли в дозоре у окна. Это происходило в те дни, когда мама на работе была, а отец выпивал – с ним такое бывало. Так вот, поставит сыновей Николая и Александра у окна и прикажет внимательно в него смотреть и не отвлекаться. Приказ был – не пропустить врага! Только мальчики начнут шептаться, отец сразу приказывал:
– Не разговаривать! Смотреть в оба! Враг не должен пройти!
Что было с отцом в эти минуты, что происходило у него в душе, о чём он думал в эти моменты, нам никогда уже не узнать, всё это поглотила Вселенная.
Старшие стали разъезжаться: выучившись и став самостоятельными, заводили свои семьи. Подрастали самые младшие.
Последними среди двенадцати детей родились девочки Таня и Лена, а перед ними росли три мальчика: два младших сына Анатолий и Виктор и племянник Евгений, которого взяли на воспитание после смерти его мамы. Жене было пять лет, когда он вошёл в нашу семью. Дядю Мишу и тётю Галю сразу стал звать папой и мамой. Мальчишки все трое погодками получились.
Отцу уже пятьдесят с небольшим было, но привычкам своим он не изменял.
В праздники и свободное время так же выпивал, только младших сыновей в дозор теперь не ставил, а брал гармошку (гармонист он был от Бога!), пробегался уверенно и смело по кнопочкам и начинал играть плясовую, заставляя сыновей лихо отплясывать. Мальчишки плясать должны были по-настоящему: весело, громко стуча пятками по полу. Если вдруг отцу казалось, что мальчишки не пляшут как надо, он на них прикрикивал:
– Шибче пляшем! Шибче! Победу празднуем! – А сам так лихо гармонью управлял, что, казалось, она задохнётся, резко втягивая в себя меха и изгибая рёбра.
И сыновья плясали! Плясали отчаянно и энергично! Старались так, что у них после такого празднования два-три дня пятки болели!
Вот она, война! Через всю жизнь прошла, не отпустила ни в молодости, ни в старости, вот и стояли старшие сыновья по приказу отца в дозоре, а с младшими старый солдат уже победу праздновал!
Все эти истории в семье вспоминаются с нежной любовью и благодарностью к родителям, которые столько хлебнули в сороковые, что с лихвой хватило им на всю жизнь. Много пережившие и много испытавшие в свои молодые годы, наши родители создали семью, в которой каждый из двенадцати детей чувствовал себя свободным, любимым, защищённым от невзгод и абсолютно счастливым!
Сейчас имеется много сайтов, на которых можно получить сведения о ветеранах.
Вот и о нашем отце более подробную информацию мы узнали на сайтах «Галерея памяти» и «Память народа»: когда призвали, откуда, какая воинская часть.
В посёлке городского типа Здвинск Новосибирской области на стеле высечено имя нашего отца Кобылина Михаила Ипатовича, а город Новосибирск напечатал книгу под названием «Солдаты победы», где на девяноста третьей странице указаны данные красноармейца Кобылина, воевавшего в двести шестьдесят пятом гвардейском стрелковом полку. Кобылин Михаил Ипатович, чудом уцелевший в аду сорок третьего года на Курской дуге.
Всё эти события и истории трепетно хранятся в нашей семье, а мы, понимая великий дар Вселенной, сохранившей жизнь молодому связисту в битвах под Курском, с гордостью говорим: «Мы родом – с Курской дуги!»
Русскому солдату
Посвящается нашему отцу
Кобылину Михаилу Ипатовичу
- Не измерить, не сосчитать,
- Сколько пролито крови и слёз,
- Никогда никому не узнать,
- Сколько судеб не родилось.
- Монументом застыл солдат,
- Словно страж-хранитель побед,
- И шуршит у ног листопад,
- Засыпая покоем свет.
- Ветерану этот покой
- Сердце старое бередит…
- И он снова ринулся в бой,
- И он снова в крови лежит.
- Но он русский! Он наш солдат!
- Ему Родина дорога!
- Без оружия и гранат
- Не идёт, так ползёт на врага.
- Устрашитесь, недруг и враг!
- Разве можно нас одолеть!?
- Если рана на сердце – пустяк,
- Если в ужасе сама смерть!
- Что задумался, старый солдат,
- Незабудки собрав в букет?..
- Нет войны… вот так-то вот, брат…
- Нет войны… давно уже нет.
- Нет друзей, с кем ты воевал,
- Да и сам ты совсем седой…
- Преклоняюсь… Благодарю
- За мою судьбу, за покой…
- Не измерить, не сосчитать,
- Сколько пролито крови и слёз,
- Никогда никому не узнать,
- Сколько судеб не родилось…
Связистам Великой Отечественной
- Связь нужна! Без связи мы – слепые!
- А снаряды рвутся напролом!
- Два связиста, смелые, лихие,
- Спят уже у смерти под крылом.
- Мой черёд. К земле прижался плотно.
- Только связь! И больше – ничего!
- Вот обрыв! Всё! Сделана работа!
- Вдруг удар! Да в левое плечо!
- Хорошо, что сердце не задето.
- Госпиталь – на месяцы вперёд…
- Курская дуга. Год сорок третий
- Ранами забыться не даёт…
Глава 2. Мама
История человечества знает многих выдающихся личностей, которые внесли неоценимый вклад в развитие человечества. Это полководцы и цари, учёные и поэты, композиторы и художники… Но в этом небольшом рассказе речь пойдёт о самом простом человеке, каких мы каждый день встречаем на улице. Их жизнь останется незамеченной для планеты Земля, а память о них будет жить до тех пор, пока их будут помнить родные и близкие, любившие их, и для которых потеря этого человека явилась большой трагедией. Во имя вечной памяти нашей мамы Кобылиной Галины Афанасьевны написан этот рассказ, основанный на абсолютно достоверных сведениях.
Родители мамы
Трудом, порядочностью, честностью и открытостью отличались Новопашины-Щетковы, за что пользовались заслуженным уважением во всём Щетковском районе, что находится в Тюменской области. Щетков Афанасий Матвеевич – глава семьи – был высоким, крепким, сильным и напоминал Герасима из знаменитого рассказа И. С. Тургенева «Муму», к тому же Афанасий Матвеевич, как и главный герой упомянутого произведения, был глухонемым. Знали его все в округе как мастера на все руки. Не было, пожалуй, в деревне такой работы, которую он не смог бы сделать.
А уж сапоги тачать: хромовые, в гармошку, с высоким голенищем, со скрипом или без скрипа – это только к нему, лучше его никто не сделает! Двор крепкий, скотины не одна корова, мельница собственная! Не раскулачили их семью только потому, что Афанасий Матвеевич, как очень умный человек, чутко уловил веяние времени, скотину да мельницу сам добровольно в колхоз отдал, да и пожалели его как глухонемого. Жаль, что ушёл он из жизни очень рано: вероятно, воспаление лёгких. Осталась его жена Клавдия Васильевна (урождённая Новопашина) одна воспитывать четверых детей: Александра, Галину, Ангелину и Анатолия, последний совсем ещё маленький, только годик исполнился. А тут – война! Старшего, Александра, на фронт забрали. Время лихое, голодное, тяжёлое! И слегла Клавдия Васильевна: ноги отказали. Рано пришлось повзрослеть её старшей дочери Гале. Только от неё теперь зависело, останется в живых вся семья или умрёт голодной смертью. И стала десятилетняя Галя наниматься кому в няньки, кому огороды копать. Хлеб да картошка, да редкая щедрость хозяйская, состоящая из простокваши да редкого чуда – молока, не дали умереть с голоду всей семье. Всех спасла от голодной смерти Галя, никому не дала умереть!
Теперь – интересная информация об имени нашей мамы.
Действительно, все знали её как Галину, тётю Галю, бабу Галю, но в паспорте она была записана Валентиной. Почему так произошло? Родители Афанасий Матвеевич и Клавдия Васильевна так и не смогли договориться, как назвать новорождённую. Отец хотел только Валей, а мать – только Галей. А поскольку документы оформлял отец, то и записал дочь Валентиной, и каждый из родителей звал дочь по-своему. Когда отец умер, само собой утвердилось имя Галина, как звала её мама. А по документам она так Валентиной и осталась.
Крещение
Особо хочется рассказать о крестинах. Год 1931. Строится новая социалистическая жизнь. Церковь отделена от государства. Многие попы расстреляны, а кто остался жить, перебиваются случайными заработками. Вот почему, когда Галю окрестили, после этого приходили ещё два попа и после расспроса родителей снова совершали обряд крещения, доказав им, что якобы не выполнены какие-то важные, необходимые таинства.
– Неправильно окрестили младенца, нарушили обряд, – делали заключение бывшие служители церкви и предлагали ещё раз приобщиться к Богу.
Родители, конечно, соглашались, после чего попы уходили с каким-либо заработком: с хлебом, яйцами, молоком, что было так важно для них в тот сложный период истории нашей страны.
Итак, с двойным именем и тройным крещением Галина Афанасьевна вошла в большой мир, перенесла невзгоды войны. А уж когда старший брат Александр с фронта домой вернулся, да им отрез земли дали как семье фронтовика, вот тут-то и зажили они!
Знай трудись на земле, не ленись только!
В начале пятидесятых семья Щетковых окончательно на ноги встала, и поехала Галина на заработки на север, в Тазовский район. Здесь её приняли шкипером на катер, где работал молодой красивый гармонист Кобылин Михаил Ипатович. Приехал он сюда из Новосибирской области не только денег заработать, но и ощутить новую жизнь, насыщенную романтикой и яркими впечатлениями.
И вот оно – пересечение дорог! К нему столетиями шли наши предки, передавая из поколения в поколение любовь к миру, заботу о близких, внимание ко всему окружающему и как основу крепости любой семьи – труд! Именно он приумножает достаток и благополучие семьи, именно ударный труд и каждодневная работа делает семью счастливой, а каждого её члена самодостаточной личностью! Точкой пересечения стала дата 2 июня 1952 года, когда был зарегистрирован брак между Кобылиным Михаилом Ипатовичем и Щетковой Галиной (Валентиной) Афанасьевной.
С этой даты открывается эпоха нашего рода: семью создали два человека, основой жизни которых был труд. Труд постоянный: в огороде, со скотиной, дома. Сварить, накормить, навести порядок, доглядеть за детьми… Труд на работе, причём труд ударный: такой, чтобы не стыдно было ни перед начальством, ни перед соседями, ни перед самими собой, ни перед детьми. А детей в семье всё прибывает, семья растёт.
Сами родители работали и детей к труду приучали! В доме у каждого члена семьи были свои обязанности, и неписаный недельный график чётко срабатывал: кто сегодня по кухне дежурит – варит, кто посуду моет, кто пол, а кто за младшими присматривает. Старшие братья – рыбаки и охотники, дочери – хозяйки. А как лето придёт, всей семьёй ягоду на сдачу собираем.
– Деньги за ягоды – хороший разоставок в семье! – говорили родители.
Как пошла брусника, ждём маму с работы! Она у нас звероводом работала, с лисами. Наскоро пообедав, мама со старшими в лес едут. На сданную ягоду каждый год каждому ученику к 1 сентября покупали всё новое: форму, сандалии, банты, ботинки и, конечно, учебники! Через два года – первоклассник в семье, но никогда никто старыми учебниками не пользовался. Отучились – и соседям раздали! Невозможно забыть замечательный запах типографской краски и нетерпеливое пролистывание учебников с восхищёнными возгласами:
– Вот что мы будем изучать по ботанике!
– А у меня уже география будет!
– Смотрите, какие животные есть в Австралии!
– А мы это уже выучили!
– Как всё интересно!..
Это были поистине праздничные дни, но для такого праздника мы всей семьёй трудились! Помнится, как однажды, собираясь очередной раз в лес и усаживаясь в новую шлюпку с новым мотором марки «Нептун», мама как-то особенно торжественно сказала:
– Ну что, дети, лодку и мотор мы с вами уже оправдали, теперь на прибыль работать будем!
«Оправдали» – это значит, что уже вернули в семейный бюджет столько денег, сколько было потрачено на покупку лодки с мотором.
Едем на работу в лес, за ягодой. Ветер упруго бьёт в лицо, ярко светит солнце, великолепная погода и бесконечное счастье! Любили в семье работать, все вместе, дружно. Неважно, где и какая работа: в лесу, в поле на сенокосе, на распилке дров на зиму, косметический ремонт с побелкой и покраской… Труд в семье вознаграждался сладостями, а главное, похвалой родителей:
– Какие вы у нас молодцы! Как быстро управились и как красиво всё сделали!
И мы старались изо всех сил, вместе с тем учились. Учились обязательно хорошо!
По окончании учебного года радостные приходили домой и торжественно складывали на стол грамоты, а вечером шли в клуб на слёт отличников и хорошистов. По местному радио всегда объявляли списки успешно закончивших школу и располагали их в конторе на видном месте. Родители очень гордились нашими успехами в учёбе! Самим учиться не довелось, поэтому в семье многое делалось, чтобы каждый выучился и получил профессию. Физический и интеллектуальный труд был неотъемлемой частью нашей семьи.
Давно нет наших родителей, но мы, дети, до сих пор удивляемся, как могла мама совмещать рождение детей, их воспитание, образование со своим ударным трудом! Каждый праздник маму, как хорошего работника, отмечали грамотами, награждали денежной премией, но о своих успехах она не говорила. Только когда мы стали взрослыми, с большой любовью и преклонением перед мамой рассматривали многочисленные её награды: медали и ордена за материнский труд, золотую звезду «Мать-героиня» и трудовые награды на производстве: «победитель соцсоревнования», «ударник коммунистического труда», «ветеран труда»!
