Переселенцы бесплатное чтение
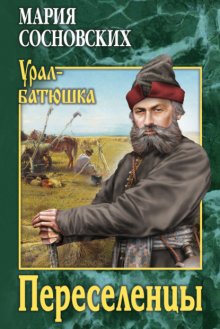
© Сосновских М.П., наследники, 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
От автора
Я, Сосновских Мария Панфиловна, родилась в 1924 году в селе Харловском Знаменского района Ирбитского округа в крестьянской семье. Сызмальства познала крестьянский труд. Прошла все круги построения социализма: сплошную коллективизацию, раскулачивание, полуголодное колхозное существование…
Я была в семье шестым ребенком, двое из которых умерли от голода.
Весной 1925 года мои родители, отчаявшись в своем житье, потому как в Харловой от сибирской язвы вымер почти весь скот и погорели от засухи все посевы, выехали жить на хутор Калиновка в девяти километрах от Харловой, в непроходимую тайгу. Там и стали вырубать лес и распахивать новые земли.
Полудохлая кляча, деревянная соха и такая же борона – вот и все наше «богатство». Жизнь была невыносимо трудной. Надо было на новом месте, среди согр и болот, строить и обрабатывать землю. Но мои родители преодолели все трудности. Стали растить хлеб, разводить скот. Мой отец был мастер на все руки. Построили большой дом, амбары, конюшни и стали жить не хуже других людей. Но в 1930 году у нас все отобрали – скот, хлеб и все остальное.
К весне 1931 года было полное разоренье, начался голод. Люди ели траву. Очень много появилось воров и нищих. Отец в то время уже приехал домой с лесозаготовок. Образовался колхоз, и его поставили председателем.
В 1933 году я пошла в школу в первый класс в деревне Чувашевой. Читать и писать я уже умела. Ходить в школу нужно было за семь километров дремучим лесом. Зимой нас одолевали волки, они заходили во дворы и пригоны; лесную дорогу, по которой я ходила в школу, пересекали волчьи следы, из разных сторон чащи раздавался голодный волчий вой.
В школе учились ученики со всех ближайших деревень и хуторов. Чтобы не умереть с голоду, учителя и ученики сажали картошку – у школы был большой огород. После уборки хлебов нас отправляли собирать на полях оставшиеся от уборки колосья, и мы несли их в школу. В школе из собранного нами урожая варили кашу.
После окончания начальной школы я пошла в Харловскую семилетку в пятый класс. Летом работала в своем колхозе на подсобных работах. Прежде дружелюбный деревенский народ после 1930 года разделился на два лагеря. По любой пустячной ссоре разгоралась страшная вражда, сосед доносил на соседа. По любому доносу без суда и следствия людей забирали, увозили без права переписки, отправляли на Колыму.
И вот я закончила 7 классов. Но тут началась Великая Отечественная война. В это лихое время поступила на эвакуированный в Ирбит мотоциклетный завод; на нем и проработала всю жизнь заточником. В конце 1946 года была представлена к награде – медали «За доблестный труд». Отработав три стажа по вредности, в возрасте пятидесяти лет в 1974 году я вышла на пенсию. Вот и вся моя рабочая биография.
Именно с выхода на заслуженный отдых началась моя литературная биография. Всю жизнь собирала материалы, расспрашивала и запоминала и наконец исполнила свою давнишнюю мечту – написать историю своего рода. Еще в детстве любила слушать рассказы «о старой жизни», о своих предках и односельчанах. Воспоминания и стали главной темой моих книг. Отрывки из них публиковались в местных газетах «Восход», «Знамя Победы», «Ирбитская жизнь», в журналах «Веси» и «Зауральский край», в альманахах «Росчерком пера» и «Разнотравье». Там же были опубликованы мои рассказы. За десять лет мною написаны около 40 общих тетрадей. Документальные повести «Переселенцы», «Чертята» и «Детство и юность», объединенные общим художественным замыслом, формируют трилогию, которая повествует о тяжелой доле русского крестьянства.
Мне уже 85 лет. Жизнь моя подходит к закату. Очень хотелось бы, чтоб опыт нашего поколения, истории наших судеб, прошедших в годы лихолетья, не были забыты.
Октябрь 2009 г.
От Новгородчины до Зауралья
Лето 1724 года. Жара и сушь. Натужно и монотонно скрипят по пыльной дороге телеги. Нестройный хор людских голосов временами заглушается конским ржанием да заливистым звоном колокольчиков. Иногда обоз останавливается у какой-нибудь речки или ручья. Люди поят лошадей, утоляют жажду сами, смывают с лиц дорожную пыль. Порой они распрягают и стреноживают лошадей, пуская их пастись на молодой отаве, разжигают костры и готовят скудную походную пищу. Дети, обрадованные остановкой, бегают наперегонки или рвут незатейливые придорожные цветы.
…Вот уже третью неделю движется обоз: крестьяне с Новгородчины держат путь через Зауралье в Тобольскую губернию. Люди измучены тяжелой и дальней дорогой, их обветренные лица до черноты загорели под июньским солнцем…
Пока шел обоз, каждый день менялись картины окружающей природы: поля, перелески, большие и малые реки. Большие переплывали на паромах, через малые проезжали вброд или по деревянным мосткам. Путники с удивлением смотрели на новые места: многие, особенно женщины, раньше не бывали дальше своего уездного города в Новгородской губернии. Насколько же она велика, Россия-матушка, и везде живут люди!
По вечерам, когда останавливались на ночлег, мужики подолгу беседовали у костра, многие были наслышаны про дикие зауральские леса, где будто бы живут самоеды, которые ходят в звериных шкурах и едят сырое мясо. Однако, когда переселенцам давали подорожную в деревню Прядеину Камышловского уезда Белослудской волости, то говорили: там, куда они едут, издавна жили и сейчас живут ссыльные, которые на новом месте приспособились и на жизнь не жалуются. Край, правда, еще малолюдный, но ведь не зря сам император Петр Первый изволил бывать в тех краях: и на Каменном поясе, и дальше по реке Оби – в Сибири. Государь сам видел несметные богатства тех мест, изобилие пушного зверя и рыбы. А что зимы там суровые, так и в Новгородской губернии крепкие морозы – не диво.
Как-то после Успенья, перед концом полевых работ, староста созвал всех на сход и объявил волю государя: переселяться в Тобольскую губернию. По царскому указу переселенцам на новом месте помогут обзавестись семенами, скотиной, а подать не будут брать в течение трех лет.
Придя домой со схода, многие мужики стали думать: а не переселиться ли в самом деле?
«У нас здесь-то четвертый год как недород, земли дальние да плохие, удобрять нечем, а добрые земли – у барина. Сам-то барин в Питере живет, а тут поставил бурмистра. Чисто зверь, душу вынет, как вовремя оброк не заплатишь. А до Сибири вряд ли скоро помещики доберутся…» – прикидывали будущие переселенцы.
Так же думал и тридцатилетний Василий Елпанов – мужик крепкого сложения, с русой бородой и синими глазами. Братьев Елпановых было четверо, и все крестьянствовали, не имея никаких отхожих промыслов. С годами жить в отцовском доме стало тесно, особенно когда женился Гермоген и взял непокладистую, со вздорным характером жену из зажиточной семьи.
У самого Василия жена тоже была не из бедных, родители дали за Пелагеей доброе приданое: кроме всякой домашней справы дали скотину, стельную телку и мерина-трехлетка, пару гусей и куриц – не у всякой было такое приданое. Через год родилась дочь Настасья, потом сын Петр.
Когда родила двоих детей и жена Гермогена, старшие Елпановы решили: Василию пришла пора отделяться и жить своим домом. Но денег на постройку нового жилища не было, и, наверно, так и остался бы Василий Елпанов с семьей в деревне до конца дней своих, если бы не государев указ. Крепко засела в голову Василия мысль попытать счастья в других краях, да и не одному ему засела – надумал переселяться и кум Василия, двоюродный брат Пелагеи, Афанасий. Стали собираться в дальнюю дорогу. За сборами незаметно прошли осень и зима.
Весна в том году выдалась ранняя и сухая, отсеялись рано, до Николы. Но так и не перепало ни одного дождичка. «Опять засуха, – говорили старики, – опять неурожай, Господи, спаси нас, грешных». На полях служили молебны. Но каждый день приносил только суховеи да нестерпимую удушающую жару. Надеяться на урожай было трудно.
Перед отъездом продали овец и корову – приданницу Пелагеи. Когда Пестренку повели со двора, Пелагея заплакала, а вслед за ней заревели ребятишки. На Ивана Купалу решили тронуться в путь. В воскресенье батюшка отслужил в церкви молебен за здравие всех отъезжающих односельчан. После молебна пошли на кладбище – попрощаться с могилками родных. В день отъезда с утра пришли на проводины родители Пелагеи и все ее родственники. Дед Данила, по какой-то стариковской хворости лежавший на голбце[1], слез, надел новые пестрядинные штаны, холщовую рубаху и обулся в валенки, с которыми не расставался даже летом из-за больных ног.
Дед Данила, отец братьев Иван, мать Евдокия, Гермоген с женой Анной и младшие братья, неженатые Николай и Евлампий, сели в последний раз за семейный стол – все двенадцать человек.
Потом запрягли в телегу Каурка, а когда воз на телеге был уже увязан, по обычаю присели перед дорогой. Стали прощаться: пали родителям в ноги, отец взял с божницы икону, которой благословлял их к венцу, и отдал с собою в дорогу. Троекратно расцеловались с родственниками, посадили детей в телегу и тронулись со двора. Родственники, остающиеся дома, и односельчане вышли их провожать. Провожавшие дошли до полевых ворот, попрощались и разошлись по домам.
Целых двадцать семей тронулись в неведомые края, на восход солнца. Раньше до родной деревни слухов из дальних мест не доходило, и они, конечно, не знали, что уже давно смекалистый и оборотистый тульский кузнец Никита Демидов переселился на Урал, получил разрешение императора Петра Первого строить там заводы и закладывать рудники.
…И вот он, Урал! Прекрасный и величественный. Дивный в своей первозданной красоте и неповторимости. Горные кряжи и увалы поросли остроконечными елями, пихтами и лиственницами. Прекрасные корабельные сосны в три обхвата стоят вперемежку с могучими кедрами по обе стороны дороги. Обоз остановился: пораженные переселенцы не могли оторвать глаз от захватывающих дух, раскинувшихся в необъятную даль лесных просторов. В Новгородской губернии таких лесов никто и не видывал. Вот это богатство! Вот в чем могущество этого края!
Миновали Екатеринбург. Городом стоящую на реке крепость назвать, конечно, было нельзя. Перед путниками предстало большое, добротное поселение с обширным прудом и стоящим у плотины заводом.
В земской управе у них проверили подорожную и, пропустив через заставу, велели ехать по Сибирскому тракту в сторону Камышлова.
За весь многомесячный путь нигде еще обоз не двигался так медленно! То и дело их останавливали стражники, осматривали возы, проверяли подорожную да несколько раз сгоняли с дороги на обочину и приказывали остановиться, когда по тракту брели колонны изможденных людей в полосатой арестантской одежде, звеня кандалами на стертых ногах. Это было поистине ужасное зрелище. Шли тысячи верст и в зной, и в холод, и в осеннюю грязь, в кандалах, почти босые из Центральной России в Сибирь к месту ссылки. Ноги у этих несчастных были сбиты до костей, от кандалов гноились и кровоточили раны. Когда этап прогоняли по деревням, молчаливые уральские женщины, выходя к дороге, старались сунуть арестантам калачик хлеба или что-нибудь из одежды, но конвойные, матерясь, отгоняли их нагайками. Только в Камышлове, где находилась тюрьма-пересылка, арестантам беспрепятственно позволили принимать доброхотные подаяния.
…В канун Петрова дня, проведя в дороге целый год, обоз переселенцев с Новгородчины пришел наконец в Белослудскую волость. Волостной центр Белослудское – село небольшое, с беспорядочно поставленными избами под берестяными крышами. Подъехали к волостному правлению, нашли старосту и писаря. Помощник писаря – нездоровый на вид и заметно подслеповатый человек (видать, из благородных, потому что на носу у него криво сидело старое-престарое пенсне) – записал в толстую книгу, сколько душ переселенцев мужского, женского пола и детей прибыло в Белослудскую волость.
Староста распорядился ехать дальше, до места назначения, сказав напоследок, что на днях прибудет в деревню Прядеину вместе со становым приставом.
Перед самым селом у Василия расковался Каурко. По выходе из волости Елпанов спросил проходившего мужика:
– Где у вас тут кузница?
– Кузница-то на берегу, вишь, вон она, – махнул тот рукой в сторону реки, – да кузнеца, знать-то, нет – на покосе он, должно…
Василий пошел к берегу реки наудачу. Кузнец – коренастый чернобородый мужик – оказался на своем месте у горна: он наваривал косу. В ответ на просьбу Василия подковать лошадь он коротко бросил:
– Сейчас подкуем.
Покачав мехи горна, продолжал:
– Выходит, это ваш обоз видал я в волости… Откуда бог несет и куда путь держите?
– С Новгородчины мы. А в подорожной у нас записана здешняя деревня Прядеина…
– Неужто по своей воле едете? – усмешливо сощурился кузнец. – Знаю, слыхал про Прядеин хутор, хотя бывать не приходилось. Там, говорят, перво-наперво осели два братана, из ссыльных. Отбыли в Сибири каторгу – толком не знаю, то ли за разбой, то ли за смертоубийство, а как освободились, на поселение их определили. Поначалу-то как волки в лесу жили, а теперь, болтают, уж домов двадцать там поставлено, и все ссыльными. Но чтоб по своей воле сюда ехать – еще таких отчаянных вроде пока не было…
– Что ж там, шибко худо, что ли? – осторожно спросил Василий.
– Да как тебе сказать… Глухомань там дикая, леса непроходимые. Бывалые люди говорят: там лес – как в небо дыра! Опять же неленивому да ухватистому там жить можно. Я вот в Ирбитской слободе на днях был. Сотни лет еще не прошло, как первые поселенцы там, в лесах да на болотах, появились, а теперь домов двухэтажных понастроили, богатых купцов сколь живет! Ярмарка Ирбитская каждый год бывает, на всю округу, да и за округой славится. Торговой слобода Ирбитская стала.
За разговором кузнец незаметно подковал Каурка.
– Ну вот и готово, добрый человек! Поезжай себе с богом! Доброй тебе дороги и счастливо обосноваться на новом месте!
Все, что говорил словоохотливый кузнец, Василий подробно передал мужикам-переселенцам.
Зачесали мужики затылки:
– Похоже, народишко в этих краях никуда не годный, каторжане одни, – выразил общую мысль один из них. – Вот как доберемся, бог даст, до места, так связываться с ними не след. Живут они сами по себе, и мы сами по себе жить станем.
– Да лучше вовсе с ними не якшаться! – добавил другой. – Говорят, которые из них супротив царя и помещиков шли. Это против царя-то, помазанника Божьего! Вовсе отпетые, видать, головы!
Васильев кум Афанасий, который и поехал-то со всеми с неохотой, теперь уж и вовсе принялся каяться:
– Эх и дураки мы, дураки набитые! По своей воле в Сибирь приперлись, с головорезами да подорожниками жить, тьфу ты!
Афанасий то и дело плевался и не переставал ругаться. А обоз шел все дальше – теперь уже проселочными дорогами, через дремучие леса.
Встретился верховой – вихрастый парнишка лет двенадцати, в посконной рубахе с веревкой через плечо.
– Далеко ли Прядеина? – окликнули с передней подводы.
– Во-о-н туда правьте, версты две никак будет, – показал парнишка кнутовищем в сторону леса.
Скоро, будто из земли выросли, показались избы. Блестела на солнце извилистая речка и зеркало пруда. Место было красивое, и поселенцы повеселели. Был уже вечер в той самой поре, когда краски становятся особенно яркими. За речушкой стеной стоял хвойный лес, и солнце как бы позолотило верхушки сосен. Берег, местами высокий, крутой и обрывистый, у самой воды порос ивняком и чернотальником. Навстречу им с реки из-под берега вышла молодая баба – босая, в холщовой пестрядинной юбке, в белой льняной рубахе и в такой же косынке, разрисованной краской, приготовленной из краснотала. Баба несла полные деревянные ведра воды. Она остановилась и, щурясь от заходящего солнца, приложила руку козырьком ко лбу, долго смотрела на обоз. Когда обоз поравнялся с крайней избой, поднялся невероятный собачий лай. Скоро псы заливались уже во всех дворах. И откуда столько собак в такой маленькой деревушке? Люди унимали собак и гурьбой валили навстречу обозу.
Наступал вечер, с пастбища возвращалось стадо, за стадом шел старик-пастух с мальчиком-подпаском, хозяйки загоняли по дворам скотину. Издалека был слышен звон отбиваемых кос: в разгаре сенокосная пора, и многие еще только возвращались с покоса.
Обоз остановился у речки. Распрягли лошадей, напоили и, стреножив, пустили пастись. Стали собирать сушняк для костра; меж переселенцами завязался разговор о виденном за день.
В деревне Прядеиной, как и в селе Белослудском, избы стояли как попало, строились кому где поглянется. Однако все избы были добротными, рублеными из кондового леса, многие – под тесовыми крышами. Подворья были поставлены по-кержацки: две избы связкой через теплые сени, добротные надворные постройки – погреба, амбары, конюшни. Усадьбы обнесены высокими заплотами[2] из толстых бревен, положенных одно на другое и врубленных в высокие толстые столбы, и у каждой ограды были плотные высокие ворота с калиткой – через такую ограду сразу не перемахнешь. Над усадьбами торчали колодезные журавли. Значит, люди здесь поселились основательно, на века.
В этот вечер у костров переселенцев было много народу из деревни Прядеиной. Начало положил мужик лет сорока с черной окладистой бородой и серьгой в левом ухе, с живым взглядом глубоко посаженных карих глаз, назвавшийся Никитой Шукшиным.
– Принес вот вашим ребятенкам поись домашнего, оголодали, поди, в дороге-то, сердешные!
Никита поставил возле костра Елпановых большой туесок парного молока, корзинку творожных шанег – и сразу стал своим человеком.
– Откуда бог несет, добрые люди? С Новгородчины, говорите, на поселение? Ну это ладно, хорошо: помещиков-то нет здесь, оброка никто не стребует! Всяк сам себе хозяин – хоть паши, хоть пляши, – ввернул прибаутку Никита. И, став серьезным, прибавил:
– Землицы здешней всем хватит! Подать заплати только и сей себе с богом: хочешь – рожь или овес, хочешь – пшеницу. Лен здесь хорошо растет – бабы не нахвалятся! Я ведь тоже из Расеи, из Тамбовской губернии. Крепостным был у барина. И лютой же барин был у нас! Из отставных, самодур самодуром – не человек, а демон, одним словом. А я сиротой рос, отца-покойника плохо помню, а потом и мать померла. Как подрос маленько, поставили меня помогать барскому конюху Ерофеичу, уж сильно старым он стал. Но при барских лошадях находиться – это не мед пить! Чуть что – дерут нещадно да и Ерофеичу в зубы тычут. Как-то раз, на Покров дело было, наехало к барину гостей видимо-невидимо. Вся прислуга, и повара, и горничные, с ног сбились, гостям угождая. До полуночи пировали они, буйствовали, из ружей-пистолетов палили, какие-то огни бенгальски жгли. Оно красиво, да нашему брату – к чему? У нас с Ерофеичем работы по горло. И с барскими-то лошадьми умаялись, да еще гости все на лошадях, и каждую надо разместить, накормить-напоить. Слава богу, за полночь все стихло на усадьбе, видно, удрыхлись господа хорошие. И мы с Ерофеичем в конюховке задремали, и вижу я сон, будто я в церкви под венцом стою, и хор поет так красиво. Поп говорит, поцелуйся с невестой, я открываю вуаль, а там стоит Ерофеич и смеется, у меня аж мороз по коже пошел. С какой стати, думаю, я буду с Ерофеичем венчаться, а вслух сказать не могу. Вдруг просыпаюсь, как будто кто меня толкнул. Ерофеич тоже. Батюшки светы, пожар! Барская конюшня горит! Лошади огонь почуяли – и ну ржать, ну биться…
Мы с Ерофеичем прямо в огонь лезем – лошадей вывести бы. Тут в набат ударили, вся дворня высыпала, тушить конюшню стали. Ну, лошадей удалось спасти. А барин на крыльцо разъяренный выскочил, кричит: «Ловите конюхов-негодяев, это их дело, они подожгли, держите, не то сбегут еще, мерзавцы!» А куда тут сбежишь? – Ерофеича моего из конюшни вынесли еле живого: голова в кровь разбита, грудь раздавлена. Положили его на охапку сена, а он все просит, чтоб его не трогали, не шевелили – шибко тяжко ему было, смерть, видно, чуял… Побелевшими губами еле выговорил: «Мальца Микитку не вините, не виноват он ни в чем… Мой грех, я недоглядел». Еще шептал что-то, не разобрать было. Лицо у него серым сделалось, и тут же умер Ерофеич, царство ему небесное. Старый уж был, сплоховал, видно, не увернулся, вот лошади его и затоптали, они ведь при пожаре сильно бьются, аж на стены лезут.
А меня связали да и влепили мне, и так уж обожженному на пожаре, еще двадцать пять горячих. А потом – в кандалы и в Сибирь погнали.
– Это как же – без суда, что ли? – поразился Василий.
– Как же без суда! Суд был, да что толку: где суд, там и неправда, а кто богат, тот и прав. Отсидел я в остроге, потом подолбил мерзлой земли на рудниках Сибири. Теперь вот здесь на вечное поселение определили. Здесь ни господина, ни барина. Закон – тайга, медведь – хозяин. Раз в год урядник наезжает проверить, все ли ссыльные на месте, да куда мы денемся, отсюда только в землю…
– Отчего же пожар-то был в имении? – снова спросил Василий. – Кто поджег?
– Да пес его знает – кто. Может, гости барина сами и подожгли спьяну. А я и теперь, хоть дело прошлое, богу не покаюсь: не виноват был ни в чем!
Шукшин размашисто перекрестился. Васильева жена, Пелагея, не вытерпела, вмешалась в разговор:
– Значит, невинного человека засудили? Креста на них нет, на душегубах!
– Э, да сколько их, невинных-то, по острогам сидит или на каторге мучится! – махнул рукой Никита.
– Ну а самоедов ты видел? Что за люди такие, что сырое мясо едят?
– Нет, самоедов здесь при нас уже не было, они дальше на север в тайгу подались. По-другому их вогулами называют, а вогулы – люди вольные: не пашут, не сеют, не жнут – тайгой кормятся. Зверя стреляют, рыбу ловят… Они, как русские, в крепости жить не будут.
На миг все замолчали. Потом Пелагея спросила:
– Ты тут с семьей али как?
– С семьей, конечно. При барине я еще холостой был, а теперь вот с каторги жену привел. Одной судьбы мы с ней. Она, вишь, тоже крепостная была, в няньках при господском ребенке. Ну, ребенок пуговицей подавился да и помер. Маленькие, они ведь всё в рот тащат – попробуй угляди!
А ее за недогляд – в Сибирь… Выходит, что по одной дорожке шли, одно горе мыкали. Там я Анфису свою и встретил. С тех пор вот живем вместе, на житье не гневаюсь, ребятенок уж двое. Как поселение нам вышло – стали мы вроде вольных и в церкви венчаны.
– А где у вас тут церква, далеко ли?
– Да поболе тридцати верст будет: в Кирге приход-то, возле Ирбитской слободы.
– И поблизости больше никаких деревень?
– Да вот самая ближняя, такая же, как наша, Харлова называется, семь верст отсюда. Там, говорят, сперва какой-то иноземец жил, высланный. Недолго жил, умер вскорости. Карла его звали. А у нас так заведено: кто первый жил, по тому деревня али село и зовется. Вот, к примеру, наша деревня. Первыми Прядеины здесь поселились, так она и зовется Прядеина.
– И теперь они здесь живут… Прядеины-то?
– Живут! Куда они денутся. Вот уж два дома у них с краю первые строились. Старший-то брат уж старик, сыновья у него взрослые… Однако засиделся я у вас, хозяйка браниться будет. А то идемте к нам ночевать, моя изба тут недалече. От реки гнус поднимается, заест ребятишек-то!
– Благодарствуем! Мы уж сколь времени под телегой спим, привыкли.
– Ну как знаете… а то пойдем под крышу-то – места хватит!
Никита еще посидел немного у костра, поговорил о нынешнем сенокосе, распрощался и ушел домой.
Долго еще жгли костры поселяне. Бреднем ловили рыбу в реке, женщины ее чистили и варили уху, тут же у реки стирали белье и мыли посуду.
Коротка летняя ночь в Зауралье. Вот уже в деревне пропели первые петухи. От реки повеяло прохладой, и в воздухе разлился чудесный аромат трав и свежего сена. Мало-помалу в таборе переселенцев стало стихать, и наконец все смолкло. Только лошади пощипывали траву, позванивая уздечками, да в деревне перелаивались потревоженные днем собаки.
Василий не привык долго спать, а тем более сейчас. В голове вертелись тревожные думки: «Скорее бы на место определиться и первым делом сена заготовить для Каурка. Потом хоть немного целины вспахать, ржи посеять… До непогоды и холодов хоть какое-то жилье успеть построить! Может, сегодня начальство из волости приедет?»
С такими мыслями Василий пошел посмотреть Каурка. А тут Никита Шукшин – уже из ночного лошадей ведет.
– Рано поднялся, Никита, – приветствовал нового знакомого Елпанов.
– А что делать? Как говорят – дом невелик, а лежать не велит, – ответил поговоркой Шукшин.
Василий залюбовался его лошадьми – крепкогрудым гнедым мерином и молодой кобылой с жеребенком-сеголетком, которую Никита вел в поводу.
– Хорошие лошади у тебя, Никита!
– Хороши, да мало. Если залежь или целину пахать – и мерина с кобылой надорвешь, и сам намучишься. Это мои друзья и помощники. Денно и нощно о них пекусь, ведь крестьянину без лошади что птице без крыльев… А что вы сегодня делать хотите? – перевел на другое разговор Никита. – Начальства из волости ждать? Да оно, может, неделю целую не приедет. Что вы будете время горячее терять? Время-то теперь какое – летний день год кормит. Начинайте сегодня же покос. Пусть кто-нибудь один останется на случай, если начальство приедет. Начальство-то к нам только спешит подать собирать, а по делу не дождешься. Речушка-то наша Киргой зовется, вот прямо за ней пусть и косят, по лесным еланям[3] нынче травы добрые.
А ты, Василий, хочешь – со мной езжай. Версты за две отсюда мой покос. У меня много кошенины грести надо, да и метать поможешь: одному, сам знаешь, стог метать несподручно, а Анфиса-то моя тяжелая ходит. А уж завтра с утра – тебе покосили бы…
Елпанов согласился. Ожидая Никиту, они с Пелагеей наскоро поели. Подъехал на телеге Шукшин с Анфисой. У них был припасен бочонок квасу, большая корзина съестного. Василий мигом запряг Каурка, и все тронулись на покос.
Солнце давно уже взошло; на разные голоса пели птицы, где-то вдали куковала кукушка. Дурманящий аромат разнотравья кружил голову. Кругом все цвело, благоухало, пело, вознося гимн солнцу, вечному источнику жизни.
– Красота-то какая здесь, – вздохнул Василий, оглядывая травянистую пойму Кирги.
– Оно верно, что красиво, вот комаров бы поменьше, – ввернула Пелагея.
– Ничего, комарье не век живет, – засмеялся Никита, – обкосим вот травы, враз его поменьше станет, а к Ильину дню совсем исчезнут кровососы, разве только в глухих сограх[4] останется. Вот, глядите, и мой покос!
Слезли с телег, стреножили и пустили пастись лошадей. Можно было начинать косьбу.
– А ну, Василий, дай-ка я косу твою отобью и направлю!
– Что я, сам, что ли, без рук?
– Да я не в обиду тебе, по-нашенски тебе косу налажу, под нашу зауральскую траву!
– Коли так – спасибо, – протянул ему косу Елпанов.
Никита мигом отбил косы Василию и Пелагее. Потом, широко расставляя ноги в броднях[5], легко, как бы играя, пошел первым, ведя широкий – оберук – прокос. За ним встал Василий, потом Пелагея, чуть дальше – Анфиса. Она была на последнем месяце и оберук, как и Анка, старшая дочь, не косила.
– Ты, Нюрка, от кустов заходи, там трава помягче, – подсказал Никита, – а еще лучше сюда иди, здесь твоя косьба, – засмеялся он, показывая дочери густой куст смородины.
Как ни старался Василий держаться за Никитой, но не смог, хотя у него скоро от пота рубаха прилипла к спине.
Собираясь обедать, достали с телеги большое глиняное блюдо, деревянные ложки, Никита нарезал хлеб. Анфиса с Нюркой приготовили чудесную окрошку из огурцов, яиц и лука. Были и сметана, и молоко, и вареное мясо. Елпановы, только недавно проделавшие много тысяч верст на пути из родных мест, успели подзабыть о такой вкусной еде, а дети с жадностью набросились на молоко и сметану.
Василию и Пелагее стало неловко, а Никита все посмеивался:
– Что, ребятки, вкусно? Вот оставайтесь жить у нас в Прядеиной – каждый день будете так кушать!
Напоследок Нюрка достала с телеги свою корзинку, где были репа, морковь, горох, бобы, поставила корзинку в кружок обедающих и стала угощать Васильевых ребят.
После обеда немного отдохнули.
– А что, зверье-то вас шибко долит? – спросила Пелагея. – Вон леса кругом какие, знать, волков видимо-невидимо!
– Всякого зверья хватает! Лоси сохатые, козлы дикие, медведи, рыси… Птицы всякой – пропасть!
– А… волков? – спросила Пелагея, опасливо поглядывая на темные ельники. – Вон леса-то дремучие какие!
Шукшин прыснул от смеха и принялся ее успокаивать:
– Не робей! Сейчас лето; летом всякий зверь сытый… А вот зимой, особенно к весне, на Евдокию, едешь, бывало, один из Ирбитской слободы, так страшновато бывает… Как завоют волки со всех сторон, да если еще лошаденка неважная – всех святых вспомнишь! За мной, как-то было дело, долго гнались, проклятущие. Это ладно, что Гнедко у меня шагистый – быстро от них умотал! Я ведь тут какой год живу, всяко бывало, прямо к избушке и в пригон волки заходили. Думаешь, пальнул бы, да где его, ружье-то, возьмешь. Собак во дворах разрывали у некоторых. Спервоначалу шибко долили, волки самый каверзный зверь…
Солнце уже пошло на полдень, поспела грести кошенина. Гребли уже все, даже Петрунька и тот помогал. Волокушами стаскали сено к месту будущего стога. Никита хотел подсадить Настю на лошадь в седло, но она испугалась (в их деревне не принято было девчонке ездить в седле).
– Ты что это, Настасья Васильевна, верхом не умеешь ездить? Нехорошо, учиться надо. Здесь без разницы, у нас что парнишки, что девчонки – все верхом ездят. Вот смотри, моя Нюрка как умеет. Что бы я без нее делал? Казак настоящий! И в седле, и без седла ездит. Всю весну на гусевой ездила, и пахали мы с ней, и боронили. Верхом чуть ли не с пеленок. Что поделаешь, раз наследника бог не дает. Вот разве на этот раз будет…
Сено сметали, большой стог получился. Работу закончили, как раз когда солнце уже подходило к закату.
По дороге домой Никита остановил своего мерина и кнутовищем показал на березовый колок:
– Третьего дня ночью дождичек пробрызгивал, надо бы поглядеть – первые грузди должны появиться.
И в самом деле – набрали полную корзину груздей.
Василий дальше поехал с Никитой.
– Телега твоя мне понравилась, – пояснил он, подсаживаясь к тому в телегу. – Как она – на ходу легкая?
Шукшин приосанился:
– Как же нелегкая – ведь для себя делал-то, этими вот руками! Ты, как домой приедем, мастерскую мою посмотри. Я ведь не только телегу изладить могу – кадушки, ведра или чашки-ложки из дерева, бересты да глины… Вишь, Василий, каторга-то не только мучит, но и учит! Многому я там научился, всяких умельцев перевидал. Вот есть у меня думка одна: надо бы попытаться самому кирпич делать. Глины по крутоярам у нас – завались. Я пробовал уж ее замешивать – похоже, для кирпича годится. Вместо глинобитной – кирпичную печь с трубой сложить можно. В Ирбитской слободе видел такую у одних хозяев. А печь с трубой – это куда как хорошо! Дыму в избе нет, весь через трубу на волю выходит…
Сейчас даже дома из кирпича стали строить. Но это богатеи, а нам хоть бы пока печь с трубой. Я уж пробовал глинобитную с трубой делать – не выходит ни черта! Вот до весны, бог даст, доживем – непременно испробую кирпич делать.
– Кони у тебя, Никита, добрые! – перевел разговор на свое Василий. – Мой Каурко супротив них вроде жеребенка…
– В Ирбитской слободе я Гнедка своего у одного татарина купил. Вместе каторгу отбывали, да с тех пор и стали мы с Абдурахманом друзьями. Ты, если задумаешь лошадь покупать, – езжай к татарам. Они все лошадники, в крови это у них, и никудышных лошадей не держат.
За разговором и не заметили, как заехали в деревню.
– Ну, теперь милости прошу к нашему шалашу. Вместе работали, вместе и ужинать надо! – пригласил Шукшин, подъехав к своему подворью.
Отворили ворота, въехали в просторный двор. Анфиса пошла доить коров, наказав дочери собирать на стол, а Василий с Пелагеей направились к колодцу умыться. Колодец был с высоким бревенчатым срубом, у которого стояли кадушки с водой. От колодца проведен лиственничный желоб в колоды в пригон к скоту. Везде и во всем был виден порядок, чувствовалась рука основательного хозяина.
– Доброе у тебя, Никита, хозяйство, – оценивающе промолвил Василий.
– А как же! Без хозяйства нам никак нельзя. Не потопашь, дак и не полопашь. У нас ведь тут заработать негде, разве что кому кадушку сделаю. Здесь у нас каждый хозяин должен сам все уметь делать, у нас все свое, самодельное. Ладно, идите, ужинать не на воздухе, а в избе будем: что-то мошкара заклубилась, не к дождю ли? Нам-то средь покоса он и вовсе ни к чему!
Перед ужином Никита подозвал дочь, наказал ей отвести своих лошадей и мерина Елпанова в ночное. Он вынес из избы войлок, положил на спину Гнедка, чуть-чуть помог Нюрке, и та мигом пушинкой взлетела на коня, умело разобрала поводья остальных лошадей и выехала из ворот.
– Ты смотри у меня, сильно не гони – с троими-то не справишься, неровён час, еще слетишь. Шагом езжай! – только и успел он крикнуть вслед дочери.
– Ох и девка у тебя бедовая, ей бы парнем быть! – сказала Пелагея.
– Помощница она и мне, и матери, – ответил на это Никита, – да что поделаешь, девка, известно, не домашний товар: осенью одиннадцать будет, лет семь-восемь еще пролетит, и придется отдавать в чужие люди…
Вошли в избу. Анфиса успела уже подоить коров и несла два подойника молока. Пелагея вспомнила свою Пестренку и прослезилась.
– Что же это ты разрюмилась, Палаша? – спросил Василий. – Видишь, живут здесь люди, бог даст, и мы жить будем.
Изба у Шукшина была просторная. В углу – большая глинобитная печь, над печью, у самого потолка, в полтора бревна прорублено окно для выхода дыма; когда печь не топили, окно было задвинуто ставнем-задвижкой. В противоположной стене окно поменьше – поддувало. Еще два окна были для света, зимой эти окна затягивали брюшиной или пузырем от большой скотины. Рядом с печью голбец, двери в подполье и большие полаты[6]. В другом углу избы стояла самодельная деревянная кровать, отгороженная холщовой занавицей[7], разрисованной красками из ивовой коры и коры краснотала. В переднем красном углу была вделана в стену божница, где стояло несколько икон. А под божницей большой стол, накрытый домотканым настольником[8].
К столу приставили скамейку, и все сели ужинать. Вся посуда на столе – своедельная, промеж глиняной была и берестяная.
Зажгли лучину, и хозяин, усаживаясь за стол, заметил:
– Это сколько же мы дерева на лучину переводим… Ведь, почитай, всю зиму вечерами и ночами сидим, всю работу при ней переделываем! От лучины дыму в избе много, да что сделаешь? Это господам с руки всю зиму-зимскую свечи жечь. Помню, бывший мой барин походя их палил, а работа-то у него была – в карты играть… Вот опять дни на убыль пошли. Петр и Павел день убавил, уж не ты ли это, Петрован? – и щелкнул Петьку по носу.
– А ты, дядя, не дерись!
– А вот у нас будет Илья-пророк, он час уволок. Правильно я говорю, мать, или нет, что у нас беспременно должен быть Илья? Хватит нам для чужих людей жить, надо и для себя, чтоб наследник был! Слышишь, мать?!
– Ладно, ладно, не болтай лишнего, и дочь будет – никуда не денешь, кормить будем.
За ужином хозяин неожиданно предложил Василию и Пелагее:
– Вот что я надумал: вы поживите-ка пока у нас в малухе[9]. Мы сами там почти три года прожили, пока избу не построили. Малуха теплая, дров не много понадобится!
– Да как же это… – Пелагея вопросительно поглядела на Василия. – Неловко как-то…
– Неловко, говорят, на потолке спать: одеяло сваливается, – засмеялся Никита, – а я вам от души предлагаю! Ежели согласны, так сегодня в избе переночуете, а завтра же ваши пожитки в малуху-то и перетаскаем! Не на берегу же речки вам жить, пока строиться начнете.
– Да какие у переселенцев пожитки-то, – вздохнув, отвел взгляд Елпанов, – а на добром слове – спасибо! Подумать мне надо…
– Ну, утро вечера мудренее, будем тогда спать укладываться. Боюсь, как бы погода не испортилась в сенокос-то. А потом работы пойдут одна за другой – только успевай поворачиваться. Вон ныне, слава богу, рожь неплохая уродилась…
Наутро Василий отправился к переселенцам-односельчанам, а Пелагея с ребятами пошла помогать Анфисе полить грядки в огороде. Полили огурцы, капусту, взялись поливать лук, который уже пошел в головки. Огород был большой, картошки посажено много. Остальное занимали грядки с мелочью. Пелагея никогда не видела таких больших огородов в своей деревне.
– Огород-то у вас никак десятина целая! Не то что дома у нас. Там картошку помалу на грядки садят, а растет она плохо.
– Мы-то огород и навозом, и золой удобряем, и трунду[10] в прошлом году навозили, да здесь вообще картошка растет хорошая. Картошки садить надо больше, она хлебу замена и скоту корм. На хлеб ведь не каждый год урожай. Мы здесь десять лет живем. Всякие годы бывали, то засуха одолевала, то саранча налетала. А то градобоем всё выбивало. Нередко коренья и траву доводилось есть.
Как мы поселились здесь, о картошке слыхали только, а ее самое, голубушку, в глаза не видывали. Это наши мужики издалека откуда-то привезли семена. Не зря картошку, люди говорят, и в Расее, и в Сибири вторым хлебом кличут: мы с ней, почитай, не расстаемся.
Вместе с Никитой накосили Елпановы доброго сена. Никита радовался, что погода стояла хорошая и с сенокосом удалось быстро управиться. «Один горюет, а артель – воюет», – подмигивал он Василию. Наедине с женой Шукшин не раз повторял:
– Ну подвезло нам нынче, мать, с Василием-то да с Пелагеей… А то ведь в страдную пору работников днем с огнем не найдешь!
– Вовремя поселенцы приехали! Почитай, всей деревне пособили с покосом, – судачили в Прядеиной.
…Скоро из Белослудского приехали волостной староста и становой пристав. В Прядеиной собрали сход. Из казны новым поселянам выдали на обзаведение по пяти рублей на взрослую мужскую душу и освободили каждого на три года от подушной подати.
«Нелишка отвалили, – чесали затылки переселенцы, – ну что на пять-то государевых рублей купишь? Лошадь добрая али корова стоят двенадцать и больше… Разве что семян, ржи хоть десятину засеять купишь – и все, опустел кошелек!»
Василий Елпанов вдрызг рассорился с кумом Афанасием. Когда он пришел к Афанасию после покоса, тот такой разговор повел:
– Ты что это, кум, не в работники ли к Шукшину нанялся? Не успел на место приехать, а уж с каторжанами якшаешься, одной ложкой с ними ешь, а своих сторонишься! Как бы после плакать не пришлось! Эх, Василий, что бы твои родители на это сказали?
– Ладно-ладно, я уж сам родитель, из маленьких-то давненько вырос! Что тебе каторжане – дорогу перешли, что ли? Они такие же люди, как и мы!
– Руки-ноги у них такие же, а в нутро ты им заглядывал, что у них на уме-то, ты знаешь ли? – наседал Афанасий. – Вон я послушал, что говорят про братьев Прядеиных. За разбой по большим дорогам их сюда выслали. Купцов они грабили. А ты с прядеинцами дружбу заводить?!
– Вольно тебе корить-то меня, раз у тебя две лошади и сын-помощник. А я один как перст, дети малы… Каурко один, а бабу в оглобли не поставишь! Целину ведь пахать надо, хоть ржи попервам с полдесятины посеять.
– Ну, коли однолошадный ты, дак думать надо было: надо ли, нет ли переселяться тебе?
– А припомни-ка: на сходе перед отъездом мы поклялись помогать друг другу в большом и малом! Зачем ты тогда пустые слова на ветер кидал?!
– Да я уж сто раз покаялся, что поехал сюда, – плюнул Афанасий, – не сиделось дома, так вот теперь и живи тут среди воров да разбойников!
– Ну так обратно езжай, никто не держит!
– Да уж теперь здесь придется хоть выть, да жить… Ловко тебе зубы-то Шукшин заговорил!
– Ты, Афоня, Шукшина не трожь, знающий, дельный он мужик, работящий. Нам с тобой еще надо у него поучиться, как хозяйство вести.
– Ну-ну, поживем – увидим! Больше и слова тебе говорить не стану! Может, сам поймешь что к чему, немаленький.
…После этого разговора кумовья встречаться почти перестали. А Василий Елпанов сказал Шукшину:
– Коли не передумал пустить нас с Пелагеей в вашу малуху, так мы готовы переехать!
– Вот и ладно! – ответил Никита. – Стало быть, и поживем, и поработаем вместе!
Скоро некоторые переселенцы – те, кто победнее, пошли в работники. Никита дал Василию лошадь вспахать целину под рожь и пообещал помочь семенами.
Когда поспело жнитво, все взялись за серпы. Нюрка жала за взрослую, младшие девчонки тоже учились жать, но пока больше резали себе пальцы серпами. Рожь стояла стеной, густая и высокая – намолот хороший будет.
После обеда Анфиса, дохаживавшая последние дни, занемогла.
– Ой, что я тут с тобой буду делать, в поле-то? – всполошилась Пелагея.
– Я много уж рожала, живых, правда, только двое осталось… И всегда легко и быстро… Может, и на этот раз, бог даст, так же будет. Там у меня пеленки… в узелке собраны, – с трудом выговорила Анфиса.
И когда ей стало невмоготу, шепнула Пелагее и ушла на край поля, где за кустами стояла телега. Так, под телегой, на краю ржаного поля, в канун Ильина дня и появился на свет долгожданный наследник Никиты Шукшина.
Всего два дня роженица пробыла дома, а на третий поехала в поле.
– Страда ведь теперь, лежать-вылеживаться некогда, – сказала она Пелагее, когда та спросила, не рано ли ей снова браться за серп.
Младенца Анфиса возила с собой в поле. Деревянную резную люльку Никита сделал загодя; мать сшила из холста маленький полог. Люльку вешали под него на поднятые тележные оглобли.
После ржи Шукшины и Елпановы сжали пшеницу, оставив напоследок овес, ячмень и горох. Страда подходила к концу; мужики стали возить снопы на гумно, складывали их в скирды. Завертелся обычный круг нескончаемых крестьянских забот, из которого Никита и Анфиса лишь ненадолго вырвались, когда из Кирги приехал приходский священник. Обычно в страдную пору жители Прядеиной приглашали батюшку, когда появлялось несколько новорожденных младенцев. Так было и на этот раз. У Никиты и Анфисы родни в деревне не было, а соседей на крестины решили не звать.
Младенца, которого родители в разговорах меж собой уже стали называть Илюшкой, батюшка Ильей и нарек; окрестив в Прядеиной еще двух-трех младенцев и получив положенное за свершение обряда крещения, он уехал в Киргу. Крестным отцом Илюшки назвали Василия, а крестной матерью – Нюрку…
Стали убирать коноплю и связывать в небольшие снопики. Конопля вымахала выше человеческого роста, с толстым стеблем выворачивались целые комья земли. Чтобы обивать ее, мужики привозили на поле большие чурки. От конопли шел терпкий, дурманящий запах, и к вечеру разбаливалась голова. Но в Прядеиной каждый хозяин старался сеять ее побольше. Из конопляного волокна делали веревки, конскую сбрую, мешки, а когда плохо вырастал лен, конопля шла на посконную одежду. Из конопляного семени выжимали ароматное масло, жмыхом кормили домашнюю скотину. Только убрали коноплю и лен, глядь – уже пора копать картошку, овощи с огорода убирать …
Незаметно подошло к концу короткое зауральское лето. Отыграло зарницами дивных соловьиных ночей, с волшебным светом луны, полное неги и очарования, когда все в природе до самой малой пичужки живет, любит, дает жизнь другому. Началась золотая осень, прошла красно-желтым пожаром по окрестным осинникам и березнякам, одарила алыми бусами, словно девушек, рябинки. Небо разлилось бездонной озерной синью и начало золотом посыпать землю, поседевшую от первых заморозков. Не стало утренних тихих зорь с девичьим румянцем. Настала в природе пора увядания, тихой молчаливой грусти. Природа как бы жила воспоминаниями своей буйной молодости. Тихо в лесу в это время, только шуршат под ногами листья да задира ветер-листопад прошумит в вершинах и сбросит на вас целую охапку листьев.
Кое-где в лесу еще можно найти крепкий гриб-боровик, а на лесной полянке – хоровод волнушек; на старых вырубках возле пней теснятся целые семьи опенков, в сосняках поспела брусника, на болотах – клюква. Богата и щедра природа Зауралья!
В хозяйской малухе
Переселенцы из Новгородской губернии – те из них, кто не продал лошадей и ухитрился сохранить какие-то сбережения, начали рубить лес и строить жилье, кто какое мог, на новом месте. Большинство же лошадей продали; деньги, в том числе и «государевы», мало-помалу разошлись, и такие переселенцы остались ни с чем. У них был один выход – наниматься на работу к местным зажиточным хозяевам, идти в батраки, что чаще всего означало работать «из хлеба» и ради какой-нибудь мало-мальской одежонки.
Кум Василия Елпанова, Афанасий, рубил себе избу с сыном Иваном. Тому пошел шестнадцатый год. Когда отец привез его с собой в Прядеину, Иванко был совсем еще парнишкой. За лето он вырос, раздался в плечах – быстро мужать заставляла работа. От темна до темна за речкой Киргой, на выбранном Афанасием месте стучали и вызванивали топоры. Рубили лес, ошкуривали бревна и тут же принимались углем чертить на бело-желтой, пахнущей лесом древесине пазы и топором вытесывать их. Жили они сначала в балагане, но к осенним заморозкам вырыли землянку и в ней сделали глинобитную печь – стало теплее. Для лошадей устроили загон, крытый еловыми ветками, стали рубить сруб под конюшню.
Шукшину давно нужен был человек, который помогал бы управляться с хозяйством. Не раз он звал Василия, но тот в батраки идти не хотел: надеялся рано или поздно зажить своим домом. Однако на зиму он с Пелагеей остался в малухе Шукшиных. Спервоначалу Василий с Никитой порешили так: рубить «красный» лес для нового амбара на подворье Шукшиных, вывезти возку сена и дров на зиму, потом нарубить и вывезти лес для Василия, чтобы он начинал строить дом.
Пришло время чистить куделю[11]. В жарко натопленную баню с гумна стаскали снопы льна. Обмолоченный, пролежавший на лугу три недели под осенними дождями и обильными росами, почерневший лен сушили и мяли в деревянных мялках, отминая кострину[12], затем трепали, чесали сначала щеткой из боярышника, потом щеткой из щетины. Теперь белоснежный лен можно было прясть. Долгие зимние вечера и ночи проведут бабы за прялкой при свете лучины. Конопляную посконь и липовое лыко сначала выдерживали в речных заводях-мочищах, потом сушили и делали мочало для кулей, рогож и конской упряжи. Бабы за совместной работой сдружились; работящая Пелагея понравилась Анфисе, вдвоем они быстро очистили куделю. Им помогала Нюрка, которой пошел двенадцатый год, а значит, старшие и с нее требовали работу, как со взрослой. Вторая дочь Никиты, Танька, а заодно с нею и Настя тоже училась прясть. Илюшке шел третий месяц, это был крепкий, здоровый ребенок. Он целыми днями или спал, или просто лежал и «гулил» в люльке. Анфиса, не отрываясь от прялки, время от времени покачивала люльку ногой и продолжала работать. А работы хватало всем. Женщины пряли, а мужики чинили дратвой[13] порванную конскую упряжь или шили бродни и обутки[14].
В долгие осенние вечера, чтобы жечь одну лучину, все собирались в избе Шукшиных, и у всех была работа.
Елпанов и Шукшин исподволь приглядывались друг к другу. Василий был моложе Никиты, житейского опыта у него поменьше было, и прежде ему казалось, что Никита был как все, только отличался веселым, общительным характером, умением быстро заводить знакомства и везде становиться своим человеком. У него всюду были друзья и приятели – не только в Белослудском, но и в Харлово, и в Ирбитской слободе. Василий мечтал купить вторую лошадь, о чем не раз говорил Шукшину:
– День и ночь думаю об одном и том же: как мне к весне второй лошаденкой обзавестись. Ведь на одной-то я целины не подниму… Да еще строиться надо!
Василий и знать не знал, что с виду доброжелательный к нему Никита не раз с досадой говорил жене:
– Сдается мне, что ошибся я с переселенцами-то. Слов нет – и Василий, и Пелагея робить[15] хорошо могут. Думал я даже, что в работниках они у нас подольше побудут. Но куда там! Василий только с виду смиренный, хоть веревки из него вей, а всамделе-то – упорный, упрямый и себе на уме мужичонка! Такого в работниках не удержишь. По первам-то только вторую лошадь хотел, а теперь уж новую избу ему подавай…
…Вот и до Покрова дожили вместе со всеми переселенцы. Покров – престольный праздник в Кирге и в Белослудском, а значит, и в Прядеиной. Снегу еще настоящего не подвалило, и начинать молотить рано. В деревне всюду празднуют и отдыхают: настала самая веселая пора свадеб, посиделок, вечеринок, везде смех, песни, гармошка. Молодежь успевает погулять и вволю повеселиться до молотьбы. Стало холодно на улице играть гармонисту на гармошке. Народу в этом году в Прядеиной прибыло, значит, и молодежи больше. На берегу Кирги в центре деревни стояла маленькая избушка – пожарная караулка. Там вечно сидел старый дед Трифон, глухой, как пень. Кто он, когда и откуда пришел, никто из прядеинцев толком не знал; летом дед кое-где подрабатывал, ходил по деревням, но с наступлением холодов непременно возвращался к себе в сторожку, топил печку, мастерил ребятишкам игрушки или плел лапти.
В прошлые зимы молодежь ходила к деду, но к этой зиме в Прядеиной парней и девчат намного больше стало. Веселая и бойкая на язык Рипсимийка Палицына, первая заводила всех девичьих вечёрок, собрала как-то подружек, они о чем-то пошептались и гурьбой побежали к деду Трифону. Тихо и чинно вошли в избу. Поздоровавшись и помолившись на икону, смирно встали у порога. Дедко Трифон со своей бабкой сидели на печи. Бабка, кряхтя, высунулась и спросила:
– Зачем пожаловали, барышни? За делом али как?
Рипсимийка-хитрюга, шмыгая носом, жалобно так попросила:
– Баушка Акулина, уж вы с дедом пустите нас на вечёрки посидеть, совсем собраться не у кого, все семейные… А на улке холодно уж стало совсем… А, баушка?
– Ну чё мне с вами делать… Как, дедко, пустим их, ли чё ли?
– А вот бутылку кумышки[16] ежели принесут, а потом после себя полы вымоют, да ладом, – так чё, пусть себе вечерничают!
Чего греха таить, дедко Трифон и бабка Акулина по-стариковски не прочь были выпить. И с тех пор так и повелось: если молодежи надо было собраться на вечёрки, то шли к деду и бабке с припасенной бутылкой кумышки, и уж и пели, и плясали вволю.
После Покрова к Василию неожиданно пришел кум Афанасий. Как ни в чем не бывало пригласил на помочь[17] – складывать избу. День выдался на редкость теплый и солнечный, народу на помочь на афанасьевское подворье пришло много, и работа закипела так, что к полудню все бревна сруба были сложены на мох, и дружно взялись складывать конюшню.
Афанасий первым из новгородских поселян поставил себе избу на новом месте. Стали понемногу обустраиваться и другие переселенцы. Местные жители помогали приезжим кто как мог. Люди недоедали, недосыпали, трудились днем и ночью. Они и не рассчитывали на легкую жизнь. Знали, что трудно будет первое время на новом месте, и упорно шли к своей цели.
Между тем выпал первый снег и стало примораживать, зима постепенно вступала в свои права.
Василий Елпанов по первому снегу перевез нарубленный лес в деревню. Несмотря на недавнюю размолвку, они с кумом вроде бы примирились, и Василий не жалел сил во время помочи, когда Афанасию складывали избу и конюшню. Строиться он решил рядом с ним. Хорошо, что лесу нарублено много – хватит тоже и на дом, и на конюшню.
Вскоре Василий с Никитой поехали, как договаривались, в Харлово – разузнать насчет лошади, а если получится, то купить ее для Елпанова. У въезда в село Никита остановился, как бы что-то вспоминая, и сказал Василию:
– Поневоле запутаешься по заоврагам-то харловским! Давно уж не бывал у своего знакомца-то…
Немного поплутав, Никита остановил лошадь возле просторного дома и постучал кнутовищем в ворота. Во дворе залаяла собака, и через некоторое время вышла старуха. Одета она была по-кержацки, в темно-синий сарафан, голова до глаз повязана темным платком.
– Чё надо-то? – не слишком приветливо спросила старуха и прикрикнула на собаку. – Да хватит тебе, окаянная! Замолчи!
– Дома ли Черта? – непонятно для Василия спросил старуху Шукшин. Елпанов только потом узнал, что Черта – это прозвище хозяина, к которому они приехали.
– Нету его, на медвежьей облаве он с сыновьями. Третий день зверя выслеживают – совсем одолел проклятущий медведь! А вам нашто хозяин-то?
– Нам, вишь, лошадь купить надо. Хозяин продать обещал, говорил, что у него есть одна на продажу.
– Ну, когда такое дело, заходите не то в избу, пока ждете его, так погрейтесь!
Никита и Василий вошли в ограду, потом и в избу. Везде были развешаны звериные шкуры, на стенах вместо вешалок торчали ветвистые оленьи рога… С интересом разглядывая охотничьи трофеи, покупатели сели на лавку, долго ждали без толку, а когда, потеряв терпение, хотели уж несолоно хлебавши возвращаться в Прядеину, во двор въехали сани. В них сидел Черта с сыновьями. В ногах у них еле помещалась лохматая туша убитого медведя. Первым из саней вылез хозяин и кивком, без слов, поздоровался с вышедшими на крыльцо Никитой и Василием.
Черта был высокого роста, на вид худощавый, но чувствовалось – немалой силы человек, с кудрявой бородой и черными волосами, еще не тронутыми сединой. Черные живые глаза отливали агатовым блеском. Черта точь-в-точь походил на цыгана, но был на редкость неразговорчив. Никто даже не знал его настоящего имени, и все звали его по прозвищу. Черта страшно не любил пустопорожних разговоров. Никита, видимо, хорошо знавший его характер, сразу заговорил о покупке.
Черта, все так же не обронив ни слова, повел покупателей в пригон, показал молодую кобылу – рослую, гнедой масти со звездинкой во лбу – и назвал свою цену. Цена была сходной, но тут Василий чуть было не испортил сделку: мол, может, хозяин немного сбавит цену? Черта так и полыхнул цыганскими глазами и как ножом отрезал:
– Не хочешь, так не бери!
Что оставалось делать Василию? Он вынул и отсчитал деньги, потом взял в руку повод кобылы и вместе с Никитой вышел на улицу. На обратном пути он стал расспрашивать Шукшина о Черте.
– Ну ты и сам, поди-ка, видал… Своенравный он мужик! А уж смелый – до отчаянности: на медведя, говорят, в одиночку пойдет с рогатиной. Сыновей у него двое, и оба в отца пошли, вместе с ним охотничают. Видал – у них вся изба шкурами увешана! Старшего-то сына Черта женил недавно.
– А что ж он нелюдимый-то такой? Кажись, из него слова клещами не вытянешь…
– Кто его знает? Может, опасается он чего-то или скрывает что, да ведь не нашего ума это дело, – задумчиво отвечал Никита.
– Старуха-то – жена его, что ли?
– Не… Жена у него умерла. А старуха – сам не знаю, похоже, что работница… Гляди, Василий, Кирга наша сюда пришла, только берега здесь у нее крутые и пруда нет. Да и место куда хуже, чем у нас в Прядеиной, – вишь, одне овраги да буераки кругом. А главное, красный лес здесь далеко – вот чем плохо.
…Когда Василий вернулся с лошадью-новокупленкой, Пелагея с ребятишками были рады-радешеньки.
– Вот нам бы еще коровенку к весне завести, – размечталась Пелагея, – так вовсе хорошо было бы!
Это уж от веку так повелось: в крестьянстве мужику жизнь не в жизнь без лошади, а хозяйка спит и видит, как в пригоне или в стайке у нее жует себе жвачку и шумно вздыхает корова, коровушка-кормилица.
Втайне от мужа Пелагея продала свое обручальное кольцо, серьги и подвенечное платье, которые привезла за тысячи верст с Новгородчины в Зауралье и которые с тех пор хранила в сундуке. И все прикидывала, как по весне они купят телку – денег должно было хватить…
Теперь Василий часто ходил помогать куму Афанасию: срубы-то сложили, оставалось сделать выделку. Крышу закрыли берестой, прорубили окна, навесили двери. Надо было и печь глинобитную делать, но придавили морозы, и загодя заготовленная глина застыла; пришлось оставить дело до весны. Зато конюшня получилась на славу, и лошади стояли в тепле.
Афанасий посмеивался:
– В сильные-то морозы, когда в землянке холодно сделается, ночевать будем с лошадями в конюшне!
Но в землянке было всегда тепло. Сейчас, когда закончили строить дом, Афанасий в свою очередь стал помогать Василию, в свободное время приходил и Никита. Вскоре рядом с Афанасьевым домом заблестел желтизной новых бревен сруб дома для Василия.
Перед самым Рождеством бабы затеяли топтать сукно. Анфиса позвала Пелагею, нагрели много воды, принесли корыто со скамеечками, как в лодке. Материю из шерсти, вытканную на прочной льняной основе, заваривали кипятком, потом, когда он остывал, садились в корыто лицом друг к дружке, и топтали ногами. Из лучшей поярковой шерсти получалось домотканое сукно. Из него шили праздничные кафтаны мужикам, и ни один жених не шел под венец без такого кафтана. Шерсть, которая похуже, шла на сермяги для повседневной носки весной и осенью.
Анфиса с Пелагеей взялись перед праздником за большую стирку. Притащили большую кадушку, сложили в нее на раз выстиранное белье, залили кипятком и добавили щелока[18]. По мере того как вода начинала остывать, бросали в кадушку раскаленные камни – вода в кадушке снова бурлила. За стиркой Анфиса все сетовала помогавшей ей Пелагее, будто оправдывалась:
– Нынче мы скота почти не кололи, так и помылья[19] в достатке взять неоткуда.
Одну работу сделали, а тут и другая приспела: к Рождеству принялись мыть в избе и малухе. Скоблили потолки и стены, мыли их с речным песком, пока все не заблестело чистотой. Накануне Рождества, в сочельник, всего наварили-нажарили, наготовили стряпни.
Вот и светлый праздник Рождества настал. Спозаранку ребятишки уже бегают из дома в дом – поют, славят Рождество Христово. Славить умели с самого раннего детства, и кто лучше поет, тому и гостинцев хозяева больше дают.
Веселый праздник – Рождество! В народе говорят, что в эти дни «даже у воробья пиво». А пиво в каждом дому варили разных сортов: хмельное, травянуху, а кроме того – брагу на меду.
В сочельник по обычаю каждый должен быть сыт. Наедались и напивались вволю все – и хозяева, и работники. Утром набожные зажиточные прядеинцы запрягали в кошевки[20] лучших лошадей и ехали в Киргу, к церковной обедне. Остальные, оставшиеся в деревне, с песнями, хохотом и визгом катались по деревенским улицам на лошадях. Даже те, у кого на дворе и была-то одна лошаденка да короб на дровнях, и то выезжали на Рождество, правда, где-нибудь ближе к задворкам, чтобы не быть стоптанными тройками бешеных рысаков сельских богатеев.
Никита Шукшин запряг в кошевку Гнедка и повез кататься свою семью, следом на санях выехали Василий с Пелагеей.
Казалось, вся деревня вышла на улицы на рождественское гулянье, дома остались только совсем немощные старики и старухи. Девки и молодухи вытащили из заветных сундуков все самые лучшие свои наряды – бухарские, пуховые оренбургские и кашемировые, красные и желтые, с крупными цветами шали. Везде и всюду слышались песни, смех, сыпались шутки-прибаутки, бегали ряженые: кто маску нацепил и татарином обрядился, кто в цыгана превратился, а кто так лицо себе печной сажей вымазал, что его и родная мать, пожалуй, не узнала бы…
Вот с крутого берега на Киргу катится большая скамья, вся облепленная парнями и девками. Человек пятнадцать с гиканьем, свистом и визгом, набирая бешеную скорость, устремляются вниз по откосу; вдруг в полугоре скамья покачнулась и опрокинула всю ватагу в снег. Куча-мала, куча-мала!
На скамейках и на санках не только молодежь, а иной раз даже пожилые мужики и бабы катаются. Из чьего-нибудь двора вытаскивали на крутой берег сани без оглобель, тут уж шла потеха вовсю, даже старики и старухи не могли удержаться, чтобы хоть разок не скатиться с крутого откоса на лед Кирги.
До самого вечера, до сумерек на реке шло веселье. Когда уже становилось темно, из дома в дом все шли и шли ряженые, пели да плясали под гармошку. А рождественский мороз-то не шутит: то у одного, то у другого побелеют нос и щеки. Не беда – ототрут снегом, и веселье продолжается дальше до тех пор, пока снова у кого-нибудь лицо морозом не прихватит.
Через неделю Новый год, а там и до Крещения рукой подать. На Святки идет ворожба и гадания. Бывает, что гадают даже пожилые мужики, отцы многочисленных семейств: зачерпывают деревянной ложкой воду и выносят на мороз, а наутро смотрят, как застыл лед. Если, не дай бог, с ямкой, то в этом году не жди урожая, а если кверху выпучился, то добрый урожай соберешь…
Об урожае русский крестьянин и без всякой ворожбы знает по природным приметам, которые передавались из уст в уста многими поколениями. А вот молодым девушкам, особенно невестам, ворожбу только подавай! Разных способов ворожбы и не перечтешь: ворожат на картах, на бобах, на яичном белке и воске – всё в ход идет, лишь бы узнать, скоро ли явится твой суженый и каков он собой…
Когда зима вошла в полную силу, в Прядеиной начали молотьбу. Прежде всего на гумне делали «ладонь» – возле овина[21] расчищали от снега и поливали несколько раз водой ровную площадку. Чтобы хорошенько высушить снопы, в овине беспрерывно и жарко топили печь. На полки из жердей от пола до самого потолка укладывали снопы, а когда они высыхали, их вытаскивали и клали один к одному на «ладонь» колосьями вовнутрь. Потом каждый из молотильщиков начинал по очереди ударять по снопам цепом, или, по-здешнему, молотилом – длинной палкой с прикрепленной к ней прочным сыромятным ремешком палкой покороче. Правильно и хорошо молотить умел не всякий, особенно когда возле «ладони» собиралось несколько молотильщиков. Это было настоящим искусством, в котором главным было врожденное чувство ритма. Если молотили правильно, то получалась как бы барабанная дробь, поскольку молотильщиков бывало до восьми человек. Ранними морозными утрами привычное ухо издали слышало стук цепов, улавливая: вот у этих хозяев молотят ладно, хорошо, а у тех – так себе, вразнобой. И имена умелых молотильщиков в деревне тоже были на слуху и в почете, как и имена-прозвища лихих косарей и знающих лошадников.
Сушили овин всю ночь, чтобы к утру снопы были готовы к молотьбе. В больших семьях обычно это делали старики; у Шукшина овин сушить было некому, и он управлялся сам. Когда снопы высыхали, Никита шел будить Василия и Пелагею, стуча в окно малухи и требовательно покрикивая:
– Василий, вставай, время много, Кичиги[22] вон уже куда поднялись. Молотьбу проспите!
Василий с Пелагеей, наскоро одевшись, шли на гумно, вскоре подходила Анфиса, и начинали молотить вчетвером. Обмолотив овин, в который входило около сотни снопов, и насадив следующий, шли завтракать и управляться со скотом. Никита, позавтракав, снова бежал сушить овин, а Василий провеивал зерно и отвозил его в добротный амбар, поставленный на столбах, чтобы под полом ходил ветер. Пол и стены в амбаре были гладкие и плотные, а по бокам строили плотные сусеки из досок. Потолка не было – сразу крыша, и каждый хозяин тщательно следил, чтобы крыша на амбаре не протекала.
Рубили амбары без моху и не конопатили, а особо тщательно подгоняли бревна, чтобы не было щелей и негде было жить мышам. В двери делали отверстие для кошек.
Когда вечерами Никита уходил сушить, Василий с Пелагеей оставались в избе вечеровать. Женщины и девочки при лучине пряли шерсть или куделю. Нюрке уже доверяли прясть лен, Насте с Танькой доставались изгреби[23].
Петрунька тоже был при деле: приносил из-под печи просушенную лучину и следил, чтобы она хорошо горела. Когда малец отвлекался какой-либо игрой, Василий сам поправлял лучину, шутливо ворча на сына:
– Не видишь, что ли, лучина криво горит? Ты уж давай свети как следует!
И снова горит лучина, а по стене, навевая дрему, мельтешат черные расплывчатые тени… Работают молча, но иногда среди всеобщей тишины Пелагея начинает негромко напевать себе под нос. Анфиса смеется: «Захаровна, видно, спать захотела», – а сама потихоньку начинает ей подпевать. Пелагея начинает петь громче, голос у нее хороший. У Анфисы – похуже, но вдвоем у них получается ладно, и избу наполняют песни, от которых сразу исчезает дрема и все словно оживают: «Кольцо казачка подарила, когда казак пошел в поход…»
Как-то Пелагея запела: «Под ту, под сумрачную ночку». Вдруг Танька уронила веретено, принялась подбирать под себя ноги и, дрожа, жалобно попросила:
– Тетя Палаша, не надо эту песню, она страшная… я боюсь!
– Вот еще, трусиха! – засмеялась Анфиса – Это ведь песня! Ну да ладно, Пелагея, давай другую песню заведем!
И полились задорные песни – «Во кузнице молодые кузнецы», «При лужке-лужке». Эти песни Пелагея и Анфиса пели особенно задорно и слаженно, так что даже Василий в такт головой покачивал и, наверное, заприщелкивал бы пальцами, не будь у него в руках начатый бродень да шило с дратвой.
– А ты, Василий, чё не поёшь? – спросила его Анфиса.
– Да я пою только по праздникам, когда кумышки на столе много, – отшутился тот.
– О, ты, выходит, такой же, как и мой Никита!
– У меня Пелагея за меня и за себя поет. Я ее за песни и замуж-то взял…
– А если бы я вдруг петь не стала, тогда не взял бы? – поддержала шутливый разговор смеющаяся Пелагея.
– Да нипочем бы не взял такую беспесенную, другую нашел бы!
Пелагея вдруг вспомнила родину, семью, родительский дом на берегу речки Мокши, раннее детство, которое вспоминается с трудом, как бывает, когда человек утром с трудом, по крупицам вспоминает увиденный минувшей ночью сон и, еще окончательно не проснувшись, все никак не может понять, сон ли это был или давным-давно ушедшая в прошлое явь…
Вот летнее утро. Палаша, босая, в одной холщовой рубашонке, пасет гусей на берегу Мокши, и большой белый гусак с сердитым шипением вытягивает шею, норовя пребольно ущипнуть девчушку. Вот уже угловатым подростком она едет с родителями на покос, едет и поет от распирающей ее девчачьей радости.
Мать, бывало, любовно поглядывая на певунью-дочку, поддразнивала ее, мол, рано пташечка запела – как бы кошечка не съела. А отец и в шутку, и всерьез говорил ей:
– А ты пой, дочка, пой! С песней-то жить веселее, а кто петь не любит, тот и радости не знает!
И вот она уже в невестиной поре, высокая, тонкая, как красноталовая ветка, с карими глазами и с темно-русой косой. Всегда в кругу множества подружек. И всегда пела – и за прялкой при лучине, и в хороводе, и на вечерках, а уж тем более на свадьбах. Родители везде и всюду ее отпускали: «Девичья пора коротка, пусть повеселится!» Парни на Палашу давно засматривались, наперебой приглашали танцевать. И танцевала она, как и пела, отменно.
К восемнадцати годам уже не одна нарядная бричка подъезжала ко двору Палашиных родителей, стучались в дверь сваты. Отец единственную дочь выходить замуж не неволил. Матери он, посмеиваясь в бороду, говаривал:
– Небось, мать, в старых девах она не останется, пусть пока лучше в девках подольше поживет, ума накопит да сама себе по сердцу, кого ей надо, выберет.
И она выбрала Василия. Чем он ей понравился, она и сама не могла объяснить. То ли тихим нравом, то ли красотой светло-русых шелковистых кудрей, то ли глазами, отливающими озерной синью на золотистом от загара лице?..
Много было коротких встреч на берегу Мокши. И веселая певунья Палашка стала задумчивой и серьезной. А Василий, улучив добрую минуту, выложил отцу:
– Тятя, я этой осенью жениться хочу, что вы скажете?
– Это кака-така неминя[24] – жениться-то с бухты-барахты? Вот через год и женись – не успеешь небось остареть-то! За это время хоть одежу добрую справить успеем да денег к свадьбе подкопим…
– Нет, тятя, невесту просватать да увезти могут, а мне тогда… только камень на шею да в Мокшу с головой!
– Ты у меня брось дурить! Не то возьму вот чересседельник[25] да отдеру как сидорову козу! И не посмотрю, что ты экая дубина вымахал… выше меня. Правду говорят: «Вырос, да ума не вынес!» Непонятно разве, что год подождать надо, до следующего Покрова, тогда и разговор будет. А то заладил одно свое, а у меня вас четыре таких-то оболтуса! Да если каждый по-своему запрягать возьмется, так это мне, а не тебе – в Мокшу-то с головой!
Так этот разговор сына с отцом и закончился. Василий знал, что упрямого отца ему не переупрямить, и решил схитрить. Как-то после ужина, когда братьев не было дома, он сказал отцу (мать тоже отлучилась из избы):
– Что ж, раз так – завтра пойду из дому, наниматься в работники к Моксунову… Вчера мы с ним говорили, он мне за год вперед денег на свадьбу дать пообещал.
Отец от удивления открыл рот, как с шапкой в руках стоял, так и сел.
– Господи! Вот где зелье-то! Да это, выходит, срам на мою голову, люди-то что скажут?! А скажут: мол, Иван Елпанов сына в строк[26] отдал… Елпановы на смеху никогда не были, запомни это, сукин ты сын! Да как я на люди-то покажусь после этого, ведь на меня все пальцем будут указывать.
Тут в избу зашел дед Данила.
– Что за шум, а драки нет? – спросил он сына. А сам-то все слышал – за дверью стоял.
– Да вот, тятя, что внук твой любимый выдумал! Говорит, в строк к Моксунову пойду. Вишь, жениться ему приспичило! Я ведь не против, женись – может, поумнеешь, да ведь не нынче же!
– И кто ж невеста? – как ни в чем не бывало буднично спросил дед. – Нашенская она али из чужой какой деревни? А, Василий?
– Палаша, Захарова дочка, – ответил тот.
– Это Захара Макогоненка, что ли?
– Да, его самого!
– Ну знаю, Захар – человек с достатком, а дочка у него одна и собой приглядна. И что ты, Иван, супротивишься? Обвенчать их, да и дело с концом!
– Тятя, дак ведь сам знаешь – недород нынче был! Ни одежи доброй справить не на что, ни свадьбы сыграть!
– Да у нас в губернии-то урожай – один раз через десять лет. Эдак Василию десять лет придется ждать, что ли? Одежа пусть будет така, кака есть, а свадьбу можно и небогатую сделать!
И дед Данила поднялся с лавки и направился к двери, оставив Ивана и Василия вдвоем.
Иван Елпанов покряхтел-покряхтел, а потом, будто не он только что костерил сына, сказал:
– Ты вот что, Василий… Ни в какие работники не ходи… Женись уж не то, будь по-твоему. Матери-то подмога нужна, ведь на нас, шестерых-то мужиков, сколько стряпни да стирки требуется!
В это время в избу вошла мать Василия.
– Ну что, мать, как решим: женить нам, что ли, Ваську-то?
– Дак невеста-то – ни ткать, ни прясть, только по вечеркам шастать горазда… Вестимо, одна дочь у родителей, из таких-то редко жены добрые выходят… А жизнь семейная – это не одни песни-пляски!
– Вот жизнь, глядишь, и научит! У нас некогда будет баловаться. А что петь да плясать любит, так это ей не укор!
…В этот раз на свидание с Палашей Василий как на крыльях прилетел:
– Пусть родители твои завтра сватов ждут!
– Ой, да как же это, Вася?! Ведь батюшка твой наотрез против нашей свадьбы был?
– А у него тоже батюшка есть! Дед Данила, спасибо ему, помог нам, Палаша! Уговорил он отца, чтоб он нашему счастью поперек не стоял, а отец сам мне сказал, что на свадьбу согласен!
Палаша, зардевшись румянцем, не помня себя помчалась домой. Прибежав на подворье, долго прислонялась раскрасневшимися щеками к холодным перилам крыльца, но лицо все равно так и полыхало…
– Ты откуда это, девка, прибегла, ровно полоумная? – спросила ее в сенях бабушка Агафья. – И лицо-то у тебя, как кумач, красное… А раз горит, значит, кто-то про тебя говорит! Часом, не Василий Елпанов? – усмехнулась мудрая старуха.
…Назавтра приехали сваты, долго говорили с отцом и матерью, а Палаша сидела в горенке и прислушивалась к разговору. Сваты и родители потом позвали ее, спросили, согласна ли она выйти замуж. Могли бы и не спрашивать: у Палаши сердце так и ёкало от радости – наконец-то они с Василием будут вместе, на всю жизнь вместе! После этого и разговаривать было нечего, на стол выставили вино, начали «пропивать невесту».
Народу на венчании в церкви было много. Палаша стояла, как во сне, и, как сквозь сон, она слышала разговоры.
– Хороша невеста-то!
– Ну, Елпановы уж не ошибутся, уж они свое возьмут…
– Говорят, и приданое хорошее дали.
– Вестимо, ведь одна она дочь у них!
Пелагея вспомнила, как привыкала к жизни в чужой семье. Трудно было поначалу: семья Елпановых большая – семь человек да она, восьмая. И хорошо, что не было ни одной золовки. Не зря в песне поется: «Лучше деверя четыре, чем золовушка одна».
Больше всех в семье ее уважал дед Данила, всегда звал внученькой. Дед был веселого характера, любил шутить. Свекор, наоборот, угрюм, немногословен, как будто вечно на кого-то сердит.
Работы было много, и свекровь Палашу не очень-то жаловала, но рядом был долгожданный Василий, и все житейские мелочи быстро забывались.
…С того Покрова, со дня свадьбы, пролетело быстрокрылой птицей девять лет. Девятнадцати лет она выходила за Василия, а теперь уж ей двадцать восемь скоро, а мужу тридцать один будет.
Конечно, за эти девять лет в их жизни было всякое. Но ведь так и бывает, «из счастья да горя и сложилась доля». Из четверых детей, что родила Пелагея, двое умерли до года; двое уж подрастают: Настеньке скоро восемь, а Петруньке пятый идет с Петрова дня. Настенька, «отцова дочка», русоволосая, с синими, как у отца, глазами, тихая и послушная. Другое дело – Петрунька, настойчивый и настырный непоседа. Тот любил, чтобы все игрушки его были. Встречаясь с друзьями, командовал ребятами даже старше себя. А вот слушаться – не очень-то. Отец часто ремешком его охаживал, но упрямец-сын все равно делал все по-своему.
Василий, бывало, с досадой пенял Пелагее:
– Видно ребенка в ребятах – жеребенка в жеребятах! И в кого он у нас такой упрямый? Не иначе в твою породу пошел…
– Да чего ты, – примиряюще посмеивалась та, – хорошие у нас ребятишки растут, дай им бог здоровья!..
…Вдруг, как бы во сне, прозвучал голос Анфисы:
– Что это задумалась, Палаша? Родная сторонушка на ум пала? То-то я гляжу – песня у нас сегодня не клеится… Давай-ка ребят спать укладывать, а сами еще немного посидим, да и тоже спать. Никита овин досушивает, спозаранку молотить ведь надо.
Утром чуть свет Пелагея проснулась. Василий тоже не спал, сидел на лавке.
– Какой я сон видела, Вася, к чему бы это. Будто бы дома мы живем, в своей деревне, а в свой дом никак зайти не могу. Вот вижу, подхожу к воротам тятиного дома, бабушка Агафья на крыльце стоит. Ворота закрыты, я ей кричу, чтобы ворота открыла, а она глядит на меня, ничего не говорит и ворота не открывает. Я через забор перелезла, а она ушла в дом и сени закрыла, и опять меня не пускает. Я вижу, створка открыта, и она в окно глядит на меня и смеется, я к окну, а она створку захлопнула и ушла. Я заплакала и проснулась. Наверно, снег будет. Покойники к снегу снятся. Ох, Вася! И до чего надоело работать на людей… Сколько уж мы работы Никите сделали, а себе-то когда будем? Вот всю ведь зиму мы с Настей на Шукшиных прядем, потом ткать станем, а даст ли Анфиса аршин-другой холста – неизвестно… Не думала я, как с родины мы уезжали, что на чужих людей придется работать. Не надо уж было трогаться с места, вот оно, лихо-то, за тридевять земель нас искало, да нашло!
– Ладно, не горюй, Палаша, потерпим! Эту зиму поживем у Никиты, а там свою избу обоснуем, переедем.
– Да ведь придет весна, и для Никиты опять надо будет пахать да сеять. У него работы каждый день вон сколько! По его хозяйству двух-трех человек работников держать круглый год надо…
В это время раздался стук в окно, и Никитин голос позвал: «Молотить скорее идите, давно уж пора!»
– Ну, легок на помине, – только крякнул Василий и стал одеваться.
Все пошли на гумно. В особо урожайные годы прядеинцы молотили всю зиму, а в эту закончили зимним постом.
Во время молотьбы, когда Никита сушил ночами овины, Василий управлялся с лошадьми, ходил в амбар за овсом, чтобы покормить своих лошадей и Никиты. Как-то Никита сказал Василию с досадой:
– Ты что это – чуть ли не весь овес свалил лошадям, в амбаре-то скоро пусто будет!
– А что я, сам овес-то ел, что ли? Ну давал лошадям понемногу. Да как не дашь, с зимы же надо коней поправлять, а если зимой заморишь, дак весной много ли напашешь?
– То я и смотрю: сена у тебя не убывает, зато мой овес своим лошадям травишь… Ты что, его сеял?
Василий, обычно мягкий, на сей раз не смолчал, здорово возмутился.
– Только что не сеял, а так – всю работу делал! Жали мы с тобой вдвоем и снопы убирали вместе, и молотили. Я и веял, и в амбар зерно возил, и в твои сусеки засыпал! Если бы я к тебе в работники нанялся, ты бы меня кормил, одевал, да еще и платил. А баба моя сколь вам кудели очистила, вычесала да напряла за зиму?!
Никита молчал, а Василий продолжал бушевать:
– Вижу, чего ты добиваешься своими придирками да вечными понуканиями – чтобы нам с Пелагеей убираться из вашей малухи!
– Да что вы, что вы! Куда же вы зимой-то, не выдумывай! А про овес – это я так… к слову пришлось…
После этого в их отношениях что-то изменилось: Никита Василия больше ничем не попрекал, и работали они бок о бок, и разговаривали, но все-таки какая-то кошка между ними пробежала…
Шукшин говорил жене:
– Вишь он какой, Елпанов! Такой зубами землю грызть будет, а дай время – богаче нас станет. Уж я-то знаю: всяких людей повидал, не зря Расею-матушку пешком прошел и в Сибири десять лет бедовал… Это большая наука для кого угодно, каторга-то.
Начались трескучие морозы. Как-то в воскресенье Пелагея пошла за реку к куму Афанасию. У того в землянке топилась глинобитная печь, потрескивая дровами, было тепло и уютно. Афанасий подшивал валенки, кума Федора пряла.
– А, кумушка, здравствуй, давненько ты у нас не бывала! – приветствовал ее Афанасий. – Все в работе да в работе? Учти – чужу работу вовек не переделаешь… Вон у меня баба-то прясть нанялась в люди… А я не такой – хоть и пересолю, да выхлебаю! По мне, так уж лучше щепку с места на место перенести, да в своем хозяйстве, чем убиваться на чужих людей. Люди-то, они сначала к тебе лисой подкрадутся, а потом – цоп! – и возьмут свое. Особенно здешний народец. Уж такие все тертые калачи! Известное дело, каторжане… Намеднись Кирилы-косого баба приходила к нам, дак вся слезами уливалась, все на никудышного мужа да на жизнь свою жаловалась. Известное дело, Кирила-то дома в деревне был первый лентяк да пьяница, никудышний мужичишка, ничего никогда у него не выходило. Ну куда ему было трястись, дураку, в этакую даль! Последнюю лошадешку тут продал, а ведь жить надо как-то. Ну и пошли на год в строк к Кузнецову Игнату. А Игнат как был до каторги вор, за что и угодил в Сибирь-то, так и после каторги вором остался. А уж выжига – не приведи бог! Совсем всю семью на работе замучил. Известное дело, строшные, а он худой, да хозяин.
Сынок у него, каторжанское отродье, к девке Кирилы, Катьке, привязался, нигде проходу не дает! Кирила с бабой своей теперь ревмя ревут, а год ведь как-то дорабатывать надо! А ведь сколько я говорил, и куму Василию сколько раз талдычил: не след нам, новгородским, с местными связываться. Я даже и строиться не стал в каторжанской-то слободке. Сюда вот, за реку-то, не всяка каторжанска тварь приползет! Построились здесь, вот и будем жить одни новгородские, а их сюда не пустим. Скорей бы весны дождаться… Местные говорят, что больно долга здесь зима-то!
– Поначалу всегда трудно, где ты ни живи, – вмешалась Пелагея. – Ну да ничего, уж как-нибудь обживемся.
Придя домой, она рассказала Василию, о чем ей говорил кум Афанасий.
– Вот я одного в толк не возьму, почему так бывает, – сказал Василий, выслушав ее. – Взять, к примеру, Никиту, да и всех остальных. Вчерашние каторжане, нищие, но чуть только в люди выходить стали, едва хозяйством кое-каким обзавелись, а уж подавай им дармовую рабочую силу…
Вот говорю я с Никитой, спрашиваю: к чему тебе столько посева? А он мне: хлеба, мол, много надо. Да еще, говорит, у меня две рабочие лошади да жеребенок подрастает – овса побольше не вредно бы, а тут две дойные коровы да телята, да овцы-свиньи, да сколько птицы всякой – всех кормить надо! Вот и хочу с каждым годом посев увеличивать. Здешние земли-то – никем не меренные, и свободной земли – тыщи десятин, знай паши себе да сей, что тебе надобно! А я снова спрашиваю: зачем тебе столько скотины держать? А как же, говорит, без скотины-то жить? Чтобы было что продать и себе осталось, ведь мы кормимся, одеваемся, обуваемся – все от скотины, а нет ее, так ты – пшик, а не хозяин! Я тогда говорю: где тебе одному справиться со всей этой работой? А он мне: работников найму – вон сколько вашего брата-то шатается, велика Расея-матушка, а нет – так каторжан пригонят!
Да, видно, прав был кум Афанасий, не надо было с Шукшиным связываться… Да что уж теперь – весна скоро, глядишь, своим домом заживем!
…Вот и «Евдокия на высоких каблуках» – март. Если воробей напьется из лужицы – весна ранняя, но нет, не напился воробей, даже на солнце не притаяло. Была ранняя Пасха, и на Святой неделе изредка шел снег и порой даже вьюжило. Да, зимы здесь намного длиннее, чем в России. Так говорили новые поселяне, а старожилы уверяли, что разница невелика, да и годы бывают разные, и что тому, кто раньше жил где-нибудь в степях, в Зауралье нравилось больше. Долго еще зима напоминала о себе заиндевелыми утренниками, а леса смотрели словно из-под седых и мохнатых стариковских бровей. Но весна мало-помалу завоевывала новые рубежи.
Наконец началась пора ослепительной весны, света, когда на мартовском затвердевшем насте солнце заиграло алмазной пылью. Потемнели дороги. Поднялась ввысь бездонная синева неба. Прилетели грачи, стали наполнять своим криком воздух, обживать старые гнездовья. Каждый день приносил что-то новое. Из-под талого снега побежали первые стремительные ручьи. Наполнили веселым журчаньем окрестность, а солнце поднималось все выше, все сильнее грело землю. Вскрылась Кирга и, взломав лед, с шумом понесла свои воды в низовья, на заливные луга…
Однажды утром по раннему заморозку Василий пошел в поле посмотреть, как перезимовала его полоска ржи. Вся его жизнь была в этой ржи, вся надежда.
Зимой Василий каждую морозную ночь выходил на улицу, думая об этой полоске, в надежде смотрел на небо, не затягивается ли мороком. «Господи, дай снежку, закрой землю – холодище-то какой, вдруг вымерзнет рожь-матушка. Чем тогда кормиться, как жить?!» Так бы и пошел, лег на полоску, закрыл бы ее собой, защитил бы от жестоких морозов…
После быстрой ходьбы Василий остановился и перевел дух только тогда, когда подошел к своей полоске. Вытирая со лба пот, увидел меж комьями земли на прошлогодней озимой пашне остренькие жальца ржаных всходов. Отлегло от сердца: выжила, в рост скоро пойдет!
Весна принесла и другие заботы. Афанасий и Василий принялись месить оттаявшую глину, делать кирпич-сырец, чтобы класть из него печи взамен глинобитных.
Кумовья первыми из поселенцев стали обживать свои избы, а вслед за ними новоселья справили и остальные приезжие – двенадцать семей с Новгородчины. Скоро за Киргой выросла улица-односторонок. Все избы стояли на взгорке, окнами к солнцу. Место было красивое, веселое; его скоро стали называть Заречьем. А на другом берегу Кирги появилась слободка, окрещенная в Прядеиной Каторжанской слободкой.
Дотошный и упорный Никита Шукшин вскоре взялся за давно задуманное им дело. Вместе с соседом Андреем Шиховым возле глиняной ямы построили сарай, а в откосе речного берега соорудили большую глинобитную печь. И стали, как мечтал Никита, делать настоящий кирпич: предварительно высушив заготовки в сарае, их сажали в печь и обжигали кирпич до звона. Печь топили круглые сутки по очереди.
И вот настал день, когда Никита перевез кирпич к дому, проворно порушил прежнюю печь-глинобитку и стал класть новую, кирпичную, с дымовой трубой на крыше. Любопытствующие со всей деревни собралась около Никитиной избы, некоторые заглядывали в нее и, выходя, недоуменно пожимали плечами:
– Дак чё, он в потолке-то дыру сделал, и в крыше тоже. А вдруг дождь пойдет? Никак он штанами дыры-то закрывать будет! Ну тогда уж ему придется безвылазно на крыше сидеть! – хохотали зубоскалы.
Но Никита, не обращая внимания на насмешки, все клал да клал кирпич за кирпичом. Вот уж он делает трубу…
Зеваки с удивлением впервые увидели на тесовой крыше деревенской избы кирпичную трубу.
– Глядите-ка, а дыры-то ведь не стало! – кричали одни.
– Да неужто дым пойдет в трубу эту – да ни в жисть! – сомневались другие.
Никита слез с крыши, принес дров, сложил их в новой печке, зажег от уголька лучину и сунул ее меж дров. Они вроде весело загорелись, но дым сразу наполнил избу, и все принялись хохотать и подначивать. Но Никита не унывал. Он вытаскал обгоревшие дрова и долго жег только одну лучину.
Дым мало-помалу пошел в трубу, и тогда, подложив в топку дров, Шукшин крикнул с крыльца:
– Андрей, ну-ка, погляди, идет ли дым через трубу!
Но тут уж все увидели, что идет дым, да еще как! А в избе дыму не было. Вот и перестали насмешничать да зубоскалить. Печь из обожженного кирпича понравилась всем, и многие загорелись тоже наделать кирпича и в своих избах заменить глинобитные печи на кирпичные. Да некогда стало: подошла посевная – горячая и трудная пора для крестьянина-хлебороба. А для новых поселенцев – трудная вдвойне.
Василий пахал землю, веками не тронутую сохой. Пахал до ломоты в спине. К вечеру ноги становились ватными, в глазах ходили красные круги, во рту стояла сухая горечь. А Василий все шел и шел за сохой по борозде, отваливая пласт черной земли с дерном. Рубаха почернела и прилипла к спине, плотно облегая острые лопатки. Пот струился по лицу, соленый и терпкий, выедая глаза. Когда лошади, тяжело поводя впалыми боками, больше не могли тащить соху и останавливались, Каурко оборачивался к хозяину и глядел на него своими влажными печальными глазами. Только тогда Василий приходил в себя. Наскоро выпрягал лошадей и давал им по охапке сена или пускал пастись около болотца, где начала пробиваться первая весенняя травка. Ему было до слез жаль так изнурять лошадей, и он, лаская их, говорил: «Матушки мои лошадушки, худо я вас кормлю, тяжело вам на такой работе, беспременно овес нужен, а где его сейчас возьмешь. Сами охвостья с травой едим, еле ноги таскаем, как бы дожить до свежего урожаю».
Если бы увидали его в эту тяжелую весну отец и братья, они ни за что не узнали бы Василия в этом постаревшем до времени человеке.
В короткие минуты отдыха Василий глядел в голубое бездонное небо, слушая песню жаворонка, вспоминал родную деревню и своих близких. Вот были бы сейчас рядом отец, братья, дед Данила, помогли бы делом и добрым советом. И как послать им весточку из этой дикой глуши, где на много верст не найдешь ни одного грамотного человека? «Вот отсеюсь – поеду в волостное правление, упрошу писаря написать да послать письмо», – думал Василий.
После пахоты Настя всю весну ездила на гусевой[27] – боронила землю. Потом ходили по полю, сеяли из лукошка. Посеяли немного пшеницы, а кроме того – ячменя, овса и льна; в огороде посадили картошку и овощи. Часть семян была привезена с собой с Новгородчины, часть купили на месте, часть дал Никита.
Тяжела и беспокойна доля крестьянина-земледельца. Засеяв с великим трудом обработанную землю, с надеждой и мольбой смотрит на небо, не пошлет ли бог дождичка, тихого, без бури и ветра. Наконец, когда хлебушко вырастет, начнет колоситься, со страхом ждет каждой тучки: не с градом ли? А если под осень хлеб еще не дозрел, боясь ранних заморозков, готов всю ночь ходить возле поля и жечь костры, чтобы иней не прихватил его полоску. Да и со скотиной может всякое случиться. Когда в хозяйстве одна лошадь и корова, тяжело и страшно вдвойне.
Отсеялись еще до Николина дня, а с тех пор – хоть бы один дождичек бог послал!
– Закостенело небо-то, – сокрушались мужики-старожилы, – придется в Киргу, в приход за попом ехать, пусть уж молебен отслужит.
Молебен приходский священник назначил на воскресенье, а уже в субботу вечером солнце садилось в тучу, и к ночи начал накрапывать долгожданный дождь. Постепенно он превратился в настоящий благодатный ливень. Босоногие ребятишки, глядя на взрослых, носились под дождем и кричали: «Дождик, дождик, пуще, дам тебе я гущи, хлеба каравай – весь день поливай!» или «Дождик, лей, дождик, лей на меня и на людей!»
После обильных дождей и посевы, и травы пошли в рост. Новых поселян собрали на сход. Решили послать кого-нибудь в волость и нанять писаря, чтобы он послал грамотку от всего Заречья в Новгородскую губернию – известил родных и близких поселян. У Василия дома было много работы: он торопился до сенокоса срубить конюшню, чтобы зимой лошади стояли в тепле и меньше долили волки, и в волостное правление направился Афанасий.
Елпановы – Василий, а еще больше Пелагея – хотели к зиме купить телку.
…Матрена Кирилиха сидела в Афанасьевой землянке, пряла куделю для чужих, и слезы одна за другой текли по ее изборожденному глубокими морщинами лицу. Кирилихе не было еще и сорока, но выглядела она старуха старухой. Она и проклинала свою несчастливую судьбу, и вместе с тем молилась, время от времени говоря вслух: «Господи, да за что же такие наказания, чем же я перед тобой провинилась? Не жизнь, а одно мучение… Пошли, Господи, смерть по мою душу! К чему мне жить? Лучше преспокойно лежать в сырой земле-матушке». И она, качая головой, снова тяжело вздыхала, в сотый раз думала одно и то же: «Ну к чему нам было сюда ехать, себе на горе да несчастье? Уж нам, злосчастным, надо было сидеть дома».
И под горькие думы вспомнила свою трудную жизнь, хворого отца, кашлявшего на печи, измученную работой и горем мать. Потом – похороны отца и следом матери, три года в работницах в семье дяди, материна брата. Семья была большая и жила с хлеба на квас. Дядя выдал ее замуж за парня из той же деревни. Не успели обжиться в избе мужнина отца, как Матрена в двадцать лет осталась вдовой с дитем на руках.
Они в то время были на оброке, да еще платили гужевую повинность. Барин жил в Питере, но с каждого хозяйства требовал гужевую повинность. По первопутку надо было везти хлеб из Чудова монастыря в столицу. С обозом пошел и Матренин Иван, да так и не вернулся: загинул в дороге – по тонкому льду утонул в реке вместе с конем. Дочка Катюшка на первом году была. Как вдовой молодухе хозяйство вести, да еще без лошади? Вот и пришлось принять в дом Кирилу-то. Про того и раньше нехорошая слава шла: ленивый мужик и к вину сильно горазд. Но что было делать, с дитем-то кто добрый замуж возьмет…
Матрена баба смирная, сговорчивая, обаял он ее, насулил семь верст до небес. Поверила она ему, обвенчались, стали жить. Но толку от него оказалось мало, работать он не любил, был хвастлив до невозможности, занозист и любил выпить. Через пять лет родился Павлушка. Матрена надеялась, что Кирила образумится наконец, станет путем хозяйство вести – на некоторое время на него находили такие порывы. Даже лошаденку приобрели, и хоть худо, но жили своим домом. А вот дернула же нелегкая ехать сюда! Продали избушку, посадили ребят на телегу и поехали. Деньги за избушку разошлись мигом – бог весть куда.
По приезде в Прядеину Кирила продал лошаденку и вырученные деньги пропил. Куда деваться? Денег нет и жить негде. Пошли в работники к Игнату Кузнецову, поселились у него в малухе, хорошо хоть, что к этому времени ребята уж большенькими стали.
Да хозяин попался не только сам по себе скряга скрягой, но при случае не прочь был прихватить чужое. Был у него сын Федька, отпетый наглец и охальник. Что отец, что сын – одна порода-то – одинаково стремились разбогатеть, да чтоб поскорее. Двадцатилетний Федька с бычьей настойчивостью стал привязываться к новой работнице, даже замуж взять сулился.
Катьке шел восемнадцатый год, и хотя она раньше не слыла красавицей, но к этой поре выправилась. Ее серые ясные глаза смотрели из-под черных бровей весело и открыто. Темно-русая, почти черная коса опускалась ниже талии. Курносый носик не портил ее лица, а пухлые яркие губы и ямочки на щеках придавали ее лицу особую привлекательность. Девка она была веселая, никогда не унывала, что из бедности, хорошо пела и плясала.
Ей никогда еще не приходилось встречать таких нахальных парней, и она попросту боялась этого двадцатилетнего верзилу с его руками-граблями и наглыми зелеными глазами. От Федьки нигде не было спасу – ни на покосе, ни на Игнатовом подворье.
Когда уже невмоготу стало, она пожаловалась матери. Та поохала, повздыхала, намекнула было хозяину, но толку не вышло… Как-то, уж весной, дочь с плачем призналась матери, что беременна. Кирила, по обыкновению, напился. Учинил разгром в избе, отдубасил Матрену, выгнал из дому ни в чем не повинного Павлушку и исхлестал вожжами дочь. Пьяный родитель пошел к хозяину. Тот с помощью сына вышвырнул его из избы, как худого котенка.
Назавтра Кирила пошел к хозяину уже трезвым, но дальше порога его не пустили. Хуже того, Игнат выгнал работников из своей малухи, в которой они жили: «Идите куда хотите вместе со своей девкой-потаскухой!»
Кирила пригрозил пожаловаться старосте и потребовал платы за работу, пусть не за полный год. Игнат вынес полпуда муки, бросил ему под ноги, с тем и выгнал за ворота.
Пришлось мыкаться по чужим людям. Когда Афанасьева семья стала жить в доме, Афанасий пустил в землянку Кирилу с Матреной, которую теперь иначе как Кирилиха и называть перестали.
«На чужой роток не накинешь платок» – в народе не зря так говорят. Конечно, молва о Катькином позоре черной змеей поползла по деревне. Катька сначала хотела утопиться, но, видно, много было в ней здоровой жизненной силы. Ей хотелось всем своим существом жить, а иногда она даже не верила, что это все произошло именно с ней, а не с кем-то другим. И стоит только проснуться, все пройдет, как дурной сон…
Отец пропивал последние гроши; или буянил, или, до хруста сжав кулаки, плакал пьяными слезами. Теперь он стал работать поденно, да и то от случая к случаю. А «беспутную» Катьку никто на работу не нанимал, и она помогала матери прясть или ткать. Матрена выбивалась из сил, чтобы хоть как-то накормить семью.
Кумушки-сплетницы при встрече с ней и ахали-охали, и с виду вроде сочувствовали. Но в спину Матрене язвили:
– Яблоко от яблони далеко не падает – какова мать, такова и дочь!
– И не говори, кума! Ежели сама Матрена добра была бы, так с чего так Кирила-то ее что ни день лупцевал?
– Катька ихняя, говорят, хотела Федьке в жены навязаться, да Игнаха Кузнецов вовремя заметил да и вытурил их из малухи-то!
Но были и такие, которые Матренину дочку не осуждали, а наоборот – обвиняли Кузнецовых.
– Игнат и сам-то хорош гусь! В богатые метит, мол, честь – она по богатству воздается… Опять же сынок у него – первый прощелыга!
Некоторые пробовали по-доброму советовать Кузнецову-старшему:
– Ты бы, Игнат Петрович, женил сына на Катьке-то! Ведь куда ей теперь деваться? Отец неродной да пьяница еще… А ей ведь – ни дому, ни лому! Того и гляди до греха дойдет, руки на себя наложит Катька-то – вон как убивается, сердешная!
Кузнецов, брызгая слюной, шипел:
– Тоже мне, советчик выискался! Небось и без сопливых склизко… Мне лучше знать, на ком сына женить!
И вскоре действительно женил по своему усмотрению: невесту Федьке сосватали из зажиточной семьи. И приданое было хорошим. Но не из своей деревни, а из Кирги, там и обвенчались, дома устроили пышную свадьбу. Любил Игнат Кузнецов похвастаться да пыль в глаза пустить – дескать, вот мы какие!
Матрена за этот год состарилась, наверно, на целых десять лет. Когда-то густые, красивые волосы поредели, голова вся покрылась сединой. И раньше-то всегда смиренная и покорная, теперь Матрена и вовсе не поднимала головы, повязанной темным платком. Иногда она сквозь слезы корила дочь: «Чё нам теперь делать с тобой, Катерина, опозорила ты нас, не соблюла себя». Катька молчала, потупившись: что она могла сказать в оправдание девичьего греха? Разве что – головой в омут. Но дни шли, а в омут она не падала. Она будто погрузилась в какое-то забытье, как бы перестала понимать окружающее. Она как оцепенела, будто от сильного испуга. Когда ее бил пьяный отец, она вроде и боли-то не чувствовала… Только молча смотрела на истязателя, словно лошадь, которую со злобой хлещет кнутом пьяный возчик.
Когда Матрена давала ей кусок хлеба, она съедала, а не давала – жила и так. Сейчас ее не смогли бы узнать и бывшие подружки. Когда-то свежее, румяное лицо пошло коричневыми пятнами, глаза ввалились, и из них глядели испуг и пустота.
Прядеинские мальчишки с улицы, прыгая на одной ноге, дразнили ее, высунув языки: «Гляди, робя, соломенна вдова идет! Арбуз проглотила, ха-ха-ха!» Катька вроде бы и не слышала их улюлюканья, и сорванцы мало-помалу отставали.
…Подошел сенокос, стали наниматься поденно косить сено и пропалывать хлеба. Тут Кирила-косой вдруг надумал строить избушку. Дочь он не щадил нисколько, заставляя ее делать самую тяжелую работу. Они рубили лес. Как-то раз, сгибаясь под непосильной ношей, с отцом поднимали они бревно, у нее, как ножом, резануло поясницу, и боль отдалась вниз живота. Молча, без стона, она присела на землю. Кирила выругался, плюнул и тоже бросил бревно.
Весь вечер и всю ночь нестерпимая боль не отпускала ее ни на минуту. Но Катерина знала, что срок еще не вышел, она родит преждевременно. Безумными от дикой боли глазами оглядывала землянку, еле ворочая распухшим языком, шептала искусанными в кровь губами:
– Мама, пить!..
Матрена побежала к повитухе. Местная повитуха, толстая и рыхлая Прасковья Шихова, сослалась на какую-то неотложную работу и идти к больной отказалась. Когда заплаканная Матрена не чуя ног, плелась домой, она вдруг вспомнила старуху Евдониху, и ноги сами принесли ее к малухе, где жил дед Евдоким со своей бабкой Феофаньей. Матрена прямо с порога, едва успев поздороваться, с плачем попросила:
– Выручай, баушка. Последняя надежда на тебя!
– Вижу уж, с чем пришла-то… Катьке твоей, поди, худо… Чего ж ты, дурная, раньше-то не приходила? Погоди-ко, я сейчас…
Сухонькая и шустрая, как мышь, Феофанья сбегала в амбар, набрала там пучок каких-то трав и мигом завязала их в узелок. Когда они пришли, Катьке совсем было плохо.
– Вон до чего довели девку… Не знаю, сумею ли теперь помочь-то… Есть у тебя хоть отварна-то вода?
Роды были очень тяжелые. Часа через два Феофанья подала вовсю ревущей Матрене красный безжизненный комочек…
– Такой парнишка был хороший… да замучился, сердешный, – недоношенный ведь… Ладно, хоть мать-то отстояли!
Феофанья протянула Матрене пучок травы, что принесла с собой.
– На-ко вот травку, запарь ее, остуди да напои дочку-то, а потом укрой ее потеплее!
Уже взявшись за дверную скобу, повитуха напоследок подбодрила:
– Не горюй, Матрена! Молодая еще дочка, здоровая, так что все переборет и, бог даст, поправится скоро. Да еще не одного родит!
– Уж и не знаю, баушка, как тебя благодарить-то? Ведь платить у меня нечем…
– Еще чего выдумала, какая уж плата? Мне бог заплатит…
Как былинка поднимается после бури, так поднялась на ноги Катерина, стала помаленьку ходить, потом работать принялась. Молодое здоровое тело пересилило всякую хворь, и не по дням, а по часам Катька наливалась жизненным соком. Захотелось снова иметь подруг, ходить на игрища, петь и плясать, но бывшие подруги за это время ее ни разу не навестили. А когда с ними встретилась, стали сторониться, отводили взгляды и молчали.
Лучшая ее подруга Анка Спицина при встрече с ней вдруг заспешила домой, но когда Катька ее стала задерживать, призналась:
– Как бы моя мама не увидела нас вместе. Она строго запретила мне с тобой встречаться. А мне тебя, Катя, жаль, да ничего не поделаешь. Теперь ты – баба, не нашего круга…
И Катька пошла, к горлу подступил комок, из глаз полились слезы, и она долго и безудержно рыдала над своей судьбой. Теперь только она поняла всю тяжесть своего положения. Жизнь ее вконец испорчена, хотя и нет ребенка. Она навеки теперь проклята и покрыта позором, который будет ее сопровождать до могилы. Ей было жаль и свою пришибленную горем и состарившуюся раньше времени мать; и отца – пусть он пьяница; и брата, у которого такая непутевая сестра: из-за нее и он не сможет потом жениться на девушке из доброй семьи. А ей уже навсегда закрыта дорога с подружками водить хороводы. Придется быть в своей семье рабочей скотиной. Выслушивать вечные упреки матери да терпеть побои пьяного отца. Он теперь совсем сдурел. Раньше худо держал, а теперь вовсе житья не дает. Что делать, она не знала…
Время было горячее, можно бы наняться в пострадки[28], да в добрые семьи ее не брали: боялись, что она совратит с пути их дочерей и сыновей. А в худых семьях к ней непременно привязывался или хозяин, или его сын. Даже такие же работники, как она, в ее присутствии говорили всякие гадости.
Теперь, наученная горьким опытом, когда к ней кто лез да лапы распускать пробовал, она хватала что ни попадя – вилы, лопату или просто полено, и назойливые приставания прекратились. Она замкнулась в себе и теперь редко с кем разговаривала, даже с матерью, а тем более с отцом. Постепенно о ее позоре люди стали забывать, даже кумушки меньше сплетничать стали…
С грехом пополам поставили мало-мальскую избушку. Брат Павлушка подрастал, ему шел пятнадцатый год – скоро он будет полный работник. Вроде бы все потихоньку стало налаживаться.
Вдруг по зимнему первопутку из Харлово приехал сватать пожилой мужик, вдовец лет сорока, с рыжей козлиной бородой, красными глазами навыкат, курносый и конопатый. Назвался он Артемием.
Отцу загорелось скорее выпить штоф кумышки; он и внимания не обращал на дочь, ревевшую, как по покойнику, и валявшуюся у него в ногах:
– Тятенька, не губите, не отдавайте меня взамуж! Лучше я с вами буду жить, робить стану, сколько вы пожелаете, – он же старый и противный! Ох! Уж лучше в омут головой, чем взамуж за козла душного!
– Цыц, негодница, – орал отец, яростно грохая кулаком по столу, – ладно хоть этот взамуж берет! А кому ты боле нужна, с изъяном-то своим?! Тебе же, дурища, лучше – будешь теперь мужняя жена, хозяйка, а не кто-нибудь…
– Да у него ведь детей – полна изба!
– Эка невидаль! Вот и станешь водиться, небось не барыня-сударыня какая!
Матрена молчала – в последнее время она стала бояться и слова поперек сказать, тем более что по уговору Артемий согласился взять Катерину без приданого.
По деревне опять пошли гулять из избы в избу, с завалинки на завалинку такие разговоры досужих кумушек:
– Слыхали, Кирила-косой дочку свою непутевую за харловского вдовца Артемия сплавил? – говорила одна.
– Вот уж тот ей мозги-то вправит! – подхватывала другая. – Он, сказывают, мужик крутой, уж не одну бабу в гроб вогнал…
– А робят-то у него семеро, – тараторила третья, – и последний совсем еще маленький – баба у него после родов умерла, а робенчишко-то живет, сами знаете, на бедность да на горе они все выживают!
Матрена порой нет-нет да молча вздыхала или плакала втихомолку: жаль было дочь, пусть и непутевую… А Кирила-косой все так же ходил по деревне да искал, где бы выпить. К делу и не к делу хвастался: «У меня зять… вот мой зять!» То, что зять-то был старше тестя, Кирилу ни капельки не смущало, и он распускал слух, что зять его Артемий такой богатый, что вот-вот поможет завести лошадь и корову. Над ним смеялись и позаглаза, и в глаза: не так уж много верст от Прядеиной до Харлово, и все знали, что если и богат чем-то Артемий, так только голопузыми ребятишками…
По-прежнему у Кирилы ничего, кроме избушки, не было. Как-то начал он ограду городить, да напился и начатое так и бросил. Матрена по-прежнему нанималась в люди на поденную работу – где белье стирала, где полы мыла, где ткала; умела и могла одеяла стежить, а зимой нанималась прясть. Павлушка пошел в батраки «из хлеба и одежи». Один глава семейства ничегошеньки не делал, а все ходил по деревне в поисках выпивки да хвастал без удержу.
…Минуло пять лет как новгородские переселенцы приехали в зауральскую деревню Прядеину. Жили по-всякому, то есть кто как умел, хотел или уж как мог.
…Василий Елпанов вышел на крыльцо своего дома. На востоке занималась заря, и скоро золотистая полоса распахнулась по всему горизонту. Благодать-то какая! Птичьи голоса взахлеб славят начало нового дня и словно поют хвалебный гимн солнцу. Василий наскоро обулся в бродни, взял под сараем узду и недоуздок и пошел в поле посмотреть пасущихся лошадей. Вскоре он вернулся, ведя лошадей в поводу.
Лошадей у Елпанова было теперь три. Каурко стал уже старым, но на смену ему рос молодой жеребчик, сын Звездочки. Это был красивый и рослый конь, гнедой, как мать, и с такой же звездинкой во лбу, как у нее. Гнедку было уже три года, и его помаленьку приучали к упряжке. Дойных коров на подворье стало две, кроме того были бычок-годовик и два нынешних теленка. В пригоне толкалось и блеяло до десятка овец, по двору важно расхаживали гуси, суматошно мельтешили курицы. Были в елпановском хозяйстве и свинья с поросятами, а в конуре – собака Лыско. Кажется, все было так добротно устроено и жизнь шла так размеренно и спокойно, что невозможно представить, что чем-то или кем-то можно нарушить ее плавное повседневное течение.
Страшная зараза – сибирка
Беда, как часто и бывает, подкралась внезапно, нежданно-негаданно. Прядеинский мужик Антон Безродный ехал с покоса и увидал с телеги, что в колке возле дороги чернеет что-то непонятное. Он передал вожжи сыну Анисиму и пошел посмотреть, что же там такое.
В колке лежал матерый лось-сохатый. Видимо, раненный охотниками лось бился в предсмертных судорогах, выбив скошенными острыми копытами глубокие ямы в земле; на морде клочьями повисла пена. Антон крикнул сына, тот подбежал, и они косой перерезали хрипевшему зверю горло.
– Давай-ко, Анисим, сымем с него шкуру-то, вон какая животина! Шкура у него больше, чем у любой коровы, и теплая-теплая, сохатому в ней и самый лютый мороз-трескун не страшен!
– Тятя! А где мы тут его подвесим, этакое чудо, ведь с лежачего шкуру-то не сымешь?
– Ну, придется домой везти!
Вернулись за телегой и подъехали к лосиной туше. Хорошо, что помогли шедшие с покоса бабы, иначе вдвоем они нипочем не справились бы завалить здоровенного лося на телегу. Дома под сараем с лося быстро сняли шкуру, повесили ее сушить на переклад, а мясо Антон отвез в лес и там бросил.
И все удивлялся: вот ведь повезло – почти у самой деревни этакую тушу, да еще с доброй шкурой, нашел! Никогда сохатые в это время к деревне не шли, а этот пришел, даже удивительно, что это с ним подеялось?
Но удивляться-ужасаться всем пришлось потом… Через неделю у Антона вдруг заболела лошадь, не ест и не пьет. Антон забеспокоился: с чего это Карюха захворала? Он еще накануне заметил, что она стоит какая-то понурая. Вечером Карюха, судорожно поводя боками и трудно дыша, вдруг пошатнулась и легла наземь. Антон послал в деревню сноху Наталью, наказав ей бежать, бежать так шибко, как только может, и упросить прийти на покос дедку Евдокима.
– Тятя, а если дедки дома нет, на своем покосе он?
Антон опешил и совсем растерялся. Он бестолково бегал с трясущимися руками, не зная, что делать.
– Все равно, Наталья, беги в деревню, зови хоть кого-нибудь!
Сноха убежала, а Безродный, подойдя к лошади ближе, сразу понял, что Карюха теперь даже в поводу, а не то что в запряжке, не дойдет до двора. Она лежала на траве, и у нее так же, как у давешнего лося, начались судороги. Антона молнией поразила догадка, да такая страшная, что он сразу весь похолодел от ужаса: неужто неведомая зараза – от того сохатого?! Антон раньше слыхал стороной, что у домашних животных иной раз случается падеж… «Вот беда-то, что же я наделал?!» – билась в голове мысль.
В это время сноха Наталья, бабенка молодая и на ногу быстрая, успела обежать в деревне все дворы, но дома никого, кроме немощных стариков да ребятишек-ползунков, не было: возвращаться с покоса время еще не наступило.
Забежала и к себе домой, а дома – еще одна беда. Пастух прислал подпаска сказать, что их корова в стаде вдруг захворала и теперь подняться не может, лежит в леске у крутого яра. Тут как раз дедко Евдоким с бабкой Феофаньей с покоса возвращаются. Наталья – вихрем к ним:
– Ой, дедко, выручай, бога ради – у нас со скотиной беда!
– Погоди, Наташка, ты толком скажи, что у вас стряслось-то?
– Карюха на покосе заболела, не ест и не пьет ничего, и одна корова на пастбище – тоже!
– Осподи! – перекрестился Евдоким. – Да никак поветря[29]… Тогда на лошади не поедем, а пешком до покоса доберемся! Пошли, Наташка!
Когда Антонова сноха с дедком Евдокимом пришли на покос, Карюха уже издохла. Жена Антона в голос ревела, а Антон все повторял бестолково: «Да как же это… ведь покос же!»
Дедко Евдоким осмотрел лежавшую Карюху и схватился за седую бороду:
– Господи Исусе! Так я и знал! Поветря это… Теперь беда всему скоту… И откуда напасть-то навалилась – ведь это же сибирка[30]!
– Что, неужто и шкуру с кобылы снять нельзя? – потерянно спросил Антон.
– Не о шкуре сейчас надо думать-то, – махнул рукой Евдоким, – а о том, как бы весь скот в деревне от сибирки, хоть нерабочих лошадей да дойное стадо уберечь! Тушу лошадиную керосином облейте и на этом же месте сразу сожгите; всю сбрую над огнем надо подержать, да и одежу вашу – тоже, а самим вам в бане вымыться с крепким щелоком. В пригон пока скотину загонять нельзя ни в коем разе! Конюшню-то я вам горючей серой окурю. Из Сибири такая поветря идет, потому и зовут ее сибирка. Беда неминучая к нам пришла…
Дедко Евдоким вырастил двоих сыновей и трех дочерей. Две дочери жили в Прядеиной, одна вышла замуж в Харлово. Старшему сыну построили дом и от семьи отделили, младший жил с детьми в своем дому. Евдоким славился на всю округу как хороший лекарь и коновал. Позаглаза некоторые его называли колдуном и чертознаем, многие даже уверяли, что с нечистой силой дедко Евдоким связан и что он может в любой миг обернуться свиньей или собакой… При встрече в глаза все относились к нему уважительно, с почтением. Лечил он и людей, и скот, так что не было ни одного двора, хозяин которого не обращался бы к дедке Евдокиму. Лечил от поветри, от змеиных укусов, да много еще от чего, и всегда и всем давал дельные советы. Для него не было разницы, кто к нему пришел за помощью – бедный или богатый. С бабкой Феофаньей они знали множество целебных трав и кореньев, приносили их из лесу или с поля охапками, привозили целыми возами, а потом сушили их под сараем, на чердаке или на сеновале. К ним в Прядеину приезжали из других деревень, их знали во всей округе. Они никогда ни с кого не просили платы, но люди сами им давали. Бабка Феофанья, Евдокимова старуха, была лекаркой и ворожеей, а кроме того – опытной повитухой. И если ей где-нибудь в богатом доме давали за труды хороший подарок, она тут же отдавала его какой-нибудь бедной многодетной женщине или вдове.
Были Евдоким и Феофанья из каторжан-поселенцев, но поселились в деревне так давно, что даже старожилы-прядеинцы не знали, когда это и было.
Весть о сибирке разнеслась мгновенно. Старостой в тот год выбрали Никиту Шукшина. Никита прямо со своего покоса, даже не заглянув домой, пошел к Безродным.
У Антона была полна ограда народу, слышались крики и крепкая брань. Некоторые мужики уже прямо с кулаками подступали к Антону:
– Ты что это наделал, сукин сын? Нешто по миру нас хочешь пустить?!
– Окститесь, мужики, никакого худа я никому не хотел и не хочу! – растерянно уговаривал их перепуганный Антон.
– Да ведь соседи-то твои видели, как вы с сыном привезли домой тушу сохатого и под сараем ее оснимывали! Ты лучше не виляй, Безродный, как лиса хвостом, ты гольную правду нам скажи! Небось подох твой сохатый где-нибудь в лесу, а ты с сынком со своим этакую пропастину[31] – на телегу, да домой и привез! Ты на дармовую шкуру польстился! А нам всем што теперь – скотины да лошадей из-за вас лишаться?!
Антон с виноватым и растерянным видом, ища у кого-нибудь защиты и сочувствия, озираясь, как затравленный зверь, колотил себя кулаком в грудь и в сотый раз крестился и божился, что лось был живой, только запутался рогами между двух сросшихся берез и не мог освободиться, потому и пришлось прирезать его косой.
Мужики его словам не верили. Кто-то вилами подцепил и стащил с переклада лосиную шкуру, и так, на вилах, ее понесли в ров – сжигать.
Чем бы все кончилось – неизвестно, но тут в ограду вошел запыхавшийся Никита Шукшин. Прядеинскому старосте стоило немалых сил утихомирить вконец разъяренных мужиков.
– Криком да руганью горю не поможешь! – потеряв наконец терпение и перекрикивая самых горластых мужиков, закричал Никита. – Безродный, может, и знать не знал, от чего сибирка-то ко скоту липнет!
– А-а-а, не знал, говоришь? – быками взревели мужики. – Как это так – не знал?!
Все готовы были с кулаками наброситься на Безродного. Староста Шукшин, приметив в суматохе старого Евдокима, чуть ли не взмолился:
– Да скажи им хоть ты, дедко! Ты ведь не зря в Сибири бывал и много на свете всякого повидал!
Дедко Евдоким встал на крыльцо, и толпа на минуту смолкла, приготовясь слушать, что скажет «чертознай».
– Остыньте-ко, крещеные! Сибирка – это такая скрытная зараза, что, покуда она себя не окажет, ее и не распознать… Лучше бы вы, ни минуты не теряя, собирались гнать весь скот как можно дальше в лес, строить там балаганы да в них и жить пока. Бог милостив – может, минует поветря, так тогда и по домам возвернетесь…
И мужики с ругательствами и угрозами пошли по своим избам.
Когда подворье опустело, Евдоким подошел к Антону и, оглядевшись по сторонам, вполголоса сказал ему:
– Ты, малый, как будут опять мужики с кулаками наскакивать, слушай да помалкивай, и упаси тебя боже возражать – целее будешь… Не то ведь до смертоубийства дойдет дело-то!
Кому, как не Евдокиму, было знать, что виноват, конечно, Безродный с этой клятой лосиной шкурой! Но сказать об этом мужикам – значит, Антоновых детей осиротить…
В Прядеиной падеж скота и лошадей был страшенный. В стаде, где ходили коровы Безродного, за неделю передохли все до единой животины. На подворьях остались лишь телята-корытники, которых не пускали в стадо.
В Заречье, по ту сторону Кирги, сибирка вроде бы меньше злодействовала, но тамошние поселяне, как только узнали про падеж в Каторжанской слободке, чуть ли не всем миром погнали скотину в окрестные леса.
Стояла сенокосная пора, и люди жили в покосных балаганах, ночевали под стогами, косили и гребли сено, метали копны. Неподалеку от покоса пасли скот.
Василий косил вдвоем с кумом Афанасием: Афанасьева жена осталась в деревне – присматривать за домами своим и Василия да поливать в огородах и стряпать на обе семьи хлеб; Пелагея с ребятами жила в лесу с покосниками. За хлебом в деревню мужики ездили раз в неделю; лошадь на всякий случай оставляли в лесу возле околицы. Разузнав деревенские новости, возвращались опять к покосам и скотине.
Василий с Афанасием и Иванком срубили там избу на берегу какой-то веселой речушки, где была свежая и холодная ключевая вода, такая вкусная, какой Василий никогда еще не пил. Вокруг избушки рос осинник – не зря речку назвали Осиновкой.
– Нам бы, кум, – говорил Елпанов, – лет на пять пораньше про это место-то прознать, уж больно оно красивое да хорошее!
– Дак мы и на другой год сюда косить приедем. А что – сейчас жилье тут у нас есть, вон какая изба получилась, хоть в Прядеину ее перевози! А ведь сперва хотели просто покосную времянку рубить… Вот что значит три-то мужика! Да Петька четвертым помогал, тоже уж большой становится, десятый год пошел…
– А сколько отсюда верст до Прядеиной?
– Да почитай верст двенадцать, а то и больше будет.
– Ого, далеконько мы забрались, нипочем бы здесь не пришлось бывать, кабы не поветря эта проклятая…
– Летом-то сюда худо проехать: по бездорожью-то чуть ли не день целый петлять придется, а вот зимой, по мелкому снегу, как болота морозом скует, запросто можно – прямиком-то не так уж и далеко.
Вечерами кумовья подолгу жгли костры – от гнуса и на всякий случай от лесного зверья.
– Тут, видать, медведи есть, не то что волки да рыси! – говорил Василий.
– Вестимо, и косолапых полно, да теперь лето, медведи на ягодниках кормятся, черемушник обламывают да муравейники рушат. Бывает, правда, и коровенку заплутавшую задерут…
– Что, кум, сына-то женить нынче осенью будешь? – помолчав немного, спросил Василий.
– И не подумаю.
– А что так? Я слышал, что у него невеста есть.
– Нам эту невесту не надо, с каторжанами родниться не собираюсь. С кем только, прости господи, связался! Лучше, говорит, на свете нет моей Рипсимии!.. Поглядеть-то не на что. Сама как жердь, ноги как палки, а уж на язык остра, не приведи бог. Такой палец в рот не клади, мигом откусит. Вся в своего дедку-разбойника.
– Кум, ведь и новгородские тоже всякие есть. Вот, к примеру, Кирила-косой. Ты бы с ним породнился? Взял бы за Иванка Катьку, к примеру, не будь она порченая?
– Ты что, Василий, насмехаться надо мной задумал?! Какая бы Катька была жена Иванку, вся их порода из строку не выходит. Да у нее и станушки-то даже нет, не то что приданого.
– А тебе что, кум, приданое или человек нужен?
– И то и другое! К готовой-то кучке пригребать лучше. Вот ты, к примеру, Василий, сам тоже старался взять жену с приданым, и с лошадью, и с коровой. Девять лет в семье прожили, а больше-то ничего и не нажили, только у вас и было, что Пелагеин Каурко да ее же корова. Еще бы жил там хоть десять-двадцать лет, ничего бы не нажил.
Василий в душе обиделся на кума, но виду не подал. Кум говорил правду. На родине им бы не выбиться из бедности. А здесь жить было можно…
С каждым днем покос уходил от избушки и загона. Теперь скот пасла Пелагея с ребятами, а мужики возвращались вечером. На костре Пелагея готовила еду, благо молока было вдоволь: она баловала молоком телят и даже сумела поднакопить масла, которое от жары держала в яме под полом избушки.
Сена в тот год накосили и сметали в стога немало. Близилась осень, и перепугавшая в округе всех – и богатых, и бедных хозяев – страшная непрошеная гостья – сибирка начала, по слухам, сходить на нет, а в пору листопадов исчезла вовсе, будто ее и не было.
…С тех пор немало прошло лет, много утекло воды в Кирге. Вдоль берега реки вместо улочек-односторонков вытянулись улицы с добротными домами. Жители Каторжанской слободки стали родниться с теми, кто жил в Заречье.
И среди поселенцев, и среди старожилов Василий Елпанов слыл солидным хозяином: имел семь рабочих лошадей, до десятка голов крупного рогатого скота, много мелкой скотины и разной птицы.
Каждой весной Василий поднимал добрый кусок целины – плодородной земли Зауралья, с каждым годом работал еще упорнее, чем прежде. Постепенно увеличивая пахоту, он, даже без удобрения земли, получал с каждой новины[32] хороший урожай – такие на Новгородчине никому и присниться не могли. В страдную пору бывший работник уже сам звал на подворье работников для себя, для своего крепнущего хозяйства.
Кузница
В самый разгар страды вдруг скоропостижно умер прядеинский кузнец Агап, мужик лет под пятьдесят, но еще в полной силе.
Утром, собираясь с работником в поле, Агап наскоро перекусил. А потом, уже ближе к полудню, вдруг занемог. Страшная нестерпимая боль пронзила живот, как кинжалом. Руки и ноги ослабли, холодный пот выступил на лице. Агап, превозмогая недуг, доковылял до телеги, попил квасу и прилег, ожидая, что боль утихнет, но становилось все хуже и хуже.
– Что-то со мной подеялось, Олимпий, придется коня запрягать. Вези меня домой, один я не доеду.
Олимпий – молодой парень лет двадцати пяти, одинокий сирота, из крайней бедности нанялся к Агапу этой весной в работники. Не говоря ни слова, Олимпий повез хозяина домой.
– Да ты не гони шибко, внутре-то у меня ровно что отрывается. Ой! Однако конец мне пришел.
Приехали домой. Сбегали за дедком Евдокимом.
– Ну что с тобой, Агап? Экой ты крепкий да здоровый был. Бог даст, поправишься. Где у тебя болит-то? Вот тут болит? А здесь?
Он дал Агапу выпить отвар какой-то травы. Пошептал, дал святой воды, но все было бесполезно. Вышел из горницы, кивнул головой Агаповой бабе, и она вышла за ним в сени.
– Марина, Агап долго не проживет, пошли в Киргу за попом, исповедовать его надо и соборовать.
Агап метался на постели, стонал от нестерпимой боли, просил пить.
Весть о болезни кузнеца разнеслась по всей деревне. При встрече бабы и старухи говорили одна другой:
– Слышала, кума! Агап захворал, говорят – шибко худой, наверно, умрет. Работник за попом в Киргу поехал. По всем приметам, испорчен, хомут надет на его.
– А дедко Евдоким что? Он ведь хомуты снимает.
– Звали, ничего не помогает, лечил уже.
– Ну тогда, наверно, не хомут. Ни к чему он молодого работника нанял. Марина баба молодая, поди, с работником связалась да отравили Агапа-то.
– А кто его знает, может, и отравила. Ладно, кума, уж не бери греха на душу, не говори никому, может, он вовсе не отравлен, а сам захворал.
К утру Агап стал бредить и умер. Попа привезли поздно. Хоронить без покаяния поп не разрешил. Тут же поехали в волость за становым. Съездили в Белослудскую, привезли станового, навели следствие, допросили жену и работника, и Агапа похоронили…
Агап Махотин с женой Мариной были из каторжан. Пришли в деревню только с душой да телом. Он уже тогда был в годах, с рыжей окладистой бородой, высокий, крепкого сложения. Марина была намного моложе его, чернявая, невзрачная, бойкая и злая на язык. За шустрость и малый рост деревенские остряки прозвали ее Ящеркой.
Пожили они с год в работниках и стали строиться. Агап был человек мастеровой и трудолюбивый, лучшего кузнеца, чем он, во всей округе не было. Марина мастерски варила самогон, кумышку и пиво. Всегда имела вино в запасе и поторговывала им еще при муже. А после смерти Агапа стала торговать хмельными напитками в открытую.
Через полгода Ящерка обвенчалась с Олимпием и не только не уронила хозяйство, а наоборот, пошла в гору. Во дворе поставила избу с отдельным ходом, и день и ночь пошла винная торговля. Много раз ее уличали в плутовстве, что она продавала кумышку за первач, но ей как с гуся вода. Баба она была жадная и хитрая, за словом в карман не лезла, и ей все сходило с рук.
Многих деревенских мужиков споила Агапиха. На нее злились женщины, мужья которых пропивали все до нитки в ее кабаке. Грозили даже красным петухом. Но Агапиха была не из трусливых. Были даже такие, которые специально ездили в волость и доносили на нее уряднику или становому и добивались, что из волости кто-нибудь приезжал, но все было напрасно.
Когда в деревню из волости приезжал урядник, Агапиха приглашала его в гости, угощала вкусными блюдами, подносила рюмочку, при этом клялась-божилась, что рюмочка у нее всего одна, и то плохонькой кумышки, которая осталась еще от праздника и вот уже полгода как стоит и вся выдохлась. За первой рюмочкой непременно следовала вторая, и так до тех пор, пока пьяный урядник или оставался у Агапихи ночевать, или с песнями ехал обратно в волость…
После смерти Агапа кузница долго стояла заколоченной. Елпанов по сходной цене купил у его вдовы кузнечный инструмент и построил свою кузницу. Он и раньше знал кузнечное ремесло – немного, правда (еще на Новгородчине с кумом Афанасием они держали на паях какую-никакую, но кузницу). Теперь же, когда деревня осталась без кузнеца, Василий расчетливо прикинул, что кузнечное дело – не без выгоды.
– Не боги же, на самом деле, горшки-то обжигают, – сказал он Пелагее, – начну я, пожалуй, кузнечить. Если чего пока и не умею, так невелика беда – небось научусь.
Сказано – сделано. Спустя короткое время он орудовал в кузнице, как заправский кузнец. Ковал лошадей, отягивал железными ободьями тележные колеса, наваривал косы, нарезал серпы. К нему стали уже приходить заказчики, сначала изредка, а потом, прознав, что новоявленный кузнец – не промах, так валом повалили, особенно перед страдой, а то и в саму страду.
Дела в кузнице пошли так хорошо, что Василий был вынужден нанять молодого парня Алешку. Тот оказался толковым и трудолюбивым, быстро постиг кузнечное дело.
Свадьба на зимний мясоед
Жизнь продолжалась в трудах и заботах, как всегда – скупая на радости и щедрая на беды. Но была у Василия Елпанова всем радостям радость – отцовская. Только-только заневестилась дочка Настя, как удача подвалила: приехали сваты из Кирги – сватать ее за сына удачливого и богатого прасола[33] Коршунова. Коршунов торговые дела свои вел с большим размахом, а знакомства сводил придирчиво, с немалым выбором. И то сказать: в округе всяк за честь почитал знать Иллариона Алексеевича Коршунова, который давно уже стал своим человеком даже на Ирбитской ярмарке, а коршуновские подручные гоняли гурты скота и косяки лошадей, вели хлебные обозы в Тагил, Надеждинск и другие города, где стояли демидовские заводы. С ежегодных ярмарок и торговых сделок Иллариону Алексеевичу доставался большой доход. Коршуновский дом в Ирбитской слободе – полная чаша, хозяйство – большущее, работников – со счета сбиться можно.
Когда на Николу зимнего к дому Василия Елпанова подкатила пара рысаков, запряженных в нарядную кошеву[34], прядеинцы увидели, как из нее первой вылезла женщина в оренбургской шали – сваха, и степенно вышел сват – староста Кирги.
Не успели сваты войти в дом, как из конца в конец деревни полетела весть, потом пошли разговоры:
– К Елпановым сваты приехали! Да кошева какая знатная!
– Ну еще бы! Богатство к богатству тянется… Проезжий из Ирбитской слободы намедни говорил, мол, скоро в вашу деревню от самого Коршунова сваты пожалуют…
– Вестимо, Настасье-то Елпановой богатого жениха сватать будут!
– Да уж понятно, что не из голытьбы какой…
Сватовство, как узнали потом прядеинцы, оказалось удачным.
Когда приехавшие сказали все, что положено по обряду сватовства, сели за стол – «пропивать невесту». Свадьбу назначили на зимний мясоед, а сыграть ее решили в доме Иллариона Алексеевича Коршунова…
Насте завидовали многие деревенские девушки, ведь теперь она будет богата. Но чем ближе подходил срок свадьбы, тем задумчивее становилась Настя. Она сомневалась в правильности своего выбора, ведь она любила другого – бедного деревенского парня Алешку. Как ни старалась Настя внушить себе любовь к Платону, любовь не приходила. Если бы теперь она призналась родителям, кого любит на самом деле, их бы хватил удар… А может, поняли бы ее сердцем? Не стали бы неволить. Но Настасья ничего не сказала родителям. Она вообще никогда ни с кем не делилась сердечными тайнами.
Только один Петрушка все знал, и когда они были одни, выпалил:
– Почему ты согласилась замуж за Платона, ты же Алешку любишь?
Но Настя так на него посмотрела, что он притих.
Она прекрасно понимала, что у нее нет будущего с тем, кого она любила.
Алешка жил в бедной семье. Отец его был ленив, любил почесать языком и все свои сбережения пропивал в заведении Агапихи. Своего дома у них не было, и жили они в чужой избушке.
У Алешки было трудное детство: с малолетства работал за хлеб, чтобы не умереть с голоду. Выросший в чужих людях на пинках и зуботычинах, был застенчив, трудолюбив и старателен. Трудная жизнь и тяжелая работа не смогли одолеть этого крепкого парня. Он раздался в плечах, мускулы налились силой. В кузне у Василия играючи поднимал пудовый молот и бил им по наковальне уверенно и быстро.
Всегда тихий и уравновешенный, в летние праздники Алешка превращался в совсем другого человека. Еще с утра отпрашивался у хозяина. Вымытый в бане, в чистой доброй рубахе, он шел на состязания борцов, которые обычно проводились в Пасхальную неделю, Радуницу или Троицу.
Боролся он мастерски, бывало так, что уходил с круга никем не побежденный, а если кто его побеждал, то он просил, чтобы тот еще с ним поборолся, стараясь перенять все его приемы.
Любил Алешка и любительские кулачные бои. Тут уж ему не было равных во всей деревне. Он наносил такие сокрушительные удары противнику, что многие мужики побаивались его кулаков. Но драчлив он не был, как некоторые. Он всегда уходил, где начиналась драка, или разбрасывал в разные стороны дерущихся парней, как котят.
Многие девки в деревне на него заглядывались. Но щеголять ему было нечем – одежонка худая. Да и времени свободного мало для гульбы. Всё в людях на чужой работе.
Как сейчас помнит Настя тот чудесный вечер, когда Алеша остановил ее у одинокой березки, которая росла невдалеке от дома, и прошептал:
– Жить без тебя, Настенька, не могу, белый свет не мил, выходи за меня замуж.
– И давно это ты придумал, Алексей Иванович? – опешила Настя.
– Давно, моя касаточка. Давно тебя люблю. Все твоему батьке угодить хочу в работе, чтобы он видел, что я не пустяковый человек, да вот поймет ли он меня?
– Алеша, а где же мы с тобой жить-то будем?
– Как это где, что я, этими руками дом не построю? – И он поднял перед собой тяжелые, как гири, кулаки. – Да я бы весь свет перевернул, день и ночь стал работать! Настюша, ради бога, одно только слово!
– А куда же ты семью денешь?
– Что семья? Семья не моя, отец после нашей свадьбы будет надо мной не властен. Все хорошо будет, Ася, вот увидишь. На руках всю жизнь носить буду. – И он, как перышко, подхватил Настю и стал с нею кружиться.
Но тут вдруг, как из-под земли, вырос Петька, и раздосадованная Настя убежала в дом, сердясь на Алешку, на себя и на Петьку.
Настя старалась забыть этот разговор. «На что он мне сдался, нищий, из батраков ему не выбраться вовек, а если еще пить будет, как его отец, тогда что? – спрашивала она себя. – По миру с сумой пойдем», – отвечала сама себе, но сердце подсказывало иное.
Чтобы утвердиться в своем мнении, она вспоминала, как они приехали сюда. С каким нечеловеческим упорством поднимали хозяйство. И теперь, когда они уже у цели, отец выбран старостой, все перед ним снимают шапки, кланяются и называют Василием Ивановичем, вдруг его единственная дочь сделает такую глупость, выйдет замуж за батрака. Что тогда скажут люди? Нет, этому не быть никогда!
И она не стала встречаться с Алешкой, стала его избегать. Но из сердца первую любовь вытравить невозможно.
Короткими летними ночами, когда заря сходится с зарей, снился в тревожных девичьих снах такой красивый, любимый, желанный, и Настя весь день ходила вся сама не своя, задумчивая, поникшая, с опущенной головой. И весь день работа валилась из рук. На расспросы подруг и матери ничего не отвечала. Иногда, лежа в постели, до утра не сомкнув глаз, тихо, беззвучно плакала.
И неизвестно, чем бы это все кончилось, если бы не приехали сваты. Коршунову она никак не могла отказать. «Стерпится – слюбится, – говорила она про себя, – а в нищете да в бедности самая большая любовь завянет».
Как-то перед самой свадьбой Настя вечером бежала от подружки. Вдруг перед ней неожиданно появился Алешка. Настя хотела его обойти, но он преградил ей дорогу.
– Настенька, милая! Родная! Откажись от этого бычника. Поедем сейчас же со мной в Ирбитскую слободу, есть у меня там знакомые, устроимся как-нибудь, все будет хорошо, вот увидишь. Ведь ты любишь меня, знаю. Не ходи за богатство, не будет счастья, каяться будешь, поверь мне. Поедем со мной, не ходи домой-то, бог с ним, с приданым, не надо, свое наживем, – со страстью выпалил Алешка, обнял Настю и прильнул жаркими губами к ее щеке. – Милая, родная, как я по тебе страдаю, поедем со мной, прошу тебя!
У Насти на какое-то мгновение закружилась голова, кровь прилила к щекам, но она тут же опомнилась, рассудок взял верх, она оттолкнула Алешку и с красным от стыда и обиды лицом побежала домой…
Вот и свадьба. Для Насти она прошла, как во сне. Она не противилась и не радовалась. Была бледна, без кровинки в лице, с крепко сжатыми губами, беспрекословно подчинялась, когда ее подружки одевали к венцу. Платье Платон купил самое лучшее, в Ирбитской слободе, белое, из лучшего шелка, она еще не видела такого платья ни у одной невесты.
В последнее время она похудела, глаза ввалились, но в свадебном наряде была хороша. В ней всё еще боролись два чувства. Иногда она каялась, проклинала себя в душе за свою нерешительность. Наверняка другая, более решительная, девушка уехала бы в тот вечер с любимым, и был бы теперь с ней Алешка, которого она полюбила давно, самой своей сильной первой любовью, ну почему она не поехала с ним?
«Что мне делать? – спрашивала себя Настя. – Я сама оттолкнула свое счастье. Что я наделала, зачем согласилась выйти за Платона. Теперь уж ничего не поделаешь, все кончено! Будь что будет, лишь бы скорее». Вывело ее из задумчивости то, что на нее надели шаль и шубу, посадили в кошеву, и свадебный поезд тронулся. Застоявшиеся на морозе лошади побежали ходко. До Кирги дорога неближняя. Что ни передумаешь за такую дальнюю дорогу…
В церкви была духота, горели свечи, пахло ладаном, и Настя была как в полусне, от духоты у нее кружилась голова, она очнулась только тогда, когда священник обратился к ней со словами: «По своей ли воле выходишь взамуж, раба божия Анастасия?»
Этот вопрос застал Настю врасплох, и она еле слышно прошептала: «По своей».
Священник скорее догадался, чем расслышал ее ответ, и венчание продолжилось; если бы спросить позднее, что еще она помнит, она вряд ли бы ответила. Ею овладела смутная тревога, иногда казалось, что вот сейчас ворвется Алешка, растолкает толпу и подойдет к ней. Она страстно хотела этого, но в то же время боялась.
Обряд венчания кончился, и Настя в душе успокоилась, что теперь уже все кончено, больше никаких сомнений не должно быть, она на веки теперь жена Платона Коршунова, любит его или нет, ее путь теперь с ним до самой могилы. Когда она под руку с Платоном выходила из церкви, она скорее чувствовала, чем видела, что Алешка тут…
Большой просторный дом Коршуновых был полон народу. И во дворе, и у отворенных широких тесовых ворот – везде толпился народ. В воротах новобрачных щедро осыпали пшеницей. Полновесные зерна больно ударяли по лицу. Во дворе забрасывали хмелем, а в сенях – медными и серебряными монетами.
В горнице гостей и новобрачных ждал огромный стол, заставленный множеством дорогих вин, холодных и горячих закусок. Стряпки с ног сбивались, подавая все новые блюда.
Когда в горнице собрались все родственники жениха и невесты, тысяцкий[35], посаженный отец, дружки, подружки и большак[36], в горницу зашли родители Платона.
Настасья только сейчас по-настоящему разглядела мать Платона. Когда родители благословляли их к венцу, она и не заметила, что ее будущая свекровь так больна. Теперь Настасье она показалась совсем немощной, больной и старой. Ее болезненное лицо отливало одутловатой желтизной. Ходила она, еле-еле передвигая ноги, и страдала одышкой. От того ли, что свекровь так больна, или от чего другого, у Настасьи вконец испортилось настроение. Она с утра ничего не ела, и сейчас от запахов блюд и от всего пережитого за эти дни у нее закружилась голова. Когда сели за стол и стали поздравлять новобрачных, Настя еще крепилась, но когда гости захмелели и начали петь величальную в честь жениха и невесты, слезы, как горох, потекли по ее лицу, капали на грудь, на дорогое подвенечное платье, и она с трудом сдерживала в себе судорожное рыдание. Собрала всю свою волю, чтобы не зареветь за столом, как ревут в деревнях бабы по близкому покойнику. На слезы невесты гости не обратили внимания, потому что невесте за столом полагалось поплакать, даже по этому поводу в народе была поговорка: «Не поплачешь за столом, так поплачешь за столбом». И все сочли это как должное.
Платон за столом слегка обнял Настю за талию, взял в свою горячую ладонь холодную, как лед, Настину руку и тихо шепнул на ухо: «Ася, не надо так плакать, люди подумают, что тебя насильно за меня отдали».
– Вот, Асенька, выпей водички и успокойся, плакать не надо, все будет хорошо, никто тебя в этом доме не обидит, – подбежала к невесте сваха и поднесла ей стакан с водой, – ты сейчас жена Платона, забудь все прошлое, свой дом и семью. Сейчас этот твой дом и эта твоя семья, а Платон тебе законный муж.
Голос свахи журчал, как ручеек, и Насте сразу стало веселее на душе.
А тут уж была гармошка, и веселье шло полным ходом. Во время тостов уже в сотый раз кричали «Горько!» и уже в сотый раз целовались жених и невеста. К стенам сдвинули столы, молодые мужики, бабы пошли плясать со свистом, с прибаутками, с песнями, а следом и старики со старухами не удержались.
Просторный коршуновский дом никак не мог вместить всех желающих посмотреть невесту. Народ был и на печи, и на полатях, и на голбце, и в сенях, и во дворе. До самых ворот огромный двор был заставлен санями, повозками, кошевами.
До глубокой ночи длилось веселье. Вино лилось рекой. Всевозможные пироги и закуски несли и несли на столы. Вот уже в деревне пропели вторые петухи, а коршуновский дом все содрогался от пляски и песен. Наконец мало-помалу веселье стало стихать…
Что даст завтрашний день? Если невеста была порядочной девушкой, то сваха объявит это гостям и начнется самое веселое торжественное время свадьбы, но если надежды новобрачного не оправдались, то бывало и такое, что муж мог при гостях опозорить свою жену.
Настя слышала, когда была еще подростком, что у одной новобрачной сорвали с головы цветы и вуаль, посадили на собаку и пустили по улице. А молодой муж побил ее при гостях, и она, не выдержав позора, бросилась в колодец.
Вот прошла и эта первая ночь, вернее, остаток ночи, молодые еще не сомкнули глаз, а крестная уже пришла будить. Все было хорошо. Собрались гости. Начались поздравления. Стали бить горшки. Настасье подали веник, завернутый ребенком. В дом натаскали соломы, заставили мести пол. Гости принялись бросать на пол деньги и подарки.
После шумного застолья поехали в гости к Настиным родителям, как того требовал обычай. Лошади были готовы, и свадьба большим веселым караваном тронулась в путь. Настя успокоилась, и теперь уже Платон не казался таким чужим и далеким…
Отшумел, отгремел зимний мясоед, и сразу наступила тишина, елпановский дом будто осиротел без любимой дочери, Настеньки. Петрушка, и тот ходил теперь, как потерянный, не с кем было ему озорничать, рассмешить в самый неподходящий момент, подшутить или что-нибудь вытворить. Не стало слышно в доме веселого смеха Настеньки и ее подружек.
– Далеко наша Настенька, не сбегаешь, не попроведаешь, – вздыхая, жаловалась Василию Пелагея, – как она там живет, сердешно дитятко? Свекровка-то какая-то нездоровая, а с хворым человеком знаешь как тяжело жить.
– Если бы не за Коршунова, ни в жизнь бы не отдал, – оправдывался Василий, – перед свадьбой все ходила, как потерянная, все о чем-то думала. Да ведь не враги же мы ей, зачем было соглашаться самой-то, если уж не люб ей Платон, отказала бы, да и все тут.
Беглый каторжник
Сенокос был в разгаре. Ранним утром, когда только самые работящие хозяйки, позевывая и крестя рот, идут в пригоны доить коров, Василий вышел на улицу и направился в кузницу. Накануне он вернулся со своего покоса, где у него треснуло полотно литовки[37]. Сенокос ведь ждать не будет. Можно было бы взять другую косу – в хозяйстве было несколько запасных, но Василий всегда и во всем любил порядок. Потому он и шел сейчас к своей кузнице, слегка поеживаясь от утренней свежести.
Кузница у него была поодаль от двора, на косогоре, у самого берега Кирги; там же была мастерская, где распаривали и гнули ободья для тележных колес.
К мастерской был сделан просторный пристрой с печью, чтобы можно было работать и зимой.
Подходя к кузнице, Елпанов вдруг услышал стон. Думал, что ему послышалось, но глухой стон повторился.
«Господи! С нами крестная сила! Кто это, кто стонет?!» Василий пошел на звук, обогнул кузницу и… чуть не наступил на человека, лежащего в густой траве. При виде Василия человек, весь заросший щетиной и одетый в грязные лохмотья, поднялся на ноги. Что-то глухо звякнуло, и Елпанов обомлел – это были кандалы.
– Не дай пропасть, добрый человек, – прохрипел незнакомец, – хоть хлеба кусок… я третий день одну траву жую…
Василий вспомнил свой долгий путь в Зауралье, Сибирский тракт и сразу смекнул, в чем дело. «Каторжник, знать-то, беглый! – молнией пронзила мысль. – А вдруг ищут его да у меня и найдут?! Вот еще напасть на мою голову!..»
Но Елпанову стало жаль обессилевшего человека. Он, поминутно озираясь, быстро принес кружку молока и один сухарь – он знал, что голодающего сразу много кормить нельзя. Когда он вернулся, человек, похоже, начал бредить. Василий стал поить его молоком и дал сухарь. Человек, трудно двигая кадыком, сделал несколько глотков и, сжав в кулаке сухарь, рыдающим голосом взмолился:
– Спрячь меня где-нибудь… до смертного часу буду Бога молить за тебя…
– Да куда же я тебя спрячу-то?!
– Ты хоть железки с меня снял бы, Христа ради… А я уж как-нибудь в лес уползу. Все едино – помирать, так хоть на воле помру!
Василий снова вспомнил угрюмые вереницы измученных арестантов, бредущих по Сибирскому тракту на каторгу. Подчиняясь какой-то неведомой силе, он завел беглого в кузницу, плотно прикрыл дверь и, схватив напильник, быстро распилил кандалы. Потом осторожно приоткрыл дверь и крадучись огляделся. Вроде никого вблизи кузницы не было. Василий повернулся к беглому:
– Сиди здесь тихо… жди! Я за тобой скоро на телеге приеду…
– А… не выдашь ты… меня? – с трудом разлепил спекшиеся губы беглый.
Василий молча вышел, запер снаружи дверь кузницы и пошел к своему подворью, стараясь не попасть на глаза бабам, уже подоившим коров.
Чего греха таить, мелькала у Елпанова мысль: «Ладно ли я делаю? Своя-то рубаха – она ближе к телу… Вдруг видал его кто в деревне случайно? Дознаются – верная тюрьма мне!»
Но ему снова вспомнился Сибирский тракт, измученные люди в кандалах, идущие по бесконечной дороге в Сибирь, на каторгу…
Скоро Василий вернулся на телеге, на которой была навалена пожухшая кошенина[38]. Отворотил большой пласт травы, помог беглому забраться на телегу, накрыл его травой сверху и привез в свою ограду. Закрыл ворота. Ограда – плотная, с улицы в щель ничего не увидишь.
Пелагеи на дворе не было – она подоила коров и погнала их в стадо. Василий помог беглому забраться на сеновал, сходил в дом, принес молока и хлеба и вполголоса сказал:
– Вот что, мил человек, лежи пока тут. Я с женой на покос поеду, а вечером поись тебе принесу. Ночью в бане вымоешься, в божеский вид придешь…
– Как мне благодарить-то тебя, и не знаю…
– Лучше погоди благодарить-то… Неровён час – нагрянут стражники, дак ты в сено заройся и – ни гу-гу! Ежели, боже упаси, найдут, скажешь, мол, тайком на сеновал залез, пока хозяев не было.
– Ты, отец, чё это седни квёлый какой-то? – спросила Пелагея, увидев, что муж в третий раз остановился на одном и том же прокосе. – Али устал сильно?
– Нет, ничего… просто задумался я…
Василий снова замахал косой, стараясь работой приглушить чувство тревоги. И после покоса он ехал домой с беспокойством. Вошли с Пелагеей в ограду, а навстречу – полицейский урядник с двумя стражниками.
– А вот и хозяин! Как живешь-можешь, староста?
У Василия все внутри похолодело, но он ответил бодро, стараясь унять дрожь в голосе:
– Здравствуйте, с чем пожаловали?
– Вот заглянули в деревню, на постой хотим стать. – Урядник солидно и басовито откашлялся.
– Так что же мы на дворе-то стоим, в дом пожалуйте! Сейчас приехали или днем еще? Располагайтесь, как раз пора ужинать. Сейчас я хозяйку позову.
Василий вышел и сказал потихоньку Пелагее:
– Палаша, быстренько добеги до Агапихи, принеси первача…
Вернувшись, он обратился к уряднику:
– Спросить дозвольте, ваше благородие, вы по службе к нам али как? Что новенького слыхать в волости?
– Уж неделя как беглых ищем! С этапа на Сибирском тракту тягу дали. Только – тс-с-с, староста, никому ни-ни!
Тут вошла Пелагея, поздоровалась с неожиданными гостями, поставила на стол штоф[39] первача и вышла собрать закуску. При виде самогона урядник довольно крякнул.
После первой стопки Василий решился спросить:
– Ну и нашли кого?
Урядник выждал, пока хозяин снова нальет стопки, выпил, захрустел квашеной капустой и помотал головой:
– Как сквозь землю провалились каторжники! Мы у тебя, Василий Иванович, дня два-три на постое побудем.
– Да какой разговор, ваше благородие, побудьте!
За столом стопка за стопкой так и покатились – полицейский урядник не дурак был выпить; старались не отставать и стражники.
Видя, что первач в головах незваных гостей изрядно зашумел, Василий сказал:
– Беглые-то небось по лесам попрятались – вон кругом чащи-то какие!
– В лесу сейчас ни ягод, ни грибов, – ухмыльнулся урядник, – трава одна! А с пустым-то брюхом… Ну так, Василий Иванович. Завтра утром собирай-ка сход, и чтоб все явились – и хозяева, и работники!
– Да теперь которые еще на покосе, вот возвернутся – всех оповещу!
– Некогда ждать, собирай с утра тех, кто дома! Я сам на сходе прикажу, чтоб из деревни, кроме как на покос, никто никуда ни ногой!
Полицейские чины после доброго первача скоро захрапели. Василий чуть ли не на цыпочках вышел на крыльцо и поднялся по лестнице на сеновал.
– Э! Ты меня слышишь? – тихонько позвал он в полутьме. В ответ раздался шорох сена и близкое встревоженное дыхание беглого.
– Ищут тебя… Лежи тихо, даже дышать забудь!
Он спустился вниз и заглянул в избу: слава богу, храпят все трое! Наказав сыну обежать все избы и оповестить хозяев о сходе, шепнул Пелагее, чтоб приготовила закуски, да получше – он еще раз к Агапихе наведается: небось урядник со стражниками снова первача возжелают… Жена удивилась такой щедрости обычно бережливого мужа, но ничего не сказала.
А Василий знал, что стоит уряднику опрокинуть стопку, как его не остановить никакой силой: падок, ох и падок «благородие» на дармовщинку!
Полицейские чины храпели до позднего утра. Когда они проснулись, Василий указал рукой на накрытый Пелагеей стол:
– Давайте, господа хорошие, по стопочке выпьем! Еще с Рождества бутылочка осталась, да все компании подходящей не было…
Урядник для виду поломался, дескать, служба, пить нельзя, но все же выпил, а стражники – те только того и ждали. Василий, чуть пригубив, спросил:
– И много этих самых арестантов сбежало? Нашли кого али нет?
– Да черт их найдет! – После второй стопки урядник стал разговорчивым. – Бывает, по деревням их укрывают. Народишко темный в округе живет! Сами-то бывшие каторжане, а ворон ворону глаз не выклюет! Ты, Василий Иваныч, примечай: может, кто прячет чужих людей. Если что – сразу в полицию сообщай… ик!.. мне то есть, – икнул уже порядком захмелевший и раскисший урядник. – Дело-то серьезное: около Камышлова целый этап сбежал, двоих конвойных каторжники убили!
– Да неужто? – поразился Василий. – И никого так и не поймали?
– Как не поймали – многих сцапали… Этап-то ведь большой, которые арестанты не побежали – старые или больные, куда они в кандалах-то побегут? Эти в один голос твердят: мы, мол, бежать не хотели, солдат конвойных не убивали, это дело рук зачинщиков. Вот то-то и оно-то, – загорячился урядник. – Где теперь зачинщиков найдешь? Этакие-то и десятками лет в бегах числятся… А перед высшим начальством в ответе кто? Я, конечно… Навытяжку, бывало, стоишь, да еще в морду получаешь… А жалованье какое – не больно-то разживешься!
Василий налил им еще по стопке. Стражники, как и накануне, стали дремать сидя за столом. Урядник еще посидел, поболтал всякий вздор и стал клевать носом.
Уложив полицейских спать, Василий тоже прилег, но всю ночь не сомкнул глаз. Из пьяной болтовни урядника Елпанов понял, что тот со стражниками заехал в деревню случайно – просто потому, что беглых искали повсюду. Вдруг Василий спохватился: «Господи! Да ведь в кузнице кандалы распиленные лежат в углу. Сам ведь их туда бросил, да запамятовал в суматохе!»
Чуть забрезжило в окнах, Василий заторопился в кузницу. Возле двери огляделся – нигде ни души. Он завернул кандалы в старый мешок, чтоб никто случайно не увидел. Подошел к берегу Кирги, еще раз оглянулся и, размотав мешковину, забросил кандалы в воду.
Когда он вернулся в избу, полицейские еще спали. Василий, взяв крынку молока и краюху хлеба, осторожно поднялся на сеновал. Беглый стал жадно есть, бормоча слова благодарности. Оказалось, он с сеновала видел в щель, кто остановился ночевать у его спасителя. Хотел следующей ночью бежать, но побоялся – июньские ночи, как на грех, светлые.
…Сход собрался в Каторжанской слободке, возле пожарной караулки.
Василий как староста пришел первым. Урядник известил всех, что, если появятся беглые, немедленно задержать их и везти в волость. Кто-то выкрикнул:
– Как их распознаешь, на лбу у них написано, ли чё ли?
– Да что непонятного? По кандалам да одеже арестантской! Не видали ль таких в лесу, а может – и на покосе?
– Нешто они нам покажутся? Сейчас каждый кустик кого хошь ночевать пустит!
– Но есть-то в лесу нечего! Может, в лесу или на покосе к вам кто подходил, дорогу спрашивал или поесть просил?
– Ну, ежели беглый, дак он дорогу спрашивать не станет, побоится себя оказывать…
– А мы еду-то в кармане носим, ли чё ли? У каждой семьи запас на телеге, а мы, может, за две версты косим-то, у телеги и сермягу найдешь, и подпилки есть – косы править. Если кто в бегах, небось давно уж и кандалы, и одежу арестантскую скинул!
– Страда вовсю идет! Была нам нужда беглых ловить, на лешака они нам сдались, твои арестанты!
– Тебе надо, вот ты и лови, ваше благородие! – с издевкой крикнул кто-то, невидимый в толпе.
– Молчать! – вне себя заорал урядник. – Молчать, не то сами пойдете по сибирской дороге!
– А ты не пужай, мы дороги-то всякие видывали! Честные поселенцы мы, живем своим трудом, землю пашем да хлеб сеем, чего тебе еще-то?! – загомонил сход.
Мужики, несмотря на ругань урядника, стали расходиться по избам.
Урядник, разъяренный, уехал со стражниками в волость, сказав старосте Елпанову, что на днях заедет в деревню снова. Закрывая за ними ворота, Василий с облегчением, но и с досадой думал: «Слава богу, унесли черти, но чем все дело с беглым-то обернется – неизвестно… А сколько времени в страду-то без толку пропало!»
Василий наконец сказал жене, кого он прячет на сеновале. Сначала Пелагея испугалась, а потом немного успокоилась и даже засмеялась:
– А я-то, недотепа, думаю: что ему взбрело в голову урядника первачом напаивать, да не его одного, а еще двоих остолопов!
– Тут уж, как говорится, и сам не рад, да готов, пришлось умаслить полицейских… Надо работников о беглом-то предупредить… Хорошо, что они не из болтливых…
Прошло две недели. Урядник больше не приезжал. По деревне прошел слух, что Елпанов к жнитву нанял нового работника, которого привез из Ирбитской слободы. Парень назвался Гришкой, вольным поселенцем из Вятской губернии. Парень стал работать в елпановском хозяйстве и помогать Василию в кузнице. Теперь у Василия стало три работника, да и сын Петр уже работал за взрослого мужика. Пелагее работы хватало – со скотиной управляться, с огородом, да стряпни и стирки прибавилось, только ей приходилось все делать одной, без помощницы.
Василий как-то вечером сказал Пелагее:
– Вот что я надумал, мать: найму-ко я до женитьбы Петра работницу, тяжело тебе одной-то! Вон теперь сколько у нас скотины да птицы, и опять же – надо куделю чистить и прясть. Ну, куделю-то чистить Матрена сулилась пособить, бабенка она работяща, а все другое-то – как же тебе в одиночку?
– Ты хозяин, тебе и решать надобно, а мне и остальным – только слушаться да не прекословить, – ответила Пелагея.
Иногда Василий подумывал насчет беглого, ставшего вятским Гришкой: а вдруг пронюхает бестия-урядник, кто таков на самом деле новый елпановский работник, но успокаивал себя, мол, я-то тут при чем? Я его нанял в работники – и вся недолга, но если его сцапают, он и в ответе, а мое дело – сторона!
Когда кончилась страда, двое работников получили расчет и ушли домой: нанимал их Василий, как обычно нанимают на страду, до Покрова. Гришка хорошо работал по хозяйству, справлялся и в кузнице. Василий не жалел, что приютил беглого и спас его от новой каторги: как-никак почти бесплатного работника получил, только корми и одевай его. «Пусть пока живет, робит у меня, а там видно будет», – прикидывал он.
К Покрову Елпановы всей семьей ездили в Киргу, в приходскую церковь. Заехали в гости к свату Иллариону. Покров в Кирге, как и во всем приходе, – большой престольный праздник. И время праздновать – самое подходящее: полевые работы закончены, молотить еще рано. В это время в деревне только бабья работа – куделю чистить, а мужики так, кое-что разве поделывают. Ну, у Коршуновых и у Елпановых мужикам работы в любое время хватает, но в Покров – все дома, все празднуют.
Сватов Коршуновы встретили радушно. Настасья первая увидала Василия и Пелагею в окно, неодетая выскочила скорей отворять ворота и не удержалась, заплакала от радости, обнимала и целовала по очереди всех – отца, мать и Петрушку. После свадьбы дочери Василий был у Коршуновых два раза, а Пелагея всего один, и теперь Настя разом хотела наглядеться на прядеинских родных. Она немного похудела, но чувствовалось, что вполне освоилась в новой семье. Сватья Мирония, страдавшая одышкой, работать много не могла, все больше сидела и лежала с отечным лицом. По хозяйству помогала чужая безродная старуха.
Петрухе пошел семнадцатый год. Василий научил его счету в раннем детстве, считать он умел хорошо и быстро, а вот читать и писать где научиться – в деревне ни одного грамотного человека. Василий хотел уже послать его учиться в Ирбитскую слободу, но отец и сын Коршуновы читать и писать умели, и Платон охотно взялся учить родственника. Петр оказался способным и прилежным учеником, и его решили оставить в Кирге погостить – Настасье веселей будет. Василий с Пелагеей радовались: вот выучится сын грамоте, и можно письмо на родину отправить.
Убийство Анны Кузнецовой
Лето выдалось жарким и засушливым. Когда собирались тучи, с ужасающей силой гремел гром; были случаи, когда молнией убивало людей и скот или возникали пожары, но хорошего ливня так и не дождались. Хлеб был плохой, низкорослый, с мелким колосом, кое-как вырос только в залесках, где лучше сохранилась влага; травы оказались под стать ему. У Елпановых сохранилось много старого хлеба – не зря Василий каждый год припахивал целины, где всегда был урожай. Люди говорили между собой, что будет голод. И на самом деле, уже в сенокос и жнитво появилось много голодающих с Урала. Вести, одна другой хуже, приходили с демидовских заводов: там народ поголовно умирал с голоду – на тамошних каменистых, неплодородных землях добрых урожаев никогда не было, а тут еще два лета подряд засуха. Исхудалые, с почерневшими лицами люди с тощими котомками за плечами шли и шли вереницами по деревням Зауралья, прося милостыню.
…Игнат Кузнецов ждал из солдат старшего сына, тот должен был скоро вернуться домой. Младший сын Кузнецовых умер еще неженатым – опрокинувшимся возом придавило.
«Вот возвернется Никон – пусть он всем правит как хочет, а я уж сколь смогу, столь и пороблю, – думал стареющий Кузнецов. – Старуха больно хворая стала, лонись[40] дак и вовсе паралич ударил. Опять же Федька со своей-то бабой ладом не живет… Ведь отделил его, дурака, – думал, лучше будет, свой-то дом его притянет, ан нет – четвертый год пьет да на чужих баб смотрит! За что нам со старухой такое наказанье-то на старости лет? Эка вот, говорит – мол, не люблю я бабу свою, зря вы меня на ней женили. Да какого черта тебе еще надо, баба в девках-то и видная, и богатая была…»
А жизнь Анны, Федоровой жены, стала хуже некуда с тех пор, как Кузнецов-старший нанял на страду работницу Федосью: Анна тогда заболела и в поле работать не могла.
Вот и прибрала хозяйского сына к рукам бойкая пострадка Федосья… Дальше – больше: Анна как-то попыталась попенять на это мужу, но тут же получила увесистую оплеуху.
– Молчи, не выводи из терпения, ненавижу я тебя! – взъярился Федор.
– Опомнись, Федор! Дети ведь у нас, – охнула бедная Анна.
– Ты мне весь свет загородила, пропади пропадом, жаба!
Отругав, а то и поколотив жену, Федор уезжал в поле с пострадкой – бабенкой, как назло, молодой, лицом пригожей, но и порядком бессовестной. Скоро Федор, не стесняясь ни отца-матери, ни чужих, связался с работницей в открытую… А та совсем уж себя хозяйкой возомнила! Как-то даже сказала за обедом: «Тетя Анна, уж больно ты стара да худа, как будто матерью приходишься Федору-то…» Анна плакала горючими слезами, но кому пожалуешься? Она была дальняя, выдали ее замуж из Кирги. К отцу родному не сходишь, да и отец-то уже теперь давно помер…
После десяти лет совместной жизни отец отделил Федора, третий год они жили в своем доме, но жизнь не налаживалась: Федор продолжал пить и все чаще бил жену.
Бабы жалели Анну, но кое-кто, бывало, говорил: мол, муж да жена – одна сатана…
– Впору руки на себя наложить, – жаловалась Анна соседке, Марине Агапихе. – Ровно озверел Федор-то, как связался с Федоской этой! Ох, пропащая моя головушка!
Агапиха выслушивала ее равнодушно: самогонщице не раз приходилось слушать стенания измученных пьянством и побоями мужей деревенских баб. Кроме того, она не любила эту тихую, чересчур покорную бабу: «Так тебе и надо, телепня[41]! Да будь Федюня мой муж, я бы его вот так зажала! – И она показывала маленький, но крепкий кулак. – Уж я бы не поддалась, а чем попадя бы такого-то буткала[42]!»
Отчаявшись, Анна пришла к бабке Евдонихе:
– Баушка Феофанья, я к тебе как к последней надёже… Помоги моему горю, совсем сдурел мужик-от у меня, ругается да бьет! И раньше-то худо жили, а нынче и вовсе как зверь. Видно, околдовала его эта змея подколодная, Федоска-то… Взял ее свекор, мне на беду, в пострадки. У нас в дому живет, а нам же, прости господи, и гадит! Федор седни меня опять набил, а вечером, ежели напьется, хоть беги куда глаза глядят!
– Куда же, милая, побежишь-то? Ведь ты мужняя жена, у тебя дети! Ну ночуешь ты седни в людях, а завтре ведь все равно домой-то надо… Ты уж старайся как-то и сама наладить жисть-то! Откажи Федоске-работнице, что ли…
– Да ведь не я, а свекор мой нанимал Федоску-то! Добром она не уйдет…
– А ежели добром не уйдет, так выгони! Хозяйкой в дому стань, а не гостьей! Вот, на тебе ломоть хлеба, я его наговорила. Как придет Федор вечером да ужинать будет, этот ломоть незаметно ему подложи. Гляди, чтобы только муж съел его, а не другой кто, да не с супом или еще с чем горячим, не то с паром весь наговор-то и выйдет… А завтре сходи на кладбище, найди могилу, где похоронен кто-нибудь по имю Федор – все равно, хошь старик, хошь ребенок. В деревне Федоров-то много ведь умерло, вон дедка Федора в прошлом году похоронили, знашь, поди, где могила-то его?
– Знаю, баушка, знаю – у кривой березы она!
– Дак вот, мила дочь, горсть земли с могилы возьми и мне принеси: я на нее наговорю, а ты ее в рукомойник перед тем, как он будет умываться, брось… Завтре же ко мне и приходи!
– Спасибо, баушка, побегу я домой – поди, явился душегуб-от мой, еще хватится меня, окаянный!
– А ты, касатка, худыми словами Федора не брани: бес-от, он ведь завсегда услышит да и будет разжигать у вас ссору-то!
Анна с надеждой побежала домой, неся за пазухой ломоть хлеба с наговором. В ограде ее встретил завыванием дворовый пес.
«Что это у нас Лыско-то – уж втору неделю, как вечер настанет, так и выть, ровно волк, принимается?» – мелькнуло в голове Анны. «Лыско, перестань!» – Она замахнулась на собаку батогом[43]. Та, поджав хвост, пошла в конуру, но через минуту завыла опять.
«Господи, неужто перед бедой какой-то?»
Анна вошла в избу. Мужа дома не было, дети уже спали.
Долго же она у Евдонихи пробыла… А Федор, поди, опять пьет.
Анна подняла крышку сундука: муж, наверно, последние деньги взял. Ну так и есть – деньги исчезли… О господи, да ведь скоро подать платить!
Анна сунула наговоренный хлеб в подпечек. Отломила от другой краюхи кусок и понесла его собаке.
– На, Лыско, пошто воешь-то – голодный, чё ли?
А Федор в это время действительно был у самогонщицы Агапихи. Гривенник он уже пропил и теперь требовал самогона в долг.
– За деньги продам, а задарма – накося выкуси! Ежели всем вам, пьяницам, в долг давать, так скоро по миру пойдешь!
Федор не стерпел, что она назвала его пьяницей, рассвирепел, стал придираться к Агапихе, кричать и обзывать. Агапиха на своем веку не таких буянов видала. Она была не из робких.
– Ты чё на меня блажишь? Я тебе не Анна, я тебя нисколь не боюсь. Пошел ты к черту, изверг, пьяница, кровопивец! Бабу свою скоро в гроб загонишь, скотина! Вон даве приходила, жалилась, житья ей не даешь, паскудник поганый, одурел вовсе, издеватель! Связался с молодой, ну и черт с тобой, а над женой чё издеваться? Уходи отсюда, чтоб ноги твоей здесь не было! Будь ты моим мужем, я так проучила бы тебя! Я бы вправила твои трухлявые мозги в твою пустую башку.
Самогонщица стала выталкивать Федора за дверь, тот зацепился руками за дверной косяк. Тут появились муж Агапихи, Олимпий, и дочь Лизка. Олимпий – мужик проворный и жилистый, да еще Лизка ему помогла – прокатился-таки Федор по ступенькам крыльца…
По дороге домой он наливался злобой на Анну. «И ходит, и ходит, окаянная, по соседям, жалуется… Ну, погоди, проучу я тебя седни! Хредеет, а никак не подохнет. Померла, я бы на Федоске женился».
Подходя к дому, он изо всей силы пнул ногой калитку. Калитка от удара распахнулась, и Федор зашел в ограду. Анна знала уже, что он идет злой. Белее мела, вся дрожа, она встала у печи. Дети по-прежнему спали в горенке. Федор подошел к Анне и, не говоря ни слова, наотмашь ударил ее кулаком по лицу. Анна сразу почувствовала во рту соленый привкус крови. Не успела опомниться, как получила страшный удар по голове, и чтобы удержаться на ногах, успела ухватиться за столбик голбца.
– Федя… за что?! – еле прохрипела она. В глазах плыли огненные круги.
Осатаневший Федор снова занес сжатый кулак. Анна, не видя ничего кругом, рванулась к двери, выскочила на крыльцо. Федор, как дикий зверь, выскочил за ней, схватил с приступки тележный курок[44] и с размаху ударил жену. Удар пришелся опять по голове. Она упала у крыльца, поливая кровью землю, по которой ходила взад и вперед сотни раз в день ради того, чтобы жила семья, росли дети. В доме, который она строила своими руками, были всегда порядок и пища, и всегда накормлена, напоена и ухожена скотина. Ее руки, которые не знали усталости и покоя, работали день и ночь, создавая все благополучие этого дома, теперь бессильно лежали на земле. С каждым мгновением жизнь уходила из ее тела. Курок от телеги, которым она была убита, лежал рядом, и под него подползла струйка крови.
Но Федор сначала ничего не понял – раньше он ее еще и не так избивал. Бабы, как кошки, живучи, полежит на холодке, очухается, придет в избу. И он пошел в дом, прилег на кровать, но сон к нему не шел. Хмель начал проходить, и Федор стал тревожиться: жена в избу не приходила…
Забрезжил рассвет, стала падать роса, на востоке показалась золотистая полоска. Анна лежала все в том же положении. Федор, не смея поверить, что произошло, осторожно, как вор, подошел к жене, тронул за плечо – оно было чуть теплым. Как безумный, озираясь и кляня себя, с трясущимися руками и холодным потом на лбу тяжело опустился на порог своего дома. «Как оправдаться? Придет становой, начнут наводить следство. Как я все это объясню, чтобы меня не завинили? Поверят ли?..»
И вот сейчас сидел Федюня на пороге своего дома, все перебирая и вороша в своем уме: «Ну где и как я схватил курок? Наверно, уж мне его сам нечистый подсунул. Ведь кулаком я бы ее не убил, не попадись курок под руку. Как я теперь выпутаюсь из этого?..»
Раньше всех проснулись куры. Они с деловитым спокойствием слетели с насеста и стали искать себе корм. Черный петух с красноватой шеей подошел к лежащей хозяйке и недоумевающе вытянул шею, нацеливаясь, куда бы клюнуть.
– Кыш, проклятый! – Федор замахнулся на петуха.
Во дворе жалобно выла собака. В пригоне замычала корова, заблеяли овцы, захрюкала свинья. И это вывело Федора из тупого оцепенения, он сорвался с места, как ошалелый, побежал по деревне и заорал во все горло:
– Люди добрые, помогите! Караул! Убили Анну, уби-и-и-ли! Федоска это… Искать ее надо, суку, убивица она и воровка. Люди! Помогите, бога ради!
Народ уже был на ногах, так что вскоре у Федюни во дворе была вся улица.
Федор, брызгая слюной, кричал, бил себя в грудь кулаком, крестился и божился:
– Люди добрые, не виноват я ни в чем, ничего знать не знаю. Это паскуда работница убила ее, ограбила нас и сбежала!
В десятый раз повторял одно и то же: «Не виноват я!» – И заорал истошным голосом:
– Аннушка, родная моя, да как же получилось-то все? Не уберег я тебя! Да как же это всех-то нас она не убила?! Господи! Горе-то какое! Искать ее надо, убивицу и воровку! Люди!!! Помогите, бога ради!
На крыльце в одних рубашонках, бледные и вконец перепуганные, не смея шевелиться, стояли детишки Федора. Тут же был Игнат с непокрытой головой, испуганными глазами, с лицом, серым, как пепел. Старуху его, мать Федора, толстую, параличную на правый бок, чуть снова не хватил удар, но она все же приползла, ноги ее не держали. Она тяжело опустилась на колени возле снохи и завыла долго и протяжно, как голодная волчица:
– Аннушка, да чё же это ты наделала, как мы без тебя жить-то будем?!
Агапиха тоже подошла, повздыхала, поохала и потихоньку удалилась восвояси, она решила ни во что не вмешиваться.
– Чё вы остолбенели?! Давайте понесем ее в дом, обмывать надо. Что ли ей, даже мертвой, в доме места нет? – возмутилась Полуянова сноха, высокая, дородная баба.
– Надо немедля кого-то в Киргу послать, родню известить. За попом не надо, он к мертвой не поедет, надо кому-то в волость ехать за становым.
Покойницу понесли в дом. Старухи стали хлопотать возле нее.
Через час Анна была одета в подвенечное платье и лежала под образами со спокойным лицом, невозмутимая и далекая от всего земного. Ей уже было все равно: и гнусная, преступная ложь ее мужа, и навзрыд плачущие дети, которых она любила больше всего на свете и ради которых шла на любые муки.
Под вечер из Кирги приехали родственники Анны и увезли тело в Киргу – хоронить.
Скоро пострадку Федосью нашли в Харлово. Привезя в Прядеину, ее закрыли в кладовке, поставили караульного и стали ждать приезда станового пристава.
Староста собрал всю улицу на сход тут же, в ограде. Договорились, что все покажут одно: ничего не видели и ничего не слышали. Надо Федюню выгородить, прав он или нет. А то что получается, Анну схороним, Федюню посадят, а ребят куда? Старики ненадежны, самим скоро надо опекуна, а Никон еще придет ли, неизвестно. Кому нужны они – парнишко-то теперь уж вон какой сыч растет, голимый Федюня.
Из Белослудской приехало начальство вести допрос и следствие. Становой, урядник и два стражника стали вызывать в горницу по одному. Сначала вызвали старосту:
– Принимайте присягу, целуйте крест и Евангелие. Говорить только чистую правду. Следствием установлено, что в вашей деревне убита железным курком от телеги Кузнецова Анна Ивановна в своем дворе. Что вы как староста можете сказать по этому делу?
– Ваше благородие, когда я пришел, народу была полна ограда. Я ничего не видел, не знаю.
– Как жил с женой Кузнецов Федор Игнатович? Может, обижал или даже бил ее?
– Нет, такого не было, не слышал.
– Может, он пьяный был?
– Теперь страда – когда пить-то?
– Кто же тогда убил его жену?
– Не знаю, не ведаю.
– Говорят, он был в связи с работницей, правда ли это?
– Может, и правда, может, и нет. Откуда мне знать?
Следующей вызвали на допрос Агапиху. Она притворилась смиренной овечкой: ничего не слышала и не видела. Тогда становой спросил прямо:
– Вино вчера вечером ему продавала?
– Заходил он соседним делом вечером к нам, дак трезвый был. А у меня откуда вино-то возьмется, страда чичас, не до этого. Пойдите посмотрите, кумышки я варю не больше других. С самой Пасхи даже травянухи не варила.
Еще вызывали многих, все говорили одно и то же: ничего не видели и не слышали.
Тогда стали допрашивать самого Федора. Он так же, как и утром, стал разыгрывать из себя убитого горем мужа и отца малолетних детей, призывая в свидетели Бога, небо и всех святых, распустил слезы и сопли и вообще представился полным идиотом.
Тогда пристав задал ему прямой вопрос:
– Был ли в связи с работницей?
– Ваше благородие, эта баба такая наглая, что кого хошь соблазнит, ну и нечистый меня попутал. Она мне сказала: «Твоя баба все хворает, вот если бы она умерла, я бы за тебя взамуж вышла, уж как бы я тебя любила, шибко ты мне поглянулся». А я тогда и во внимание не взял, что она, мерзавка, задумала. Думал, шутит…
Последней вызвали Федоску, стражник ее привел.
После присяги спросили, кто она и откуда родом, была ли в преступной связи с хозяином.
– Была, ваше благородие, поневоле станешь с таким нахалом, притеснял он меня шибко.
– Собиралась за него замуж, или он тебе предлагал чего?
– За такого ирода замуж?! Да вы что? При живой-то жене как это он мне предлагать замужество-то будет? Да и будь он до этого вдовый, ни в жисть бы не пошла за него, лучше камень на шею да в воду.
– Может, вы с хозяйкой ссорились?
– А известное дело, любая жена будет ругаться, когда узнает, что ее муж с работницей путается. Но она больная была, да и вообще смиренная.
– А почему ты не ушла от них сразу же, как он начал к тебе приставать?
– Все хотела уйти, да никто не нанимает, больно уж слава по деревне про меня пошла худая, – простодушно ответила Федоска. – Ну а вчера, как он пришел пьяный да начал Анну бить, вижу, дело-то совсем дрянь, собираться надо поскорее да уходить. Смотрю, она на улицу побежала, он за ней. Вот тогда, видно, он курок-то и схватил. Да на крыльце и хлобыстнул ее по голове. Хорошо, что я в кладовке, не в избе была, а то бы и меня прихлопнул. Как в избу-то он прошел обратно, подхватила я свою котомку да убежала. Некогда было глядеть, жива ли хозяйка-то. Бегу огородом прямо по грядам да оглядываюсь, не гонится ли за мной убивец-то. Так до полевских ворот не помню, как добежала, в поле уж пришла в себя. Хорошо, что ночи теперь теплые и короткие, поспала под стогом маленько да вот в Харлову пошла, не наймет ли кто.
– А за работу они тебе платили?
– Боже мой! Какая тут плата! Хоть бы ноги унести от такого хозяина поскорей.
– А когда пошла, ничего у них не взяла?
– Ничего, ваше благородие! Котомку-то мою ведь обыскали.
– Это неважно! Вот хозяин говорит, что ты их обокрала и убила хозяйку.
– Да как он смеет такое говорить на меня! Что я, душегубка какая, да мне даже кошку не убить!
Федоска поняла, в чем ее обвиняют, осознала всю тяжесть своего положения и горько заплакала.
После допроса всех свидетелей Федора Кузнецова и работницу Федосью этапировали в суд. Не прошло и недели, как Федор вернулся домой. Суд признал его невиновным; судили одну Федоску-пострадку, а Федора вызывали на суд только как свидетеля.
В деревне только и разговоров было, что об убийстве и суде, да еще о том, как Федору удалось-таки выкрутиться.
– Игнаха-то Кузнецов… ишь ты… прямо от тела убиенной – в волость лыжи навострил! Видно, немало денег повез, чтоб судейских подмазать-задарить…
Работницу Федосью суд осудил на каторжные работы, хотя она в убийстве Анны не призналась и краденого у нее ничего не нашли. А Федор стал сам себе хозяин. Помаленьку таскал что-то из дому и пропивал: то кусок холста снесет Агапихе, то из домашнего скарба чего-нибудь. Ребятишек отец-пропойца бросил на произвол судьбы, и они целый день бегали грязные и голодные.
Игнат Кузнецов уже не рад был, что истратил большие деньги, чтобы спасти сына от каторги. Никакие уговоры бросить пить на Федора не действовали.
«Женить бы его, да поскорее, – думал Кузнецов-старший, – да как: в другой-то раз жениться положено после смерти жены только через полгода».
Слово «убийство» Игнат боялся произнести даже мысленно…
Пожар
Стояла страшная сушь, урожай погибал. Полевые работы затянулись – пшеница была такая, что под серп не шла; кое-где по полям ползали на коленках и рвали ее руками. Замаячил скорый голод…
Все прядеинцы ушли в поле, и в избах не было почти никого, когда стряслась самая страшная деревенская беда – пожар. Оставшиеся без присмотра ребятишки Федора Кузнецова играли одни дома. Николка позвал Аленку в амбар:
– Гляди, Аленка, тут хомяк в ловушку попался!
И правда – в углу амбара бился и пронзительно пищал в ловушке здоровенный хомяк.
– Неси живей тятькины рукавицы да ящик из-под гвоздей – тот, у которого крышка задвигается! – командовал Николка.
Скоро хомяк был водворен в ящик.
– А сейчас казнить его станем, все равно как тетку Федосью сказнили бы, которая маму убила…
Ящик с хомяком принесли в баню. Из загнетки[45] набрали красных углей. Положили в каменку бересты, щепок и раздули угли. Береста загорелась жирным чадящим пламенем. Следом взялись огнем и щепки.
– Давай его сюда, мы его сейчас живьем поджарим!
Николка рукой в рукавице взял хомяка за хвост и стал держать над огнем. Шерсть вспыхнула, остро завоняло паленым… Хомяк, изогнувшись, вырвался и шмыгнул из дверей бани в пригон, словно горящий факел, оставляя за собой огненную дорожку.
Сухая подстилка в пригоне вспыхнула как порох, огонь с жадностью рванулся на стены и крышу, и буквально через мгновение заполыхали амбар, баня и дом.
Ребятишки, напуганные пожаром, побежали к бабке и деду, но уже и у них загорелся дом и все постройки. Пожар распространялся с быстротой молнии: на беду, день был ветреным.
Люди, которые работали недалеко от деревни, увидели дым и огонь: сомнений не было – горел дом Федюни. Пока запрягали лошадей, гнали в деревню, загорелись еще пять домов. Хватали что попало, старались хоть что-нибудь спасти из своего имущества.
Когда Игнат Кузнецов примчался с поля домой, все было кончено: крыша его избы уже провалилась. В огне погибла парализованная старуха-жена, сгорел на привязи у конуры Лыско.
С треском и шипением догорали последние головни страшного пожарища. Нестерпимый жар обуглил деревья в палисадниках. Как сухой обугленный пень, стоял тополь перед домом Игната.
С безумными глазами и трясущимися руками Игнат искал внучат. Ноги его не слушались, подгибались, и он, заикаясь, спрашивал каждого: «Не видели моих внучат?» Но в суматохе было не до них, и никто их не видел. Взор его стал неподвижен, лицо свинцово-серым, он заревел, как бешеный бык, хватаясь за сердце, и рухнул на землю около своего бывшего двора.
В этот день в Прядеиной сгорело дотла двенадцать домов. Огонь пожара, подгоняемый ветром, дошел до оврага и там наконец потух.
Дедко Евдоким с бабкой, слава богу, за оврагом жили. После пожара старики приютили в своей избушке мать прядеинского старосты Ивана Прядеина. Спасая домашнее имущество и маленьких внучат, она сильно обгорела. Дедко Евдоким со своей старухой лечили ее как могли – травами, мазями и наговорами, но больной становилось все хуже. На четвертый день мать старосты умерла в страшных мучениях.
Бабка Евдониха крестилась, приговаривая:
– За грехи нас Господь наказывает, безвинная душа мстит нам за то, что истинного убивца выгораживали… Покойник-то, он у ворот не стоит, а свое выводит!
Кумушки на лавочках судачили:
– И год-то нынче засушливый и неурожайный выдался, да еще – на тебе, пожар! Ведь двенадцать хозяйств погорело, двенадцать семей без крова осталося…
– И не говори, кума! Верная присказка: уж пришла беда, дак отворяй ворота!
– За грехи мы наказаны, за ложную присягу, крепко нам отомстила и живая Федоска, что не защитили, и мертвая Анна. Прогневили мы Бога, прогневили… молебен отслужить надобно! – качали головами седые старики.
Вскоре съездили в Киргу, привезли иконы, попа и стали служить молебен. На молебен собралась вся деревня – и стар и млад. Все усердно молились, чтобы Бог простил им все прегрешения. Помолились за здравие рабы божией Федосьи и за упокой рабы божией Анны. В душе многие считали виновником всех несчастий Федюню и потихоньку говорили: «Не будет нам счастья, пока убивец ходит на свободе. Место ему на каторге».
Но русский человек незлопамятный, он скоро забывает обиды и прощает всем и все. Простили и Федюне. За это время Федюня сильно поседел, постарел и притих…
После молебна всем миром принялись ставить погорельцам избушки и конюшни. Но первой из погорельцев стала сама строиться самогонщица Агапиха. Олимпий, который после смерти кузнеца Агапа уже много лет был ей законным мужем, в хозяйстве был, как говорится, так – пришей-пристебай; Агапиха правила всем сама, и получше иного мужика.
Лизавету, единственную свою дочь, она замуж не отдала, а взяла в дом зятя, работящего молчаливого парня из бедной многодетной семьи. Так у нее стало два своих мужика-работника, да еще наняла работников со стороны. Новый дом Агапихи, построенный для нее мастерами из Ирбитской слободы, получился лучше прежнего, как и подобает денежному человеку.
В деревне говорили, что богатая Агапиха дома деньги никогда не держит, а всю наличность отдает под проценты богатому купцу из той же Ирбитской слободы.
А со стороны поглядеть – Агапиха в деревне имела только то, что имели и другие прядеинцы. И прежний дом у нее был такой же, как у всех, разве что задняя половина с отдельным ходом частенько служила кабаком, а если наведывалось волостное начальство, кабак становился горницей. Кроме домотканых настольников и половиков, в дому у нее ничего не было. Иногда к ней вдруг приходили или приезжали незнакомые люди, жили, работали, потом так же внезапно исчезали.
Что мать, что дочь были одинаково скрытными и недоверчивыми, о своих делах они говорить не любили. Обе прослыли умелицами варить крепчайший первач, который, только поднеси горящую спичку, вспыхивал голубым пламенем. Мастерски варили пиво и кумышку разных сортов. Если в деревне у кого была свадьба, крестины или еще какое торжество, все шли к Агапихе. За услуги она брала недешево, но самое вкусное пиво или брагу в деревне никто сварить не мог, как ни старался; она знала много разных трав и кореньев, которые добавляла в крепкие напитки. По праздникам или на помочах мужики допьяна напивались одним только пивом.
Постоянных работниц на своем подворье она держала только двоих, они жили у нее уже много лет: глухонемая баба неопределенных лет с мужским обличьем да старуха Фекла, которая всегда ходила в черном и не любила много говорить. Да и вообще в дому никто не любил попусту точить балясы. В глаза Агапиху называли Марина; некоторые вспоминали ее отчество Ивановна, а позаглаза называли по первому мужу.
Недород и пожар, обрушившиеся на деревню, ничуть не повредили винной торговле, она шла полным ходом. Самогон Агапиха стала продавать дороже, но от покупателей не было отбоя. Отходы от самогона шли на корм скоту; на подворье держали много свиней, и зимой в Ирбитскую ярмарку возили свиные туши целыми возами. Ранними утрами из пригона доносился визг на всю деревню, и народ смеялся: «У Агапихи-то свиньи с самого рассвету поют: знать-то, они у нее вечно пьяные! Ха-ха-ха!»
Деревня Прядеина быстро разрасталась, земля и покосы стали отдаляться. Василий с Гришкой распахали десятину целины у лесной избушки. Несмотря на засуху, хлеб на новине все же вырос.
Каждый год ездили они косить сено в том месте, где поставили избушку, когда спасали скот от сибирской язвы, жили вместе с Афанасием в лесу. Сейчас у них образовалась своя заимка.
Афанасий тоже распахал на заимке полоску, но он был уже в годах и от тяжелой работы теперь мучился грыжей. Зима выдалась очень голодной; с демидовских заводов в Зауралье по санному пути потянулись вереницы хлебников. Хлеб стал непомерно дорогим, но изголодавшиеся люди были готовы платить любую цену.
Елпановым, однако, удалось продать немало хлеба, получить большой барыш, и в будущем году они решили распахать на заимке земли вдвое больше прежнего.
Афанасий с Иванком от заимки отказались: решили, что дело это не стоит далекой езды, и Елпановы стали хозяйничать одни. Петр становился взрослым, он все больше и больше вникал в дело.
Сначала на паях с Коршуновым, а потом и один Василий Елпанов стал торговать скотом. Осенью по деревням он накупал рогатого скота и лошадей, и когда набиралось достаточное количество, гнал гурты коров и косяки коней в Тагил, Алапаиху или в Невьянск. Быть прасолом, как известно, дело хлопотное; торговать хлебом намного проще, и Василий с Петром по возможности стали подторговывать рожью, ячменем, а то и пшеницей.
Весной Елпановы наняли еще двоих работников (тоже, видимо, из беглых) и поселили их на заимке. В тот год на заимке посев был в три раза больше и дал обильный урожай. Молотить решили там же, пришлось строить завозню под хлеб и конюшню для молодняка. Постепенно Елпановы стали владельцами двух хозяйств – дома и на заимке.
Соломия с куликовских хуторов
У Василия Елпанова вошел в жениховскую пору сын Петр. Он поднялся ввысь – стал выше отца на целую голову и раздался вширь. На загляденье статный парень выровнялся, косая сажень в плечах. Работа в кузнице и по хозяйству закалила его.
Лицом Петр больше походил на мать: густые темно-русые, почти черные волосы, такие же, как у матери, карие глаза с черными соболиными бровями. Его уважали за трудолюбие и ум. В парнях семнадцати-восемнадцати лет он никогда, как некоторые сверстники, не бегал по праздникам вдоль деревни с колом… Петр ни с кем не вздорил и не дрался, хотя имел недюжинную силу: во время игрищ на спор гнул гвозди и подковы, любил бороться на кругах, петь и плясать.
Но больше всего любил Елпанов-младший лошадей, бега и скачки и часто сам участвовал в них. Перед зажиточными мужиками Петр уважительно кланялся, сняв шапку.
В деревне говорили: «Хорош у Елпанова сын вырос, всем взял: и умен, и красив, и силой бог не обидел, и со старшими почтительный». В эту осень Петру подошло время призыва в солдаты, но как единственный сын у родителей на цареву службу он не попал и остался дома. С Петрова дня ему пошел двадцать первый год – самая пора жениться.
В Прядеиной многие отцы, у которых были на выданье дочери, надеялись, что Василий Елпанов посватает за Петра их дочь. Многие невесты мечтали о таком замужестве – жених хоть куда! В Прядеиной гадали: на ком же женится Петр, в своей деревне найдет суженую или нет? А богатый жених Петр Елпанов и не думал жениться и все ходил на игрища. Так и продолжалось, пока в Троицу не пригласил Петр на кадриль Агнишку, дочку старосты Ивана Прядеина.
Так и расцвела маковым цветом и потеряла покой Агнишка! Даром что из Каторжанской слободки, но семья зажиточная, люди работящие, и видом, и ростом хоть куда. Ну чем бы Петру не пара?
Но Петр не спешил. Агнишка старалась почаще попадаться ему на глаза, была с ним приветливой, даже нежной и ласковой. Всячески старалась выказать ему предпочтение, однако, на Петра это пока не действовало…
Тогда Агнишка и пошла по натоптанной многими невестами тропке: побежала к бабке Евдонихе и со слезами рассказала о своей несчастной любви.
– Вот что я тебе скажу, девонька, а ты внимательно послушай старуху-то! Ты за этим идолом лишка не бегай и виду не показывай, что любишь. Мужики, оне все одинаковы – обманщики. Долго ли до греха-то? А коли любит – не отстанет! Только держи себя гордо, ведь ты эвон какая, высокая да пригожая! Если любит – значит, свататься будет, а не любит – так тому и быть. За любовь-то бороться с саблей не ходят… Да и взамуж тебе еще рано, в девках посиди да ума поднакопи. Вот садись-ко к столу и смотри, а я карты раскину… Видишь, мила дочь: он имеет жестокое сердце, а любит пока что только деньги да славу. А сейчас пустим дым. Если он сегодня к тебе не придет, то, стало быть, и не любит он тебя!
С этими словами Евдониха разожгла на шестке лучины и, глядя на огонь, нараспев заговорила:
– Дым-атаман, иди по горам, по лесам, по долам, приведи раба Божьего Петра в дом рабы Божьей Агнии…
Потом старуха перешла на шепот, и Агнишка дальше ничего не могла разобрать.
Евдониха три раза поплевала в левую сторону и закончила наговор:
– Вот и все, девонька, иди теперь домой, сиди и жди. Если любит – придет, а не придет, значит, не любит, и ты его забыть постарайся!
Агнишка побежала домой. Петр все не шел, но не так-то просто вытравить из сердца первую девичью любовь!
Случайно встретив Петра на деревенской улице, Агнишка взмолилась, забыв все наставления Евдонихи:
– Петя, милый! Давно тебя увидать хотела, поговорить надо! Ведь сваты приезжали, тятя меня хочет взамуж отдать… Что мне делать – не хочу взамуж!
Бедная девка надеялась, что Петр скажет: «Не ходи, Агнишка, ни за кого, я сам тебя посватаю». И, может, поторопится со свадьбой…
Но Петр промолчал. Агнишка, вся похолодевшая, ушла, не попрощавшись, и уж больше не мучилась от любви к Елпанову.
Через год она вышла замуж за первого, кто посватал, вышла без радости, без любви и уехала в чужую деревню.
А Петр все ходил неженатый. Он теперь целиком занялся хозяйством и торговлей.
…По дороге из Прядеиной в Ирбитскую слободу, верстах в пяти от Устинова лога, как-то сразу, словно грибы после теплого летнего дождя, появились два дома. Дома были одинаковыми, как два брата-близнеца. Сначала их называли Куликовскими хуторами.
Через некоторое время появилось еще два дома поодаль – за полверсты от первых. Они стояли не у самого тракта, а ближе к опушке леса, у небольшой безымянной речонки.
Петру запомнился жаркий августовский день, когда они с Никитой Шукшиным возвращались домой из Ирбитской слободы. Выехали уже после полудня, но солнце еще жгло немилосердно.
Ездили они по торговым делам, а в обратную дорогу нагрузили соли и всяких хозяйственных товаров.
– В такую жару быстрее шагу не уедешь, – сказал Никита, вытирая пот с лица рукавом холщовой рубахи. – Нам бы еще подождать, пока спадет жара, да ехать ближе к вечеру. Ну да ничего, вот завернем сейчас на Куликовские хутора, передохнем в тени, воды напьемся. Вода там уж больно вкусная! Намеднись[46] я проезжал, так сам пил – оторваться не мог, и лошади досыта напились. Колодец там, как нарочно, за оградой, чтобы во двор не заходить, хозяев не беспокоить…
Мужики свернули с тракта и подъехали к колодцу. Петр еще издали увидал, что из ограды вышла женщина с ведрами. Ловким движением она поймала высоко болтавшуюся на веревке колодезную бадью и стала черпать воду.
Когда подъехали ближе, Елпанов разглядел ее.
Женщина была одета чисто и по-городскому: в белую вышитую кофточку с большим воротом, открывавшим стройную шею, и короткую сарпинковую[47], в красную и синюю клеточку, юбку.
Две толстые косы были по-девичьи распущены и опускались ниже талии. Черные, как вороново крыло, волосы были расчесаны на прямой пробор, а на лбу и около маленьких ушей собирались в мелкие кудряшки. Круглое и свежее, покрытое золотистым загаром личико с ямочками на щеках и прямой маленький носик придавали женщине неповторимое очарование, а большие черные, с агатовым блеском глаза и тонкие брови делали ее похожей на цыганку.
– Здоровы будете… А не разрешит ли нам хозяюшка напиться да лошадей попоить? – внезапно охрипшим голосом спросил неуверенно Елпанов, пораженный ее красотой.
– Да пожалуйста, воды в колодце хватит, – озарилась та белозубой улыбкой и встала с полными ведрами, разглядывая проезжих. – Уж не купцы ли к нам на хутора припожаловали? А что везете, люди добрые?
– Эка, купцы! – за двоих ответил Никита. – Из Прядеиной мы… С Ирбитской слободы едем, всякие хозяйственные мелочи везем да соли вот купили…
Никита и Петр поочередно попили воды из ковша, протянутого им женщиной.
– Благодарствуем, хозяюшка, – вода у вас отменная!
– Да на здоровье… А вода-то – такая же, как и у всех, – ответила красавица.
Движением головы она отвела за спину косу, при этом дрогнули и закачались золотые сережки с красными камушками на мочках маленьких ушей.
«А серьги-то у нее такие, что только барыне носить впору, – невольно отметил про себя Петр. – Видно, богатые тут живут люди…»
– Заезжайте к нам в другой раз… воды напиться! – Красавица, улыбнувшись на прощанье, легкой походкой направилась в ограду.
Отъехав от хутора версты три, Никита свернул в лес.
– Ну что, покормим лошадей да и отдохнем малость, пока жара не спадет?
Петр ответил не сразу: в голове, как наваждение, так и вставала картина – улыбающееся лицо, черные волосы да сережки, качающиеся на маленьких ушах…
Никита распряг лошадей; мужики улеглись в тени под березами, пережидая жару.
– А ты не знаешь, кто эта краля, которая с нами у колодца разговаривала?
– М-м-м, – промычал в ответ успевший задремать Шукшин, – бог ее знает, хозяйская дочка, видно, для хозяйки вроде молода еще! Я как-то подъезжал поить лошадь, дак видел старуху в ограде, наверно, мать ее.
Тайна Устинова лога
Никита вскоре задремал, прикрыв лицо картузом. А Петр погрузился в размышления: «В годах уже я. Жениться пора. Вот такую бы я взял и с небольшим приданым». Ну бывает же такое чудо: где-нибудь в самой глуши встретишь то, чего не встретишь ни в одном большом городе! Бывал он и в Екатеринбурге по торговым делам, и в Тагиле, но нигде не видел такой красоты.
С тех пор Петр потерял покой. Много раз перед самым рассветом видел ее во сне, такую красивую, какой увидел у колодца. Он старался подойти к ней, но она все удалялась, как видение или мираж, и улыбалась своими яркими полными губами, показывая прелестные зубки, или манила его куда-то. Петр просыпался, и образ черноглазой красавицы исчезал. Работа валилась из рук, он сам стал замечать, что стоит с недоуздком в руках и не знает, для чего его взял и куда собрался ехать. «Совсем одурел я от этой бабы! Ну на кой она мне нужна? Надо делом заниматься, а не этой чепухой!» Но через час мысли его сами возвращались к тому же, и он вновь и вновь думал о красавице у колодца на Куликовском хуторе. И Петр всячески стал искать причину, чтобы снова попасть на Куликовский хутор. Подходящий случай подвернулся вскоре: понадобилось ехать по делам в Ирбитскую слободу.
…До поворота к хуторам гнал Гнедка немилосердно. С замирающим сердцем подъехал к заветному колодцу. Возле него никого не было. Деревянная бадья, которой доставали воду из колодца, была привязана к твориле[48]. Петр вылез из коробка[49], подошел к воротам. На дворе залаяла собака, створка окна отворилась, и показалась старуха.
Петр подошел к окну:
– Здравствуйте, баушка, дозвольте из вашего колодца лошадь попоить?
– Сколь надо, столь и пои, не моя вода-то – богова!
Старуха захлопнула оконную створку, но Петр опять постучал в переплет рамы.
– Ну, чё еще-то? Сказано тебе – пои лошадь-то, воды в колодце хватит!
– Да я, баушка, из дому ведерко взять позабыл… не из бадьи же поить стану!
– Экой ты молодой да беспамятный! Ну что поделаешь, раз не взял… Заходи в ограду, подам ведро-то…
Петр напоил Гнедка, и, возвращая ведро, сказал, пытаясь завязать разговор:
– Спасибо, баушка, а где у вас хозяйка-то?
– Известное дело, в поле – страда ведь теперь, али не знаешь?
– Да я частенько мимо проезжаю, видел молодую хозяйку, а тебя что-то здесь не примечал…
– Сноху мою ты видел, Соломию, – хмыкнула старуха, – а я здесь не живу, только прихожу днем, со внучкой водиться, дочкой младшего сына, Леонтия, а живу со старшим сыном; у того дети уж большие, в поле ездят.
– Вы вроде недавно тут построились?
– Другой год уж живем!
– А откуда вы родом?
– Дальние мы, а тебе чё надо-то? Спрашиваешь, ровно становой пристав…
– Да к слову пришлось, баушка! Мы вот новгородских корней…
– Ну а мы из-под Казани… – начала было старуха, но в это время из избы послышался детский плач.
– Вот егоза, проснулась уж! Внучка тут у меня маленькая, полгодика еще…
– Бывайте здоровы, баушка!
Елпанов хлестнул Гнедка.
«Ну вот, все сразу и прояснилось, – раздумывал он по дороге, – она замужем, краля-то эта, Соломия, и ребенок есть… Ну тем лучше: с глаз долой – из сердца вон!» Но в глубине души был горький, как полынь, осадок. Как будто нашел дорогую вещь, которую искал всю жизнь, и тут же потерял.
В Ирбитской слободе Петру тоже не повезло – нужного ему человека дома не оказалось. «С дурна ума туда и сюда понапрасну лошадь гонял, – злился на себя Петр, – да еще и в страду!»
Гнедко от длинной дороги устал, Петр распряг его, напоил у небольшой речушки недалеко от дороги, а сам прилег под телегу и задремал.
Сколько проспал, он не знал, проснулся оттого, что кто-то возле него остановился.
– Да никак тут из знакомцев кто есть? – раздался вдруг голос.
Возле телеги присел на корточки Трофим, старик из Прядеиной.
– То-то я гляжу – вроде елпановский Гнедко ходит… Вот хорошо-то, вместе и домой поедем, а то я в Ирбитской слободе к куме зашел да и засиделся…
– Ты распрягай-ка лошадь, дядя Трофим, пусть она с Гнедком попасется, а мы с тобой сядем да перекусим, – предложил Петр. – У меня с собой хлеб, огурцы, лук… сала кусок найдется!
– Не откажусь поесть, я у кумы чаю набузгался, а от чаю-то – какая корысть.
Пока словоохотливый Трофим распрягал свою лошадь, Елпанов достал из телеги котомку и разложил снедь, бросив на траву холстину. Попутчики поели и запрягли лошадей. Когда подъезжали к Куликовским хуторам, Трофим спросил:
– На Кулики лошадей поить заезжать будем?
– Нет, ни за что! – с непонятной старику злостью отрубил Елпанов. – Оттуда до Устинова лога рукой подать, вот там и пей – хоть опейся!
– Господь с тобой, покуда до него доедем, темно станет… А место-то нехорошее…
– Чем это оно тебе нехорошо?! – так и взорвался Петр. Помолчав с минуту, он примирительно добавил: – А отчего место это нехорошее? И почему Устиновым логом его кличут?
– Тьфу ты, черт, не к ночи будь сказано, – перекрестился Трофим. – Вот привязался ты, ровно репей к овечьему хвосту! Темень настала, хоть глаз коли, а нам бы мимо мосточка не заехать…
– Не робей, дядя, я Гнедка в поводу поведу, а ты езжай следом!
Когда проехали мост и дорога пошла из логу чуть в гору, Петр сказал:
– Ты сиди-ка на телеге, раз пужливый такой, а я живо лошадей – и свою, и твою – напою! Ведро-то есть у тебя?
– Как нет – есть… к задку телеги привязано, – приглушенным голосом ответил Трофим.
– Так отвяжи, я сразу с двумя ведрами схожу!
– Не по себе мне что-то, Петр, уж ты отвязывай сам…
Мысленно выругавшись, Елпанов на ощупь отвязал ведро и осторожно шагнул в темноту. Ветки ольшаника, на свету обычно мягкие, теперь жестко топорщились… Путь к воде Петр выбрал на слух, по едва слышному где-то внизу журчанию воды. Когда, набрав полные ведра, он принес их, лошади пить почему-то не стали – ни та, ни другая.
– Выливай скорей воду, – испуганно пробормотал невидимый в кромешной тьме Трофим, – выливай, и поехали, бога ради! Погоди, дай я к тебе пересяду… жутко мне…
В кустах вдруг послышался то ли плач, то ли стон. Трофим дрожащим голосом стал вслух читать молитвы… Даже небоязливого Петра охватила неясная тревога, а когда опять послышался какой-то всхлип-стон, у него побежали по спине мурашки.
Когда они отъехали версты две от страшного места, Трофим сказал все еще дрожащим голосом:
– Ты слыхал, Петр… в ольшанике-то?!
– Ну слыхал, и что с того? Да это, дядя, птица какая-то там живет… Мы, когда в лесу скот от падежа сберегали, так, бывало, чего только за ночь ни наслушаешься! Почище еще, чем здесь…
– Ну нет, Петро, никакая это не птица! Птица, дак она ведь в кажном лесу есть, а тут плачет да стонет в одном только месте, только здесь.
– Да что это за место такое – Устинов лог?
– Вот слушай… Давно дело было… Жил у нас мужик один богатый; больно уж быстро он разбогател – откуда что и взялось! Вот как теперича Северьян Скоробогатый, знаешь ведь такого, так и тот Устин в момент разбогател…
А загинул Устин в логу, который мы с тобой только что проехали. Нашли его с петлей на шее, страшного такого, без глаз – вороны глаза выклевали… Болтали, что не сам в петлю залез, а кто-то его прикончил да и повесил на ольхе уже мертвого!
Поп не дал хоронить его на кладбище – самоубивец, говорил, нельзя его по-христиански хоронить, святотатство, мол, это… Тут же, в кустах, неотпетого и в чем был, висельника и закопали. Но с тех пор, лет, поди, уж двадцать, никому он спокою не дает, Устин-то!
А может, и блазнить[50] начало в этом логу… Сам посуди: тут черемухи видимо-невидимо, калины вдоль по речке – брать не перебрать, а попробуй наших баб заманить по ягоды в Устинов лог! Вот што значит христианская душа без погребения, все не может себе места найти, плачет и стонет, да как жалобно. Будь она не к ночи помянута. Поедем-ка, Петро, скорее, что-то озяб я. Дело к осени пошло – ишь, днем вон как жарило, а сейчас холодно становится. Недаром говорят, с Ильина дня будет конь наедаться и человек высыпаться…
– Да ты так и недорассказал про Устина-то: ограбили его али как? И почему ты думаешь, что убили его?
– Да почем я знаю, я в ту пору молодой еще был, моложе тебя! Раз самоубивец, дак его так и закопали, прямо с петлей на шее, говорят. Выкопали яму, шестом в нее столкнули – и вся недолга! А грабить его никто не грабил: лошадь-то с телегой сама домой пришла, и все, что в телеге было, сохранно оказалось. Кто знает, может, еще с каторги старые дружки отыскались, и такое бывает, кто-то, видно, зло большое на него имел… Ну слава богу, к дому уже подъехали! А ночи-то, смотри-ка, какие долгие стали – все еще не светает!
…После неурожайного пошли годы пообильнее. На елпановской заимке чуть не ежегодно хлеб вырастал по грудь, трава – по пояс, и Елпановы стали круто богатеть. Петр с годами все больше вникал в хозяйство, а уж в торговле лучше отца понимать стал.
На заимке построили просторный дом, баню, большую завозню[51] и конюшню. Весной наняли целую семью работников: мужа с женой и тремя взрослыми детьми – двумя сыновьями и дочерью.
Елпановы закупали зерно для торговли не только в Прядеиной, но и в других деревнях. Богатое село Юрмич, расположенное на хороших плодородных землях, для Елпановых стало сущим кладом: там у них были свои люди, надежные посредники в торговле. Василий Елпанов неспроста построил в Юрмиче большой сухой амбар – зерно в таком могло храниться долго, и когда настанет подходящий момент, можно будет идти с обозом в Тагил.
Все вроде хорошо у Василия Елпанова и в хозяйстве, и в торговых делах, а вот поди ж ты – не всегда спокойно ему спится…
А причина – вот она, окаянная: опять в Прядеину черт принес урядника. Опять на квартиру встал – видать, поглянулось прежнее-то елпановское угощение!
– Здравствуй, Василий Иванович! В прошлый приезд забыл спросить у тебя про работника твоего, Гришку-то. Из Вятской губернии он, мне в деревне сказывали, а нынче приехал – не видать его что-то… хе-хе-хе…
– Доброго здоровья, ваше благородие! Милости прошу… А работник-то у меня – когда где: то на заимке, то в кузне. Откуда он родом – мне все едино, лишь бы ладом робил! Лучше мы сейчас с вами… того – по стопочке!
– Что ж, по стопочке – это можно…
Урядник, довольно крякнув, угнездился за столом, на который Василий сам (Пелагея управлялась со скотиной) собрал закуску. А под хорошую-то закуску по одной стопке кто ж пьет?
Урядник за столом едва не заснул. Василий чуть ли не волоком оттащил его на кровать, и вовремя: тот сразу захрапел. А Елпанову под его храп долго не спалось.
«Дело прошлое, а ну как кроме урядника еще кто-нибудь из волости припожалует? – думал Василий. – А у меня там, на заимке, трое беглых живут. От них самая большая польза, только кормить да одевать. Ефиму – вот тому платить надо, поскольку он вольный… Но ничего, если кто и пожелает посмотреть заимку, повезу того на телеге. Дорога туда – с нырка в нырок[52], а тем временем свой человек, верхом да прямой дорогой, давно уже там будет да предупредит кого надо», – решил Елпанов.
Зимой, когда закончилась основная крестьянская работа, Елпановы повезли в Тагил продавать рожь и пшеницу с заимки. Кроме того, выгребли и хлеб, закупленный загодя в Юрмиче, и снарядили обоз из восьми возов. В дорогу отправились Василий и Петр Елпановы да трое их работников; одного работника оставили на хозяйстве.
Уральская зима, как известно, редко радует хорошей погодой. Бывало, идешь в обозе, а лес будто окаменел от мороза, и мерзнет на лету птица, поднимается снежная буря, и ты не видишь ничего в двух шагах, и кажется, что весь мир отгородился от тебя плотной завесой. В такие метели легко сбиться с дороги – все тонет в дикой пляске и реве ветра, не слышно собственного голоса, снег залепляет лицо, а дорогу переметает поземка, и не остается даже признака, что тут когда-то был санный путь. В глубоких сугробах лошади выбиваются из сил. И как бы ты сам ни устал, шагая целый день на морозе и жгучем ветре за подводой, все равно будешь разгребать снег и помогать лошадям, толкая сани. Во время остановок в деревнях, когда отдыхают лошади, хозяин всю ночь ходит, кормит и поит их, чтобы с третьими петухами опять начать трудный, изнурительный путь. Но хоть и рискованна судьба зимнего торгового каравана – да барыш хорош.
Из Тагила привезли топоры, косы, серпы, лемеха к сохам, листовое железо, гвозди и подковы. Дома посчитали – большой барыш получился. В следующий раз с ними поехал Никита Шукшин с тремя возами хлеба. Не успели вернуться в Прядеину – опять, как снег на голову, нагрянул в деревню урядник и прямиком на елпановское подворье.
– Слыхал я: ты, Василий Иванович, снова в Тагил ездил… Как торговал, что привез? Может, опять новых работников?
– Нет, ваше благородие, никаких я работников из Тагила не привозил! Вот топоры да гвозди – привез, – ответил Елпанов-старший.
И едва язык себе не прикусил: пришлось-таки сызнова угощать урядника, да мало того – еще и подарить лучший топор, да гвоздей сколько нагреб, не считая, «их благородию»…
«А, чтоб тебя язвило, пьяная ты прорва! – думал Елпанов-старший. – Раньше хоть к Агапихе из-за самогона привязывался, а теперь на меня насел… Ну да и мы не из пужливых!»
Орловский рысак Буян
Петр Елпанов стал первым советчиком и правой рукой отца и дома, и на заимке, а торговые дела и вовсе перешли в его руки. Скоро ярмарка в Ирбитской слободе, и Петр старался поспеть туда пораньше, занять место в торговом ряду получше, а кое-кому и взятку дать: без этого и торговля – не торговля…
На Ирбитскую ярмарку наедут со всего Урала. С демидовских заводов – это само собой, а, глядишь, и купцы из самой Сибири, из Тобольска и других городов тамошней губернии пожалуют. Вот тут-то и надо суметь с барышом сбыть свой товар да другой закупить – такой, чтобы и потом в накладе не остаться!
И Петр Елпанов это умел. Но на этот раз его покупка была особенной: на Ирбитской ярмарке он сторговал у татарина-лошадника породистого жеребенка. Хозяин клялся своим богом Аллахом, что жеребенок – чистокровный орловский рысак, даже домой Петра водил – показать мать жеребенка, рослую кобылу с длинными стройными ногами. Петр давно был хорошим лошадником и толк в лошадях знал. В деревне многие завидовали его покупке. Жеребенка Петр назвал Буяном и стал воспитывать и тренировать его сам.
В жнитво пришлось еще нанять сезонных рабочих – урожай выдался на диво всем. Чтобы нагулял хороший вес скот, его пасли под осень на клеверищах и отавах[53], хорошенько его откармливая, а потом гнали гурты в Тагил, Надеждинск, Богословск или в Екатеринбург.
Иногда коров, овец или свиней и домашнюю птицу забивали, а на продажу везли туши мороженого мяса.
Однажды Елпановы привезли с ярмарки листовое оконное стекло и маховую пилу. Многие переселенцы, которые родились и жили еще при господах, раньше стекло уже видели – господские дома со стеклом вместо животного пузыря в окнах назывались светлицами или светелками.
И пилы жители таежного Зауралья видывали: двуручные, лучковые, ножовки – словом, всякие. Но что за штука маховая пила и как ею пользоваться, в деревне Прядеиной пока никто не знал. Посмотреть собирались толпами, будто на рождественские или масленичные гулянья. Елпановы на глазах всей деревни показали, какова маховая пила в работе (и когда они успели-то такой премудрости научиться!). Мужики, которые побогаче, чуть ли не Христом богом упрашивали Елпанова:
– Уж ты, Василий Иванович, будь отцом родным – как поедешь еще раз в завод, так привези ты мне пилу-то эту маховую: ежели к ней приспособиться, так любой тес ею пилить – как семечки щелкать!
Для маховой пилки ставили козлы; один пильщик стоял наверху, другой – внизу, и бревно пилили вдоль по всей длине. Даже в отдаленных деревнях скоро появились мастеровые – пильщики маховой пилой.
Особо мастеровитых знали далеко вокруг, имена-прозвища их были у всех на слуху, и привечали их так же, как до этого – лучших пахарей, косарей или особо умелых молотильщиков.
Осенью, когда подобрались со страдой, Елпановы поехали на Покров в киргинскую церковь, а заодно – в гости к сватам.
Настасья соскучилась по матери, и после обеда она долго шепталась с ней в горенке, рассказывала, как тяжело болела ее свекровь все эти годы, но последний год к ней привязалась еще водянка, а перед смертью она слегла совсем и умирала очень тяжело и долго:
– Вот уже полгода как ее похоронили, а все не могу в себя прийти, – жаловалась Настасья.
– Полно те, чё это ты? Кажись, никогда не была пужливой. Полечиться надо тебе. Приезжай уж к нам в гости, к бабке Евдонихе сходим, все пройдет.
– В эту зиму умер Кирило-косой, – продолжила делится новостями Пелагея, – шел пьяный от зятя после Рождества и упал на дороге. Когда привезли домой, был еще жив, но отморозил руки и ноги. Позвали дедка Евдокима, но лечить было уже бесполезно, руки и ноги почернели, вздулись пузырями, как гусиные лапки перед огнем. Пузыри стали лопаться, а раны мокнуть. Потом пошел по одной руке антонов огонь, больному сделалось хуже, он стал бредить, срывать повязки, бегать по избушке, потом затих и умер.
У Настасьи давно уже было двое детей; старшему, Максиму, пошел шестой год, и парнишка вихрем носился по горнице. Второму сыну, Якову, пошел второй год.
Была нанята нянька, девка лет тринадцати, она же помогала Настасье и по дому. Коршунов после смерти жены сильно сдал – одряхлел, поседел и некоторое время даже был ко всему безучастен.
Пришлось брать на себя все дела Коршунову-младшему. Теперь Платон постоянно был в разъездах. Когда приезжал, был задумчивым или злым: дела шли все хуже и хуже. Елпановы, как бы невольно, стали его конкурентами. Дом в Ирбитской слободе пришлось продать; деньги разошлись неведомо куда.
…Елпановский жеребенок Буян вырос в красивого коня-рысака. Вороной масти, со звездинкой во лбу, с длинными тонкими ногами, Буян был словно вылит из темной бронзы искусным мастером-литейщиком.
Петр мог мигом сгонять на нем на заимку и обратно. Хозяин постоянно тренировал Буяна, приучил рысака ходить и в упряжке, и под седлом. Порой, въехав в лес, Петр, вскочив в кошеве на ноги, что есть мочи заполошно кричал: «Грабят!» – и Буян мгновенным рывком срывался с места. Чего греха таить, иногда летом после бешеной езды по лесным ухабам Петр терял колесо от повозки или возвращался без седельницы в упряжи, а один раз даже лишился узды…
– Нашто гоняешь-то так, куда летишь?! – ругался отец.
Петр, без памяти любивший быструю езду, в тон Елпанову-старшему отбривал:
– А нашто тогда и рысака держать, если ездить шагом?!
Вскоре такая тренировка рысака не только пришлась кстати, но, может, и от смерти Елпанова спасла…
Постоянно бывавший в разъездах, как-то в марте Петр возвращался из Юрмича. Выехал – уже темно было. Путь предстоял неближний, да еще после пороши было ветрено, дорогу во многих местах перемело.
За задком саней бежала собака. Петр не любил ездить с собаками и не брал их из дому, но в этот раз Лыско догнал его далеко за деревней и увязался за ним.
– Ну, раз у тебя ноги добрые, а ум худой, беги теперь в такую даль за санями-то! – усмехнувшись, сказал собаке Елпанов и не стал больше прогонять ее домой. Лыско понимающе вильнул хвостом и побежал за санями.
Перед выездом Петр выпил стакан первача, плотно пообедал, и теперь, тепло укрывшись, начинал подремывать.
И вот он видит сон, что уже дома. Но почему дом полон народу? Все веселятся, поют и пляшут, везде горят свечи, даже на подоконниках. Петр входит в горницу в тулупе, но босиком, и над ним все смеются и указывают на его ноги, ему стыдно, он садится на пол и прячет ноги под тулуп, а все стоят вокруг него, хохочут и указывают на него пальцами. В толпе он видит мать, она тоже смеется. Петр спрашивает: «Мама, что за праздник в нашем доме?» А она отвечает: «Это твоя свадьба, сынок». Петр хочет подняться с пола, но ноги его не слушаются, и он опять садится в кругу всей толпы. Тогда из толпы выбегает Агнишка и подает ему руку: «Я твоя невеста!», но тут вдруг ниоткуда появляется цыганка в ярком пестром наряде, в мгновение ока выхватывает из-за пояса кинжал и бросается на Агнишку, сверкая золотыми серьгами и драгоценными бусами. Но это уже не цыганка, а Соломия. Она со смехом вонзает кинжал Агнишке в грудь и говорит: «Он только меня одну любит!»
Вдруг где-то отчаянно завизжала собака, страшный толчок в сторону…
Елпанов мгновенно проснулся:
– Лыско?! Что с тобой?!
Собака скулила и жалась в кошеве к ногам Петра. Буян стоял на дороге и, прижав уши, встревоженно храпел. Впереди, саженях в десяти, на дороге стоял волк…
Елпанов вскочил в кошеве на ноги и с криком «Грабят!» рванул вожжи, погнал Буяна прямо на волка. Но тут случилось то, чего Петр меньше всего ожидал: из-за стога сена, стоявшего у дороги, наперерез мелькнул десяток темных теней с горящими глазами.
Мартовский наст хорошо держит волка на бегу, но лошадь нипочем не удержит – больно хрупок он для кованых лошадиных копыт. «На обочину нельзя – провалится Буянко, – билось в мозгу Петра. – Ну, выручай, родимый!»
Раздувая ноздри и храпя, рысак рванулся вперед. Два-три волка шарахнулись на обочину. Вырвавшись из рычащего кольца, Буян понесся как вихрь. Теперь уже было не так страшно, но волки гнались за ними и даже в одном сугробе пошли на обгон. Тогда Петр бросил позади кошевы рукавицу. На мгновение это отвлекло волков, они кинулись к рукавице и разорвали ее в клочья. И опять гнались по пятам. Петр бросил вторую рукавицу. Он выбросил из кошевы все сено, но на сено волки даже не обратили внимания. Вот бы теперь огня – сразу бы отстали! Пришлось выбросить и шапку. И тулуп уж с себя снял, но, к счастью, дорога пошла лесом, без заносов и переметов, волки стали отставать и наконец отстали.
Только перед самой Прядеиной Буянко перешел на шаг, тяжело поводя боками, от которых валил пар: верст двадцать пришлось ему отмахать в этот вечер.
– Жалко собаку, наверняка загрызли волки, – с грустью размышлял Петр, – но хорошо хоть сам живой остался, да и коня сберег.
…Прошло уже много времени с того дня, когда он впервые встретил у колодца красивую хуторянку Соломию. По своей натуре Петр был из тех людей, которые никогда не переступят недозволенного. Он никогда бы в жизни не вступил с нею в преступную связь, даже если бы с ее стороны был к этому повод. Он ее любил! И, может, будет любить всю жизнь, этого ему никто не в силах запретить.
После того жаркого летнего дня Соломию он встретил уже поздней осенью. По первому осеннему морозу, когда снегу еще не было, а землю крепко подмораживало, Петр опять ехал мимо Куликовского хутора и подвернул к знакомому колодцу. Из ворот выглянула та же красавица, разрумяненная первым осенним северным ветерком. Теперь одета она была в цветную узорчатую бухарскую шаль и черную бархатную душегрейку, на ногах были бурочки фабричной работы. Так одевались только в Ирбитской слободе богатые купчихи.
Петр поздоровался, попросил разрешения напоить лошадь.
– Кто вы? Откуда и куда путь держите? Зайдите, погрейтесь.
Петр зашел в избу. Там было чисто прибрано, тепло и уютно, на полу домотканые половики, на столе фабричная скатерть, в углу божница с иконами. Все как у всех – не богаче и не беднее.
Соломия разделась, сняла шаль и душегрейку, осталась в простеньком платье. Волосы у нее в этот раз были заплетены в одну косу, стянуты на затылке в большой узел и приколоты шпильками. С этой прической она выглядела старше, солиднее. Только теперь на ней еще были дорогие янтарные бусы и золотое массивное кольцо, видимо, обручальное. При виде кольца у Петра что-то подкатило к горлу, но он не подал виду, грелся и разговаривал с хозяйкой. Мужа ее дома не было. Маленькая дочка, удивительно похожая на мать, делала первые неумелые шаги.
Петр, как бы не зная, спросил у женщины, как ее звать.
– Соломия, – назвалась она.
– А по батюшке как?
– А по батюшке необязательно – у меня отчество трудное: Пантелеевна.
– И совсем нетрудное, а простое, русское.
– А где муж работает? – вежливо спросил Петр.
– У купца в Ирбитской слободе, – на секунду замешкавшись, ответила Соломия.
– У какого же он купца, смею спросить, работает?
– Ой, да не помню я! Да и не интересуюсь я работой мужа! – отшутилась красавица.
– Вы, наверно, сами купец, если всех купцов в слободе знаете? – с любопытством спросила хозяйка.
– Нет, я простой крестьянин, мужик… Спасибо, хозяюшка, отогрелся, ехать надо.
– А вы заезжайте к нам обязательно, как в обратную дорогу поедете. Лошадь отдохнет, и сами погреетесь, – закрывая за гостем дверь, искренне произнесла Соломия.
С тех пор Петр не раз заезжал на Кулики погреться и повидаться с красавицей-хозяйкой, и один, и с отцом. Хозяйка неизменно была дома одна. Встречала их очень приветливо, выспрашивала, что возили продавать, какие на базаре цены. Видать, она была рада приезжему человеку, скучно дома одной. Всегда приглашала заезжать в другой раз. Приветливо улыбалась и была очень привлекательной в разговоре.
Когда отъезжали от двора, Василий говаривал: «Такая красивая женщина, а вот живет на хуторе в глуши». «Ну да, хутор-то их на бойком месте, она новостей знает больше, чем в деревне, – говорил Петр. – А вот мужа ее я ни разу не видел. Видно, он вечно занят делом. Если он робит у купца в слободе, то, наверно, только по воскресеньям дома-то и бывает. Да нам-то какая забота о них? Кто едет, тот и правит».
В это время в масштабах государства происходили большие события. После смерти императора Петра Первого власть стала часто переходить из рук в руки. Сколько сменилось императоров и императриц – каждый старался убрать с дороги ненавистных наследников, претендентов на престол, взять власть в свои руки.
Но здесь, в тихой зауральской деревушке, где не было ни одного грамотного человека, а волость находилась в сорока верстах, церковь – в тридцати, о событиях в государстве никто ничего не знал. В волость ездили по крайней необходимости, а в церковь, в лучшем случае, в Покров да в Пасху. Если все было тихо, пристав приезжал только раз в год – собирать подать. Старосту выбирали на год из своих же односельчан. Если кто хорошо исполнял службу, могли оставить на второй год.
За двадцать два года жизни в зауральской деревне Прядеиной уроженца Новгородской губернии Василия Елпанова выбирали старостой четыре раза. Староста в волость ни на кого не доносил, ни в чьи дела не вмешивался.
В деревне про Елпановых говорили по-разному. Одни хвалили за трезвый ум, трудолюбие, умение наживать деньги, за знание разных ремесел – мол, никакое дело из рук не выпадет. Другие завидовали: да просто везет этим Елпановым, всегда и во всем везет. А деньги – всяк знает: деньги-то, они к деньгам и льнут.
«Петруха-то Елпанов, видать, в купечество метит… От большого ума, знать-то, все еще неженатый ходит», – качали головами старики.
Двадцать седьмой год пошел Петру Васильевичу. Сверстники его уже давно все переженились, по двое, по трое ребятишек у каждого, а он будто ждет чего-то. Конечно, на игрища он уже не ходил, разве что в Троицу боролся на кругу или на своем Буяне участвовал в бегах.
В Прядеиной многие стали держать рысаков, а по праздникам на бега начали приезжать и из других деревень, и даже из богатых сел – Знаменского и Юрмича.
Этой зимой с Петром произошел такой случай. Раз в морозный день, под вечер уже, поехал он домой из Ирбитской слободы.
– Петр Васильич, куда же ты собрался в такую даль на ночь глядя? – спросила старуха, хозяйка квартиры, на которой Петр, бывало, останавливался, а накануне заночевал.
– Да что ты, баушка, солнце высоко, что это я полдня буду сиднем сидеть… Лошадь у меня добрая и клади, почитай, никакой нет. Гляди, солнышко-то – в рукавицах[54], завтра мороз будет. Нет, сегодня поеду!
Сразу со двора озябший Буян взял машистой рысью. Стало сильно настывать. Багровый диск солнца уже краешком коснулся кромки дальнего леса, мороз, как всегда на закате, прижал крепче. Елпанов зябко повел плечами – даже в собачьей дохе мороз-трескун давал о себе знать.
Впереди показался поворот на Куликовские хутора. «Можно бы заехать погреться, да дело к ночи идет, – размышлял Елпанов. – Али заглянуть все же на минутку? – Он вдруг вспомнил красавицу Соломию. – Заехать али нет? В Ирбитскую слободу нескоро сейчас поеду, значит, долго не придется увидеться».
Рука вроде бы сама потянула за вожжу, поворачивая рысака с тракта к хуторам…
Соломия была дома, встретила Петра очень приветливо и ничуть не удивилась, увидев его, словно они встречались часто и в последний раз – где-то на прошлой неделе:
– А, Петр Васильевич пожаловал! Снимайте шубу, грейтесь, а я лошади вашей сена подброшу!
И мигом вышла на улицу.
Петр уже стал отогреваться, когда Соломия, запыхавшись, вбежала в избу, румяная с морозу, с блестящими черными глазами.
– Ох, морозище на дворе! К утру, наверное, как небо вызвездит, еще сильней станет… Я лошадь распрягла – что ей на морозе стоять запряженной-то, и попоной накрыла. А вроде конь-то у вас новый…
Петр приосанился:
– Чистых кровей рысак… орловский… Ну спасибо, Соломия, только зря ты коня накрывала – мне ехать уж пора…
Но та уже хлопотала у загнетки. Вмиг на столе, шипя и потрескивая, появилась сковорода яичницы, соленые огурцы и капуста. Тотчас же Соломия достала из шкафа полштофа самогона и два стакана.
– Это вот уж лишнее, – возразил было Елпанов.
– Ничего не лишнее – в такой мороз одна косушка не повредит! Все ж веселей до дому ехать!
– А благоверный-то твой где?
– В Ирбитской слободе, он с ночевой уехал…
Соломия стала усаживать Петра за стол.
Петр понимал, что ему нужно немедленно ехать – на дворе уже стало темно, зимний день недолог. Но неведомая всемогущая сила удерживала его за столом, и он продолжал сидеть, зачарованный красивой хозяйкой. А она, стрельнув красивыми, с поволокой, агатовыми глазами, уже наливала самогон с какой-то колдовской усмешкой на ярких губах.
– Нешто нынче праздник? – неуверенно спросил Елпанов.
Он чувствовал себя не в своей тарелке, не знал, как себя держать, что сказать. Хозяйку он называл то просто по имени, то принимался навеличивать по имени-отчеству…
– А у меня так: когда гость, тогда и праздник! Ваше здоровьице, Петр Васильевич!
И она первая пригубила из своего стакана. Петр одним духом опрокинул стакан первача, захрустел огурцом, а потом зачерпнул со сковороды ложку яичницы. Через минуту сладкая истома разлилась по всему телу.
– Ох! И крепок же у тебя, Соломия, первач, прямо злодей какой-то!
– Первач обыкновенный. Не лучше, но и не хуже, чем у других… Как и вода в нашем колодце – помните, наверно, Петр Васильевич?
Соломия отставила свой стакан и принялась выспрашивать Елпанова о делах, о поездках на заводы, о том, много ли дает прибыли торговля. Петр уклончиво отвечал, что торговля – дело очень хлопотное, а выгоды почти что никакой…
– Ну, Петр Васильевич, выпейте второй разок, не то на одну ногу хромать станете! – шутливо предложила хозяйка. – А расчет такой будет, Петр Васильевич… Как поедете в Екатеринбург, так привезите мне полушалок кашемировый, с крупными цветами!
– Что тебе супруг-то такой полушалок не купит, он ведь у денежных купцов робит…
– Скуповат он у меня, да и не смыслит ничего в нарядах…
Что и говорить, большая мастерица угощать Соломия! Не успел Елпанов выпить второй стакан, как перед ним уж и третий стоял.
– Да ты что, Соломиюшка, споить меня хочешь?
Петр вроде бы в шутку спросил, но от третьего стакана отказался наотрез.
«Этак еще заночуешь здесь, а как ночевать в дому без хозяина-то?» – пронеслось в захмелевшей голове.
Елпанов встал из-за стола.
– Благодарствую, хозяюшка!
Он надел собачью шубу, шапку, взял рукавицы и пошел запрягать лошадь. Соломия стояла у распахнутых ворот.
– А полушалок я тебе непременно привезу!
Петр тронул Буяна, и кошева выехала со двора. Соломия закрыла ворота.
Засада у моста
Отдохнувший Буян сначала побежал рысью, но Петр перевел рысака на шаг: дорога становилась хуже, а ущербная луна еле-еле светила. «И что же я так засиделся на Куликовском хуторе, – корил себя Петр, – в глухую ночь придется ехать. Нападут еще волки, такая ночь как раз им ход. Верст пять уже проехал, скоро должен быть Устинов лог».
Откосы лога крутые, по самому дну летом вьется маленькая ключевая речка, не замерзающая и в лютые зимы. Берега речки густо поросли ивняком, который вплотную подступал к неказистому деревянному мосточку, перекинувшемуся на другой берег. Каждый раз, подъезжая к логу, Петр невольно вспоминал рассказ деда Трофима.
Младший Елпанов – не робкого десятка, но какая-то смутная тревога всегда охватывала его в этом месте. Вот и крутой спуск. Петр натянул вожжи, и Буян осторожно стал спускаться на мосток, приседая на задние ноги так, что почти на крупе понес передок кошевы. Когда конь передними ногами осторожно ступил на мосток, вдруг из-за кустов выскочили два мужика с топорами и с двух сторон схватили коня за поводья.
– Грабят, Буянко, грабят! – не своим голосом закричал Елпанов, вскочив в кошеве.
Рысак взвился на дыбы и рванул поводья. Один из нападавших не смог удержать повод и отлетел в сторону, другого рысак подмял под себя и птицей взлетел на крутой противоположный берег.
Но за кустами ждала засада – Петру повезло проскочить мимо грабителей. Со свистом нахлестывая лошадей, те погнались следом.
Кони у напавших были добрые, и они гнались за Петром верст пять или больше. Петр, стоя в кошеве, нещадно погонял Буянка. К счастью, дорога была узкая, а стороной по глубокому снегу разбойники не решились обгонять Петра. «Господи, помоги мне! – молил Петр. – Буянушко, вынеси, не подведи!»
Грабители мало-помалу стали отставать и, наконец, отстали совсем. Туман скрыл их из виду.
Не веря в свое спасение, он еще долго погонял рысака. По-прежнему стоя в кошеве, въехал в деревню.
Была глухая ночь, и хорошо – будь это при свете, еще месяц шли бы в Прядеиной пересуды-догадки, мол, откуда это Петруха Елпанов в ночь-полночь пригнал на взмыленном коне?
У своего подворья Петр вышел из кошевы, сам отворил ворота и, въехав во двор, стал распрягать Буяна. Запавшие бока рысака ходили ходуном.
«Упаси бог, уж не загнал ли я его? Сейчас-сейчас, Буянушко, вот остынешь немного – напою я тебя».
Петр разговаривал с конем, как с человеком: кто, как не Буян, уже два раза спасал его от гибели, сначала от волков, а сейчас – от грабителей? Часа два он водил по двору рысака, накрытого попоной, потом вынес из дому теплой воды, напоил его, поставил в конюшню и засыпал в кормушку овса. Когда конь захрустел овсом, Петр благодарно погладил его по шелковистой морде. Пуще глаза он будет теперь беречь такого коня!
А назавтра в кузнице Петр сделал себе кистень: высверлил изнутри гирьку-двухфунтовку, залил свинцом и прикрепил к деревянной ручке прочным сыромятным ремешком. Теперь пусть кто сунется поперек елпановской дороги!
Петр мучился в догадках: неужели нападение грабителей в Устиновом логу связано с его скрытной поездкой на Куликовские хутора? Где был в ту ночь муж Соломии? С чего это она в буднее время вдруг разугощалась, словно в праздник?
И чем дальше думал Петр, тем ясней для него становилось: и ласковый прием, и щедрое угощение на Куликовских хуторах, и старания Соломии оттянуть его отъезд – все это неспроста.
Да, факт был налицо: грабителей навела она. Надо быть осторожным, от них можно всего ждать. А от этой ведьмы Соломии тем более. Ну, слава богу, пока все обошлось благополучно, но могло быть совсем скверно, и звали бы тогда уж не Устинов, а Петров лог. Эти негодяи в живых бы не оставили ни за какой откуп.
– Ты чё, Петро, ночесь шибко гнал на Буянке? – спросил отец, увидев Петра, возвращавшегося из кузницы. – Ты гляди, так ведь и загнать коня недолго, а другого такого где возьмешь-купишь?
– Ты, тятя, не спал, что ли, когда я приехал?
– Да уж какой нам с матерью сон, когда тебя дома нет… В одиночку все ездишь, а народишко здесь всякий… Опасно одному-то!
– А с чего ты взял, что гнал я шибко?
– Как не знать, – усмехнулся Елпанов-старший, – как не знать, когда ты больше часу по двору Буяна-то водил да из избы теплое пойло ему приносил? Сразу видно – не шагом ехал. Не запалил ли Буянка-то? Надо будет еще стародубка[55] напарить, попоить его.
Отец стал допытываться, что случилось, и Петр рассказал о ночном нападении в Устиновом логу, о том, как он угнал от грабителей. Только скрыл он от отца, что заезжал на Куликовские хутора…
– Ради Христа, Петро, никуда не езди больше один! Они сейчас за тобой следить примутся, грабители-то… Эти ироды просто так не отступятся… Они, наверно, где-то недалеко живут. Какие тут деревнешки поблизости – только Харлова, так она в стороне. А Кулики, четыре дома всего, – как раз по дороге! Не с Куликов ли эти «добры молодцы»?! В другой раз уж вместе с тобой поеду…
– Да сиди ты дома, тятя, не много уж от тебя теперь толку-то, – добродушно усмехнулся Петр. А сам, незаметно для отца, погладил карман с кистенем.
…Не одну сотню верст наездил хлебными обозами по дорогам Зауралья переселенец Василий Елпанов. Уж шестой десяток пошел Василию Ивановичу. Всякое лихо повидал – и работу дни и ночи при распашке целины да обустройстве на новой земле, и недород, и засуху… Вроде и отдохнуть бы пора малость, но что-то снова и снова гнало его в дальнюю дорогу, сотни верст ехать, а часто и шагать за подводой.
Вот сват Илларион Коршунов – тот уж давно осел дома. Совершил паломничество по святым местам, и с тех пор – как подменили бывшего прасола и купца Коршунова. Он стал жертвовать большие деньги на церкви, истратил уйму на нищих и убогих.
Когда сын Платон намекал на никчемные траты, Коршунов или ругался, или, вздыхая, говорил ему:
– Деньги, деньги… А что деньги? Их бог дал, вот богово-то я и возвратить хочу! Пожил я для вас, постарался для семьи, порадел, а теперь и о душе порадеть надо, стар уж я… А торговать – это грех, обман! Не обманешь – денег не наживешь, а в убытке будешь… Много за жизнь я нагрешил, а остальное время для души хочу пожить…
– Тятя, коли ты сам не хочешь больше торговлей заниматься, так отдай мне деньги – я сам торговать стану. А без денег какая же торговля?
– Дай срок, придет время, и я отдам тебе и деньги все, и права. Полным хозяином станешь, а пока я еще живой! Память вот подводить стала, но живой я еще, понял ли ты меня? – отвечал старик и продолжал делать все по-своему.
В доме стало полно нищих, странников, каких-то монашек. Платон с отцом часто вздорили из-за денег. В деревне про них говорили разное, и некоторые отзывались о них нехорошо. Особенно язвила молва в адрес старшего Коршунова.
– Коршуновы-то начали беднеть, как Миронья умерла. Она, говорят, огненного змея выпарила, вот все и притворялась больной. А змея-то на деньги завитила. Вот деньги-то он им и таскал. Вон как распыхались. А известное дело, если тот человек умрет, который его выпарил, змей таскать деньги больше не будет.
– Вестимо, с нечистой силой была связана, вон как она мучилась перед смертью-то, целую неделю умереть не могла. Шибко страшно умирала.
– Много Илларион кровушки-то выпил у хрестьян… В третьем годе купил у меня телушку-летошницу, почитай – задарма взял: мне позарез надо было подать просроченную платить, а он уж тут как тут. Известное дело, и фамиль-то у него не зря такая – коршун, он и есть коршун! А теперь, говорят, спохватился – все поклоны Богу отбивает…
Когда человек богат, он имеет силу. Но стоит ему промахнуться где-то и обеднеть, на него обрушивается в десять раз больше всяких насмешек, сплетен и неприятностей.
Конец Иллариона Коршунова
В этот год Илларион Коршунов совсем сдал. За ним стали замечать неладное не только домочадцы и соседи, но и совсем посторонние люди. Да и как не заметишь, если старик учудил такое. Около Ильина дня он потихоньку ушел из дому, ушел босой, в одном исподнем белье. В таком виде он ходил по деревням, выдавал себя за прорицателя. Говорил он иногда довольно связно, мол, скоро наступит конец света и все должны покаяться во грехах; иногда же молол всякий вздор.
Даже те, кто хорошо его знал раньше, теперь ни за что не могли признать в этом сумасшедшем с бородой, в которой застряли солома и всякий лесной мусор, Иллариона Коршунова.
В сорока верстах от Кирги в одной из деревень был смертельно напуган молодой мужик. Возвращаясь ночью домой, проезжал на телеге мимо старого придорожного кладбища. Вдруг из-за кустов появилось привидение и направилось к нему. Мужик чуть не умер от страха, в исступлении хлестая свою полуживую клячу. Привидение еще долго гналось за ним, хватаясь за задок телеги. Приехав чуть живой домой, он занемог и тяжело заболел. Призвали лекаря, но толку не вышло, мужик через неделю умер.
Привидение стало на кладбище показываться и днем. Это был не кто иной, как Илларион Коршунов.
Старика Коршунова изловили и привезли домой. Скоро приступ безумия вроде бы прошел, но он по-прежнему и слышать не хотел о том, чтобы отдать сыну деньги. Говорил, что спрятал их в надежном месте, а где – позабыл напрочь. Платон его уговаривал по-всякому: и просил, и Христом богом молил. Даже пригрозил однажды, что свезет отца в сумасшедший дом, да никакого толку не добился. Видно, старик и впрямь забыл, где его деньги.
После Покрова на первый тонкий снег ударили морозы. У Иллариона опять начался приступ безумия. Теперь он был уже привязан в малухе на холстину. Настасья боялась туда заходить. Платон сам ухаживал за больным отцом. Старик Коршунов почти не спал, к ночи ему всегда было хуже. Он боялся темноты, ему мерещились черти, которых он будто бы ясно видел. Сидел на соломе в изорванной одежде, страшный и худой. Днем иногда у него были проблески сознания. Улучив такой момент, Платон начинал снова спрашивать о деньгах. При одном слове «деньги» на Иллариона опять нападал приступ болезни. Он начинал дико вращать глазами, взор его становился бессмысленным. Кричал: «Грешен я, грешен, нет мне прощения!»
Так прошло месяца два, его лечили как могли, но улучшения не наступало, а на выздоровление не было никакой надежды. Как-то в одну студеную ночь Платон пошел посмотреть в пригоне скотину и заметил, что ставень в окне малухи открыт. Платон кинулся к окну. Рама была выломана, отца в малухе и на дворе не было. Вернувшись к окну, Платон вгляделся и в лунном свете увидел на снегу следы босых ног… Они вели к заплоту, а от него – в поле.
Перепуганный Платон разбудил жену и соседей. Отвязали собаку и пустили ее по следу.
Иллариона Коршунова нашли верстах в двух от деревни, в покрытых куржаком[56] кустах ивняка. Старик сидел на снегу, замерзший насмерть. Труп представлял ужасное зрелище: оскаленный рот застыл, как будто покойный дико хохотал перед смертью, да так и умер; глаза вылезли из орбит и остекленели. Левая рука с растопыренными пальцами завязла в сугробе, видимо, он хотел опереться о землю и встать. Правой рукой ухватился за ветки, она так и застыла. Тело, скрюченное и обледеневшее, с трудом положили в сани и накрыли рогожей. Привезя домой, в избу тело заносить не стали: узнав о страшной смерти свекра, Настасья упала в обморок, и теперь возле нее хлопотала шептунья-знахарка.
Оттаяли замерзшее тело, обмыли и обрядили покойника в малухе.
Вскоре Настасье немного полегчало, но она не успокоилась и тогда, когда свекра уже похоронили. В ней еще живо было воспоминание, как тяжело умирала свекровь, а нынче еще ужаснее умер свекор. Настасья теперь была уверена, что над коршуновским родом висит какое-то проклятие, которое должно распространиться на Платона и их детей.
Припоминались разговоры старух, что у Коршуновых богатство от нечистого. Но в чем именно заключалась причина, она не знала. Прожив в коршуновской семье десять лет, она не заметила ничего особенного.
Мысль о покойнике не покидала Настасью ни днем, ни ночью. Однажды Настасья сеяла муку в кухне и вдруг явственно услышала в горнице шаги умершего свекра. За много лет она научилась различать эти тяжелые шаги, когда он еще был здоров и ходил по горнице, заложив одну руку в карман, а другую за полу кафтана, о чем-то думая, опустив голову, и половицы скрипели под его коваными сапогами. Так и теперь она ясно услышала эти шаги, по спине пошел могильный холод. Сито выскользнуло из рук, на лбу выступил холодный пот. Она оцепенела, боясь оглянуться, а по стене что-то шуршало, как будто кто-то шарил руками. Тяжелые шаги уже раздавались около печи, вот-вот зайдет в кухню. Во рту стало сухо, язык не повиновался, чтобы прошептать молитвы. Вдруг скрипнула калитка и во двор зашла крестная Платона, Евлампея, а вскоре пришел и сам Платон. В горнице все осмотрели, но, кроме кошки, никого не было…
После того как справили сороковины, Настасья с ребятами стала проситься у Платона в Прядеину – хоть недельку погостить, повидать отца и брата.
После поминок денег у Платона почти не осталось, но, подумав немного, муж согласился: он нанялся отвезти на двух лошадях мясо в Тагил и заодно увидеть старых знакомых Коршунова, чтобы попросить в долг денег.
Когда собирались в дорогу, Платон сказал Настасье:
– Помнишь, мать, как мы договаривались, что ты попросишь взаймы у отца? Так попроси, не стесняйся своих-то… Мне бы хоть рублей сто для начала, в пай вступить, а если хорошо пойдет торговля, я бы эти деньги скоро выручил да и вернул долг.
В родительском доме Настасью встретили радушно, но денег взаймы не дали. Отец, чуть не плача, сказал, как бы оправдываясь:
– Настасьюшка, ты ведь нам родная дочь, всё мы видим, всё с матерью понимаем, жалеем вас. А чем мы можем помочь? У нас ведь ни копейки своих денег нет. Петр все забрал себе. Даже не знаем, когда и как это получилось. Теперь тут все его, нашего ничего нет…
Пелагея заплакала:
– Сейчас мы в его воле, хочет – держит нас из милости, а хочет – выгонит. Тогда нам только с сумой по миру идти.
Переломив гордость, Настасья все же попросила денег у Петра. Тот очень удивился и денег ей не дал, ссылаясь на недород в этом году.
– Эх вы! Упустили такой капитал! Разве можно доверять что-то старикам, разве что ограду подметать да навоз убирать, дак и то неладно сделают. И ты тоже хороша! Если уж твой муж такой ротозей и недотепа, надо было тебе самой вникать в дело, следить за стариком, узнать, куда он деньги спрятал. Порадеть бы надо для дома-то. А то дожились, что с одной коровой остались да двумя худыми клячами. Вам теперь не то что сотни, а и тысячи не хватит, чтобы поднять вконец разваленное хозяйство.
Настасья была уж не рада, что заговорила с Петром о деньгах. С того дня гостить ей в родительском доме больше не хотелось. Ей стало казаться, будто за столом Петр злобно посматривает на ее детей, что они много едят. Шалят, играют, шумят, и от них беспорядок. И когда Петр был дома, не только дети, но и взрослые как-то невольно притихали. Точно он был тут всему властелин и все ему беспрекословно подчинялись.
Как-то во время ужина Настасья сказала просто так, не обращаясь ни к кому:
– Надо нам домой ехать, загостились мы у вас, надоели своим криком да шумом. Платон что-то долго за нами не едет. Отвезли бы вы нас домой!
– Ну что вы, неужто надоели? – помолчав, сказал Петр. – Приедет же все равно за вами Платон, а то подумает еще, что гостей не надо стало. Да и некогда мне вас отвозить. Два дня терять надо, дорогу вон как перемело, на заимку кое-как езжу.
Через несколько дней Платон приехал за семьей. Привез гостинцы, пусть дешевые, но всем. Как обрадовались дети и сама Настасья! С радостным сердцем поехала она домой. Теперь уже она поняла, что ее дом в Кирге. Дом мужа, пусть бедный, старый и мрачный, но его нужно любить, обживать, забыть все страхи и дурное прошлое. Пусть они небогаты, не в богатстве дело. Будут заниматься хозяйством, растить детей и довольствоваться тем, что есть. Вот бы еще стариков взять к себе, а то Петро шибко тятю притесняет. Боже мой, как брат изменился за последние годы – и не узнать. Большие деньги, видно, не всем на пользу. Правду говорят, что если хочешь узнать характер человека, дай ему деньги и власть.
Платон тоже не унывал: «Я так и знал, что так будет. Бог с ними, пусть живут как знают, и мы как-нибудь проживем. На готовое надеяться нечего, отец мой тоже все из ничего начинал».
После отъезда Настасьи в елпановском доме опять настала тишина и порядок. Только у родителей на сердце было тяжело, ведь ничем не смогли помочь дочери в трудное время. Платона они уважали за трезвый ум, справедливость и честность и не сомневались, что он отдаст долг. И теперь они были очень недовольны Петром.
Однажды Пелагея заболела и стала упрекать сына:
– На коленках придется ползать да все самой делать, видно, уж умру, не дождавшись замены. Тридцать лет, а все не женишься.
– Женюсь, мама, не беспокойся!
Прошло не так много времени, как Петр заявил отцу о помолвке:
– Тятя, я в нынешний зимний мясоед буду жениться.
– Кто же невеста? – удивился отец.
– Из Ирбитской слободы, дочь купца Овсянникова, звать Елена, по батюшке Александровна, двадцати семи лет, вдова, была замужем за акцизным, он ей оставил кой-какое состояние.
– Ты что это выдумал? – опешил Василий. – Не остарел еще, да за тебя любая девка пойдет. Тебе в Петров день еще только тридцать будет. Зачем тебе вдова, да, поди, еще с кучей робят? Вот что! Ты не дури, парень!
– Детей нет. Отец, она богата, а это все для меня. Ведь Настя не пошла же за батрака Алешку, хоть и любила его, а вышла за богатого Коршунова. Хотя теперь это уже не имеет значения. Коршунов стал из-за своей глупости беднее Алешки.
Для Василия этот разговор с Петром был, как удар обухом по голове. Оказывается, живя в одной семье, под одной крышей, он до сего времени не знал своих детей. Воспитывая в них трудолюбие и страсть к наживе, попутно воспитал еще и жадность. И он больше не сказал ни слова против.
– Жить тебе, ты и думай, уж не семнадцать лет, все с ума уж должен делать. Если женишься на человеке, с человеком будешь жить, а деньги наживешь; если женишься на деньгах, с деньгами будешь жить. Но деньги – дело ненадежное. Уйдут – один будешь жить. Будешь каяться, да поздно будет.
– Что ты, тятя? Недоволен чем? Она ведь не старуха, – искренне удивился Петр, – любую девку тут возьми, какое приданое получишь? Одна голь перекатная. Возьми такую, да и торгуйся с ее отцом о какой-нибудь паршивой телке. Да потом век еще будут говорить – вот какое приданое дали. А Елена – вдова, будь она девкой, я тоже бы к Овсянникову не стал свататься, поскольку он не богаче меня будет, только одно звание, что купец третьей гильдии! Да и семья-то у него вон какая – четыре взрослых дочери да сын. Всем разделить надо. Что бы он мне мог дать в приданое за своей дочерью, шиш! А Елена, она ни от кого не зависит: что от мужа осталось – всему полная хозяйка. Все имущество будет принадлежать мне.
– К ней, что ли, думаешь ехать жить-то? – уже миролюбиво спросил отец.
– Свою деревню на Ирбитскую слободу никогда не променяю. У меня тут заимка дает хороший доход. Вот еще бы арестантов побольше сбегало.
– Ну, на арестантов ты шибко не надейся. Пронюхают в волости!
– Ну и что, пусть нюхают! Приедет урядник – взятку дать можно.
– А если он не возьмет взятку-то?
– Всегда брал, а тут не возьмет? Да с руками оторвет, уж этих подлецов я насквозь вижу: что становой, что урядник – так и глядят, где бы схапать… Нет! Отец, я женюсь на этой вдове. У меня будут родственные связи среди купечества, это раз. Мне надо как можно больше денег, наличного капиталу, чтобы увеличить оборот в торговле, это два. А там, глядишь, и сам вылезу в купечество. Я уж давно смекнул: на одной земле денег много не наживешь.
Богатая невеста
Отец Елены, Александр Нилыч Овсянников, был грамотный и даже образованный по тому времени. Служил управляющим в имении графа в Тульской губернии. Овсянников со своими обязанностями справлялся, и старый граф был им доволен. Но граф умер, и имение перешло к его непутевому сыну – офицеру в отставке. Сын недолго командовал имением – залез в долги, и имение ушло с молотка. Новый хозяин поставил своего управляющего, а старого освободил от должности.
Буквально на следующий год вышел царский указ о заселении свободных земель Урала и Сибири. Овсянников, воспользовавшись этим, переселился с женой на Урал. Вместе с ними приехали его отец и неженатый брат.
Решили попытать счастья, поработав вольными старателями недалеко от Екатеринбурга. Им повезло – сразу напали на богатую золотоносную жилу. Дело быстро пошло в гору. Построили дом, вскоре родилась Елена, но когда дочери пошел седьмой год, жена тяжело заболела и тихо угасла, как свеча. Пришлось Овсянникову жениться второй раз. Жену он взял из семьи местных переселенцев, на десять лет моложе себя. У девицы был тяжелый характер, она сразу невзлюбила падчерицу и держала ее в строгости. Один за другим пошли дети: четыре дочери и один сын. С годами вторая жена совсем подчинила Александра Ниловича; своенравная и властная, она распоряжалась и командовала всем хозяйством и держала своего мужа под каблуком.
Когда Елене исполнилось девятнадцать лет, посватался к ним богатый бездетный вдовец – Евсей Макарович Шапошников. Он был старше ее на целых сорок пять лет. Елена никак не могла поверить, что это всерьез. «Ведь он намного старше моего отца, – думала Елена, – что ему взбрело в голову меня сватать? Неужели батюшка отдаст меня за него? Нет, ни за что не пойду за старика, лысого да противного, лучше вечно жить в девках». В торговые дела отца она никогда не вникала и не знала, что вся торговля у отца зависит от этого человека.
Отец с мачехой долго о чем-то спорили в своей комнате, ее туда не пускали, но она все же поняла, что речь идет о ней и о сватовстве Шапошникова. Наконец отец со слезами на глазах дрогнувшим голосом сказал Елене: «Дочка, мы тебя просватали за Шапошникова, скоро свадьба». Елена горько заплакала, а отец стоял виновато рядом с растерянным видом.
Свадьба была скромной и незаметной. Для венчания был выбран будний день после обедни, когда из церкви ушел весь народ. О помолвке и о свадьбе никому не говорили и не объявляли, знал об этом только очень узкий круг знакомых и родные невесты. Все расходы на свадьбу и на наряды невесте Шапошников взял на себя.
После венчания сразу поехали в дом Шапошникова, который красовался на высоком берегу Ирбитки. Дом был деревянный, двухэтажный, но небольшой, на первом этаже располагалась контора, там занимались делами акцизного его помощник и писарь. На втором этаже были жилые комнаты: кухня и столовая, передняя, гостиная и спальня.
После смерти супруги Шапошников целый год жил один. Прислуживала ему деревенская баба лет сорока, звали ее Арина. Она прибирала в комнатах и готовила хозяину обед, муж ее, Степан, был конюхом и дворником и делал все работы по хозяйству. Прислуга жила во дворе в деревянном флигеле.
Евсей Макарович находился часто в разъездах по делам службы, но Елена привыкла к этому. Когда был он дома – хорошо, уезжал – еще лучше, она никогда ни о чем не думала и не скучала. У нее был спокойный, уравновешенный характер. Каждое дело она выполняла с большой охотой и старанием. Работы по хозяйству было много, и это спасало ее от скуки и от всяких дурных мыслей. Муж, видя трудолюбие своей молодой жены, всячески поощрял ее, всегда привозил ей красивые вещи, но одевалась она хорошо только тогда, когда они шли к кому-нибудь в гости или принимали гостей у себя.
Часто, когда мужа не было дома, к Елене приходила мачеха с детьми. Мачеха стала укорять падчерицу, мол, она должна быть ей всю жизнь благодарна за то, что она ее, Еленку, воспитала и нашла ей богатого мужа.
