Творцы истории. Кто, как и почему сформировал наше представление о прошлом бесплатное чтение
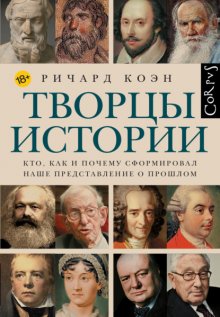
За всякой историей стоит история – например, жизнь историка.
Хилари Мантел, из Ритовских лекций (2017 г.)
Richard Cohen
Making History
The Storytellers Who Shaped the Past
© NARRATIVE TENSION, INC., 2020
© И. Кригер, перевод на русский язык, 2025
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025
© ООО “Издательство Аст”, 2025
Издательство CORPUS ®
Предисловие
Некто задается целью нарисовать мир. В течение многих лет этот человек населяет пространство образами провинций, царств, хребтов, бухт, кораблей, островов, рыб, комнат, инструментов, светил, лошадей и людей. Незадолго перед смертью он открывает, что этот неспешный лабиринт отображает черты его лица.
Хорхе Луис Борхес (1960 г.)[2]
Сначала – о себе. В сентябре 1960 года я поступил в Даунсайдскую школу, в английской глубинке, в получасе езды от древнего города Бат. Школой – католическим заведением для мальчиков – управляло Даунсайдское аббатство: подразделение бенедиктинской общины, учрежденной в Австрийских Нидерландах четырьмя веками ранее и изгнанной в Англию в период Французской революции.
Меня зачислили в группу из двенадцати мальчиков в возрасте от тринадцати (а мне было именно столько) до пятнадцати лет, которым предстояло изучать историю Средних веков. Особое внимание мы уделяли ликвидации монастырей при Генрихе VIII, а главным авторитетом в этом вопросе выступал Дэвид Ноулз, тогда кембриджский профессор истории Средних веков. Отношение Ноулза к монахам в миру было строгим: “Они получили по заслугам”. Лишь к концу пребывания в Даунсайде я узнал, что Ноулз сам был там монахом и по неясным причинам покинул обитель лет за двадцать до того. Мне в голову пришло, что на мнениях Ноулза наверняка сказалось его пребывание в ордене.
После окончания школы я задумался о других авторах, которым мы обязаны тем, как постигаем прошлое. Как их жизнь повлияла на работу? Читая Джона А. Лукаса, я отметил, что у слова “история” два значения: не только само по себе минувшее, но и его описание, и потому всякий автор исторического сочинения есть истолкователь (или истолковательница), преобразующий историю фильтр.
Перечень трудов (даже исключительно на английском языке) о природе истории и о тех, кто ее изучал, велик, и он оставляет много места для самостоятельных поисков. Ближе всего к задуманному мной книга “История историй” (2009) покойного Джона Барроу, который заперся в своем оксфордском кабинете с тридцатью семью избранными текстами[3] и выдал собственное авторитетное сочинение. Барроу указывает, что “почти всех историков, за исключением скучнейших, отличает определенная слабость: отчасти сопричастность, идеализация, отождествление; отчасти возмущение, желание восстановить справедливость, донести посыл. И отсюда нередко проистекает самое интересное в их сочинениях”[4]. Далее Барроу рассматривает, как со временем, под воздействием политических, религиозных, культурных и патриотических факторов, менялось изображение событий минувшего. Но он сосредоточился на древней и средневековой истории, и его в гораздо большей степени занимала историография, а не личности историков. Здесь наши пути расходятся.
Эдуард Гиббон (его рассказ о крушении Римской империи – одна из знаменитейших исторических работ) написал и автобиографию (шесть очень разных версий). Он хорошо знал, что рассказы о прошлом – это по необходимости плоды ума. В неизданной рукописи (Mèmoire sur la monarchie des Mèdes) он размышлял:
Всякий пишущий историю гениальный человек вкладывает в нее – возможно, неосознанно – черты своего собственного духа. У его героев, несмотря на разнообразие страстей и положений, будто бы одна манера мыслить и чувствовать: манера автора[5].
Эти выражения – “гениальный человек”, те, кто “пишет историю”, “манера автора” – требуют разъяснений. Ниже я попытаюсь это сделать, учитывая научное соперничество, требования покровителей, необходимость зарабатывать на жизнь, физические недостатки, перемену моды, культурное давление, религиозные верования, патриотические чувства, любовные отношения, жажду славы. Я также стремлюсь рассказать о смене представлений о том, кто такой историк, и объяснить, почему великие историки именно так, как вышло, изложили свое видение прошлого. Рассказывают, что Мартин Хайдеггер однажды начал семинар словами: “Аристотель родился, работал и умер. Теперь рассмотрим его идеи”[6]. По-моему, такое разграничение едва ли имеет смысл.
Я остановился на авторах, чьи книги выдержали проверку временем: Геродота и Фукидида, Тита Ливия и Тацита, а далее Фруассара, Гиббона, великих историков XIX века до наших дней. Кроме того, я уделил внимание Уинстону Черчиллю (ни в коем случае не великому историку, однако и важнейшему участнику событий, автору в высшей степени убедительному и популярному) и таким фигурам, как Саймон Шама и Мэри Бирд, слава и влияние которых многократно возросли после появления их на телеэкране.
Использовать избранное заглавие может быть самонадеянным, ведь “история” может уместнее выглядеть в скобках: у нее, скажем так, непростое прошлое. При отборе персонажей я в большей степени ориентировался на их “влиятельность”, чем на присутствие в некоем общепризнанном пантеоне. Удивительно, сколь многие из оказавших глубокое влияние на нашу историю людей не назвали бы себя историками. Почти четверть века назад чернокожий историк Уилсон Дж. Мозес отметил: “Историческое сознание не является ни самостоятельным продуктом, ни исключительным достоянием ученых-профессионалов”[7]. Поэтому я остановился здесь на авторах Библии, нескольких романистах, драматурге Уильяме Шекспире (и сужу о нем как о человеке, сформировавшем представления о прошлом у аудитории большей, чем у любого историка или беллетриста) и авторе знаменитого дневника Сэмюэле Пипсе. Кое-кто скажет, что записи Пипса – в большей степени первоисточник, нежели историческая работа. Я считаю их и тем и другим, причем в первую очередь рассказом о том, каково было жить английскому буржуа во второй половине XVII века. Дневники – это также и род потаенной истории, намеренно скрытой от посторонних глаз, шепоты, противоречащие громогласным заявлениям сильных мира сего. Лучшие дневники периода Второй мировой войны принадлежат женщинам (в Италии – Айрис Ориго, в Голландии – Анне Франк, в Германии – Урсуле фон Кардорф). При этом в некоторых странах, например в Австралии, ведение дневника было преступлением и грозило военно-полевым судом. В 1941 году, в начале блокады Ленинграда, ведение дневника поощрялось советскими властями ради сбора свидетельств. Позднее же такие свидетельства подвергались цензуре, поскольку они могли помешать выдать случившееся за массовый ежедневный подвиг.
О всех историках всех времен рассказать явно невозможно. И хотя я сделал все, что мог, исходя из интересующих меня предметов и собственного опыта, я еще один пример того, насколько рассказчик о прошлом субъективен, насколько связан он обстоятельствами, пережитым и временем. При этом борьба за право писать о том, кто мы, борьба за право писать историю наблюдается у всех народов, и наше понимание своего прошлого влияет на то, что мы делаем и во что верим. Джеймс Болдуин писал:
История не отсылает только, или даже главным образом, к прошлому. Напротив, своей великой силой история обязана тому, что мы носим ее в себе, что мы неосознанно руководимы и направляемы ею во многих отношениях, что история буквально присутствует во всем, что мы делаем. Едва ли может быть иначе, ведь именно истории мы обязаны своими системами отсчета, своим самосознанием, своими надеждами[8].
Несколько лет назад, в самом начале работы над этой книгой, в Амхерстском колледже (штат Массачусетс) я прочитал доклад группе преподавателей истории. После выступления подошел профессор истории Латинской Америки, похвалил лекцию, а после произнес: “Вы избрали горизонтальный подход к предмету, а мы здесь предпочитаем вертикальный. В Амхерсте вы никогда не попали бы в штат”. Это деление по геометрическому признаку не кажется мне убедительным, но историков из наших университетов может не устроить даже такой широкий критерий.
В середине 1960‐х годов, когда я учился в Кембридже, деканом исторического факультета был Джеффри Элтон, знаток эпохи Тюдоров. В 1967 году он напечатал книгу “Практическая история”, в которой утверждал, что настоящую историю пишет лишь “профессионал”, а “отличительный признак дилетанта – отсутствие инстинктивного понимания, склонность отыскивать странности в прошлом или его отрезках. Профессионал совершенно на это не способен”[9]. В конечном счете, по словам Элтона, арсенал историка-профессионала (в отличие от любителя) составляют “воображение, обуздываемое ученостью и эрудицией, а ученость и эрудиция делают воображение продуктивным”. Из разговоров с Ричардом Эвансом (до недавнего времени профессором королевской кафедры современной истории в Кембридже, блестящим знатоком немецкой истории XX века) я узнал, что взгляды Элтона еще сохраняют свое влияние. С точки зрения Эванса, ни один биограф, ни один мемуарист, вообще никто из тех, кто подходит к своему предмету с идейных позиций, не вправе быть историографом. В валлийских часовнях может быть очень одиноко.
Объективность – очаровательная идея, но когда в 2011 году я спросил девяностодвухлетнего Эрика Хобсбаума, может ли историк быть объективным, он рассмеялся: “Нет, конечно. Но я стараюсь следовать правилам”[10]. Большинство современных авторов так или иначе стараются не скрывать свои предрассудки. Арнольд Тойнби заметил: “У каждой нации, у каждого народа есть стратегия, сознаваемая или несознаваемая. А те, у кого ее нет, становятся жертвой стратегии других народов”[11]. Следует помнить, что объективность тоже может быть стратегией.
Избавиться от всех предрассудков невозможно. Есть они и у меня. Но именно такова моя задача. Некоторые сюжеты я выбрал потому, что они заинтересовали меня, но, как правило, я предпочел тех историков, которые особенно сильно повлияли на наши представления о прошлом. Признаю, что мой выбор может покоробить и даже вывести из себя “профессионального” историка. Я вовсе не упомянул или отвел минимум места таким выдающимся деятелям, как Кассий Дион, граф Кларендон, барон де Монтескье, Жюль Мишле, Джамбаттиста Вико (это он придумал философию истории), Франческо Гвиччардини, Теодор Моммзен (единственный профессор истории, получивший Нобелевскую премию по литературе), Якоб Буркхардт (Лукас видит в нем, вероятно, крупнейшего в последние два века историка), Фрэнсис Паркмен, Томас Карлейль (его историю Французской революции Саймон Шама поместил на восьмое место в списке десяти лучших исторических трудов – за “вулканические литературные извержения”[12]), Генри Адамс, Ф. У. Мейтленд, Йохан Хейзинга, Питер Гейл, Эдуардо Галеано (великий историк Латинской Америки), Гао Хуа (выдающийся летописец восхождения Мао Цзэдуна к власти) и его наставник Чэнь Инькэ, специалисты по устной истории Стадс Теркел (его редактором я однажды выступил) и Оскар Льюис, всеядный австралиец Роберт Хьюз и, наконец, Рон Черноу (написанная им биография Александра Гамильтона легла в основу самого популярного мюзикла XXI века). Кроме того, я считаю, что сейчас поистине золотое время, и у меня есть список более чем тридцати современных историков, опубликовавших важные книги. Здесь я их не называю (кроме некоторых, добившихся широкого признания с помощью телевидения), поскольку рано судить, чего они будут стоить в будущем.
В целом (но не строго) я придерживаюсь хронологии. Предлагая несколько магистральных тем, я рассчитываю постепенно выяснить, как складывались наши оценки прошлого и что с ними происходило после отказа от них; как с течением времени изменялась практика использования источников (от архивов до свидетельств очевидцев и “безъязыких” зданий, могильников и кладбищ, объектов материальной культуры); какова природа предвзятости, вызванные ею ошибки, а также, как ни парадоксально, ее сила (ведь соединенный с талантом сильный субъективизм историка может оказаться благом); каковы отношения историка с государством и патриотами; какова роль нарратива и каковы отношения между ним и истиной.
Люди называют великий труд Геродота “Историей”, но ученые уточняют: греческое слово – Ἱστορίαι – означает скорее “изыскание”, “исследование”. Называть его “Историей” означало бы принизить оригинальность сочинения. Я бы хотел рассказать о тех, кто сформировал образ прошлого – то есть, по сути, дал нам прошлое, – и считаю, что греческий путешественник две с половиной тысячи лет назад ввел в употребление особого рода изыскание, учитывающее географию, этнографию, филологию, генеалогию, социологию, биографику, антропологию, психологию, воображаемые реконструкции (как в искусстве) и множество иных видов знания. Тот, кто демонстрирует столь большую любознательность, должен с гордостью носить имя историка.
Вступление
Монах в миру
Мы можем попытаться уменьшить его, смягчить, но никогда не достигнем совершенства. Неустраним субъективный фактор, его деформирующее присутствие… Так что в идеальном смысле мы всегда имеем дело не с реальной историей, а с рассказанной, представленной, с той, каковой – как кому‐то кажется – она была, с той, в которую кто‐то верит.
Рышард Капущинский (2007 г.)[13]
Летом 1963 года кембриджские друзья, ученики и коллеги преподнесли Дэвиду Ноулзу (1896–1974) сборник его статей по случаю отставки с поста королевского профессора современной истории – одного из самых престижных, доступных историку. Всю вторую половину XX века Ноулз считался ведущим специалистом по религиозной истории Англии, крупнейшим ученым после великого правоведа Фредерика Уильяма Мейтленда (умер в 1906 году). Ноулз изучал поразительно долгий отрезок времени – примерно с 800 года до конца XV столетия, издал двадцать девять книг и пользовался огромным авторитетом в Англии и за ее пределами. Его называли “поэтом среди историков”[14], “одним из могучих дубов в лесу, поэтом, пишущим в прозе”[15], “непревзойденным… [и] несравненным”[16].
Юбилейный сборник начинается с биографического очерка[17]. Родители Ноулза назвали сына Майклом Клайвом; имя “Дэвид” он получил, приняв постриг. Сразу после окончания учебы в Даунсайдском аббатстве Ноулз вступил в эту монашескую общину. С 1923 года он преподавал в школе и тогда же начал писать. В 1928 году, в возрасте тридцати двух лет, его назначили наставником новициев: тех, кто готовился вступить в орден. В 1933 году Ноулз перебрался в приорство Илинг, форпост Даунсайдской обители, и посвятил себя работе над своей главной книгой “Монашеский орден в Англии”.
Остальное место в тексте занимает бесконечное перечисление его книг, статей, лекций, преподавательских должностей и академических наград. В 1944 году Ноулза избрали в совет кембриджского колледжа Питерхаус, а в 1954 году Уинстон Черчилль назначил его королевским профессором; так Ноулз стал на этом посту первым после лорда Актона (1895) католиком, а также первым (возможно, и последним) со времен Реформации католическим монахом и священнослужителем. “Широкой публике стало ясно, что появился первоклассный историк-медиевист”, – продолжает автор очерка Уильям Эйбел Пэнтин, медиевист и оксфордский друг Ноулза.
И здесь вы, вероятно, ждете “но”. Жизнеописание умалчивает и о грандиозном бунте в Даунсайде, поднятом Ноулзом, и о самых важных в его жизни отношениях – с женщиной – в последние тридцать пять лет[18]. В юбилейном сборнике помещен вычищенный вариант биографии, который много лет распространяло аббатство. И все же именно тяжелые времена сделали его историком, внушающим такое уважение. Кроме того, они иллюстрируют некоторые основные темы этой книги. Я отдаю себе отчет, что читателю-неангличанину в середине XX века монашество может показаться предметом темным, и хотя при жизни Ноулза чествовали, в наше время о нем почти позабыли. Но наберитесь терпения. История его жизни не только исключительно драматична. Она показывает, как у человека формируется понимание прошлого сквозь призму его представлений и предрассудков, и послужит нам ориентиром по мере того, как мы переходим от века к веку и от историка к историку.
Выше я рассказал, как познакомился с работами Ноулза и поразился его враждебности по отношению к монашеским орденам (ведь сам он был монахом) в Англии до их роспуска [Генрихом VIII]. В марте 2010 года я отправил электронное письмо даунсайдскому аббату Айдану Белленджеру, изучавшему в Кембридже историю Средних веков и получившему там докторскую степень. Знал ли он Ноулза? Да, знал: “Я могу многое вам рассказать”. Через несколько недель его преосвященство пригласил меня в свой крошечный кабинет в аббатстве. “Два последних дня я размышлял о Дэвиде Ноулзе, – заговорил он. – Видите ли, у нас есть его неопубликованная автобиография”. И со смешком ответил на немой вопрос: “Да, разумеется, вы сможете ее прочитать”. И я, расположившись в монастырской библиотеке за особым столом, ознакомился с рукописью.
Ноулз начал работать над автобиографией в 1961 году, в возрасте шестидесяти пяти лет[19]. Рукопись в целом была завершена в 1963–1967 годах, многократно переписывалась и теперь существует в трех вариантах (самый длинный занимает 228 страниц), но Ноулз правил текст и в 1974 году – в том же году он умер. В некоторых местах есть разночтения, из других исключены слишком интимные фрагменты. Варианты различаются интонацией и мерой откровенности, но вместе они демонстрируют сильные стороны его опубликованных работ: сильное чувство места, точный анализ характера, многочисленные литературные реминисценции, строгая религиозная основа.
Дэвид Ноулз родился в семье протестантов (не англикан) и истовых либералов, занимавших самый большой дом в уорикширской деревне близ Стратфорда-на-Эйвоне (на деда по отцовской линии работала добрая половина ее населения). Дэвид был единственным ребенком в семье и обращался к отцу “сэр”. Несмотря на эту формальность, между ними были близкие отношения. Гарри Ноулз привил сыну любовь к деревне, старым домам и крикету, а также к литературе. Ноулз пишет, что отец “оказал глубокое влияние на мои ум и характер и с младенчества был моим самым близким и дорогим другом”.
Ноулз-старший (преуспевающий торговец лесом, также изготавливавший граммофонные иглы для His Master’s Voice) был очень увлечен идеями кардинала (теперь уже святого) Джона Генри Ньюмена, крупнейшего английского католического автора конца XIX века. В 1897 году Гарри Ноулз вместе с женой обратился в католичество (их сыну тогда было двенадцать месяцев). По решению Ноулза-старшего, его единственный отпрыск до десятилетнего возраста не посещал обычную школу. Дэвид рос изолированно, в большом доме, с излишне заботливой матерью, имевшей, однако, хрупкое здоровье. Первыми его книгами стали Вальтер Скотт и Марк Твен, “Черная стрела” Стивенсона и “Лорна Дун” Блэкмора, но, как ни странно, не Диккенс. Мальчик наизусть знал оперетты [Уильяма] Гилберта и [Артура] Салливана, а также полюбил железную дорогу (он усвоил графики поездов настолько, что пришел в восторг, найдя опечатку в расписании поезда на остров Мэн). Он был одинок, впечатлителен и не по годам умен. И в одном Дэвид уже был уверен:
Не припомню, когда впервые узнал, что буду священником. Я говорю “узнал” потому, что ни разу в жизни я не обдумывал это и не решал (и мой отец никогда не высказывал пожелание по этому вопросу), но я, вероятно, был уверен в этом перед первым причастием [принимаемым обычно примерно в девятилетнем возрасте], поскольку очень ясно помню, что представлял, лежа в постели, вечер, когда и где состоится мое последнее причастие, и видел себя священником, принимающим его.
В 1906 году (т. е. до тринадцати лет) Дэвида определили в Вест-хаус – католическую приготовительную школу в пригороде Бирмингема. Четыре года спустя он получил стипендию на учебу в Даунсайде.
Монашеская община ведет начало от группы английских и валлийских монахов, которые в 1606 году собрались в Дуэ, находившемся в то время в испанских Нидерландах (ныне в Бельгии), и образовали монастырь Святого Григория Великого. В 1795 году монахов интернировали, а затем выслали из страны, и те обосновались в Англии – сначала в Шропшире, а в 1814 году – в Маунт-Плезант, среди холмистых сельских пейзажей Сомерсета, на полпути между Батским и Гластонберийским аббатствами.
К 1840‐м годам Даунсайд стал домом для более чем шестидесяти детей в возрасте девяти – девятнадцати лет, главным образом из зажиточных буржуазных семей. В 1909 году Майклу Клайву Ноулзу исполнилось тринадцать, и он поступил в школу, насчитывавшую до двухсот учеников. Среди однокашников с их (по словам Ноулза) “озорством, консервативностью, сладострастием, безжалостностью и пылким идеализмом” он жил как “кусок плавника в реке”, подверженный влияниям и искушениям жизни интерната для мальчиков. На третий год пребывания в школе он свел дружбу с Джервесом де Блессом (его отец был барристером, а мать происходила из старинной католической семьи). Джервес был на два года младше, начитан и много повидал. “Внезапно, неожиданно, – записал Ноулз, – без всякого опыта и без упреждения я оказался захваченным, увлеченным глубоким чувством”.
В спальне после отбоя мальчики шепотом разговаривали обо всем на свете.
Глубокая, насыщенная связь с умом и характером Джервеса придала всей моей жизни новую силу. Прежде со мной такого не случалось, и я чувствовал, что ради этого стоило потерять все. И все же, позволив этому занять целиком мои мысли, я столкнулся с тьмой и опасностью… С образом чего‐то такого, что навсегда останется желанным – и недосягаемым.
Эта дружба радовала и терзала Ноулза, поскольку, как явствует из его воспоминаний, де Блесс не признавал близких отношений и выбрал себе в друзья других детей. Ноулз, не желавший признавать границ, вел себя как ревнивый воздыхатель, не знающий, как реализовать свои желания, и разорвал отношения. Директор однажды сказал ему: “Ты поступаешь как ревнивая женщина – причиняешь боль тому, кто не причинил тебе вреда”. В автобиографии Ноулз бранит себя и цитирует А. Э. Хаусмана: “Раздай гинеи, фунты, // Но сердце – не дари”[20].
К сентябрю 1914 года страдания Ноулза достигли предела: “Я отдал свое сердце Даунсайду и Джервесу, и в обоих случаях не сумел найти то, что хотел”. В том году Ноулзу исполнилось восемнадцать лет, и школьное обучение подошло к концу. Ноулз был незаурядным учеником, в конце учебы он организовал первую крикетную команду и играл “с воодушевлением, хотя и не особенно ловко”[21]. Кроме того, Ноулз редактировал школьный журнал и взялся сочинять роман.
Через несколько месяцев началась Первая мировая война. Ноулз уже годился для военной службы, но в аббатстве ему предложили стать послушником, и он получил отсрочку. Теперь ему нужно было соблюдать в течение года устав бенедиктинцев, затем принять обет и остаться в монастыре еще на три года. Скоро он понял, что послушники почти совершенно изолированы. Устав запрещал читать газеты и любую светскую литературу. (Это не помешало ему выучить наизусть “Макбета”.) Режим был суровым. Сутки начинались c подъема в половине пятого утра и заканчивались около одиннадцати часов вечера, после повечерия. Затем наступало время великого молчания, когда запрещено говорить и производить лишний шум.
Джервес отправился мичманом на флот только для того, чтобы умереть в марте 1916 года. Находясь на линейном крейсере “Ревендж”, он заболел гриппом и умер от гипогликемических судорог. Ноулз был убит горем (и в следующие полвека носил в молитвеннике лепестки синих цветов с могилы де Блесса) и терзаем вернувшимися угрызениями совести, причем горше ему становилось от того, что мать друга относилась к нему почти как ко второму сыну[22]. Норман Кантор (американо-канадский медиевист, писавший о жизни Ноулза) отмечал: “Неудачная попытка попасть на войну, во время которой многие друзья погибли в грязи и крови Западного фронта, стала для него грузом вины и вместе с тем аргументом, что его служение Богу в качестве монаха и священника должно быть совершенно особого рода, тяжким, чтобы оправдать сохранение его жизни”[23].
Что это за “совершенно особое” служение? По мнению Ноулза, служба в приходе или преподавание ему не подходили:
Я начал сознавать, что есть напряжение, которое нужно выдержать, два вопроса, которые требуют ответов. Первый таков: можно ли соединить монашескую жизнь, путь к Господу, со всеми светскими интересами – к литературе, искусству, путешествиям, играм и досугу? Второй относился к Даунсайду и тому времени: согласуется ли приходская работа вне монастыря с чисто монашеским призванием?
Этот фрагмент есть в первом варианте автобиографии. В окончательном варианте он тщательно зачеркнут красными чернилами.
В 1917 году Ноулз, пользуясь краткой отлучкой из аббатства, посетил на севере Корнуолла общину кармелиток. На него произвела впечатление подвижническая жизнь этих монахинь, отринувших все связи с миром. Вернувшись в августе в Даунсайд, он попросил о встрече аббата Катберта Батлера, автора сочинений о мистицизме и духовности, чье внушительное присутствие уже повлияло на юного Ноулза. Он объяснил Батлеру, что считает жизнь в аббатстве “слишком легкой, слишком мирской” и что он “по‐прежнему чувствует сильное призвание к более строгой монашеской жизни”. Не должен ли он стать монахом-картезианцем? (Члены этого ордена, основанного в 1084 году, посвящают себя уединенному труду и молитве.) Батлер предостерег его от спешки, и они договорились, что Ноулз отложит принятие решения на пять лет. В октябре 1918 года, в возрасте двадцати двух лет, Ноулз принял постриг.
Батлер посоветовал Ноулзу читать о Клюни, великой средневековой обители, воплотившей монашескую традицию континентальной Европы, и тот, расположившись на верхнем этаже аббатства, в помещении настолько холодном, что приходилось работать в халате поверх рясы, приступил к изучению истории бенедиктинцев. Но чем больше Ноулз воодушевлялся, тем больше у него возникало вопросов:
Утверждалось, что монашеское призвание отличается от апостольского и что св. Бенедикт требовал от монахов, чтобы те оставались в своем монастыре до самой смерти. Жизнь в приходе… почти не отличается от жизни белого духовенства, и это являло собой контраст с общинной жизнью и богатым богослужением в Даунсайде.
Первоначально монастырская община насчитывала пятнадцать – двадцать человек (в следующие несколько десятилетий оставалось примерно столько же). Но “постепенно, незаметно… приближались большие перемены”. К началу 1920‐х годов монахи начали строить школу-интернат более чем для полутысячи мальчиков. К огорчению Ноулза, эта затея требовала все больше сил и средств аббатства.
Новый отъезд из монастыря на некоторое время отсрочил личностный кризис. Со времен Батлера умнейших из послушников стали отправлять в Кембридж, чаще всего в колледж Христа, с которым у аббатства имелась договоренность, и вскоре Ноулз стал студентом и приступил к обычному трехлетнему курсу очного обучения. Он задался целью стать лучшим учеником – и стал[24], но почти сразу же “первое мгновение восторга сменилось осознанием того, что не это – та цель, к которой настоящий я с таким упорством стремился”. Конфликт между умственными запросами и жизнью в молитве обострили размышления, подходит ли ему Даунсайд. В 1922 году Ноулз со смущенной душой вернулся в аббатство.
Другие монахи этих терзаний почти не знали. Жизнь Ноулза, казалось, текла гладко, он взрослел и становился увереннее в себе. Ноулз, кроме обильного чтения духовной классики, давал двадцать восемь уроков в неделю, а во второй половине дня надзирал за матчами в регби и крикет. Кроме того, он взялся служить в одном из местных евхаристических центров. То было хлопотное время, и Ноулза даже стали считать будущим аббатом.
Наконец, приобретя после пострижения право пользоваться монастырской библиотекой, он засел за крупнейших английских поэтов и великих историков – Маколея и Гиббона, древних греков и римлян. Четыре года спустя издательство Оксфордского университета неожиданно предложило ему написать краткую биографию полководца-конфедерата Роберта Э. Ли. Так родилась его первая книга. В примерно двухсотстраничном очерке о Гражданской войне Ноулз нарисовал романтическую картину того, как индустриальный Север сокрушил рыцарственный Старый Юг (в Америке, заметим, он никогда не бывал), которому приписал высокие идеалы и благородный образ жизни, которых не находил в собственной общине (он наделяет Линкольна многими качествами, которые приписывал идеальному аббату). Популярность книги (как и успехи в Кембридже) он не признал и отверг свои достижения как “помеху памятованию о жизни в молитве… [и] отрицание глубокого, истинного движения к Господу”.
Выполнение поручения позволило Ноулзу отлучаться из аббатства и заниматься в Оксфорде. Следом он взялся за “Века бенедиктинцев” (1927): проект идеальной монашеской общины, узкого круга интеллектуалов и одновременно людей глубоко верующих. Нетрудно увидеть здесь завуалированный выпад против, по его словам, “прошлого и нынешнего положения Даунсайда”. Батлера, ушедшего с поста аббата вскоре после рукоположения Ноулза, сменил директор Линдер Рэмзи, симпатизировавший Ноулзу. К лету 1928 года в Даунсайде планировали пристроить крыло к зданию монастыря и расширить библиотеку. Ноулз воспротивился и тому и другому, и споры кипели до следующего года, когда Рэмзи неожиданно умер. Ноулз почувствовал, что его пребыванию в аббатстве приходит конец.
Он подумывал о возвращении в Кембридж, чтобы возглавить Дом бенедиктинцев, вновь открытую в 1919 году гостиницу для “черных монахов”. Увы, тем летом машина, в которой ехал Ноулз, столкнулась с молоковозом Nestlé, и он едва не погиб: от удара о ветровое стекло открылось горловое кровотечение, к тому же он получил серьезный ушиб головного мозга. Последовали две операции. Ноулз опасался, что ослепнет на один глаз. Хотя худшего удалось избежать, его здоровье было подорвано. (“Моя молодость кончилась”, – отметил в автобиографии Ноулз.) По воспоминанию коллеги, несчастный случай совершенно расстроил его психику, и впоследствии он проявлял “строптивость”.
Выздоравливающему тридцатидвухлетнему Ноулзу сообщили, что двенадцать месяцев он будет исполнять обязанности наставника послушников. Когда этот срок истек, новый аббат Джон Чэпмен не отослал его обратно в Кембридж, а назначил наставником монахов, еще не принявших сан. Ноулз также стал редактором Downside Review, вскоре превратившийся во влиятельнейший в Англии католический журнал. Однако Ноулз злился на Чэпмена, лишившего его шанса на университетскую жизнь, и называл настоятеля человеком нерешительным и нетерпимым, “ожесточившимся против критиков и никогда не забывающим, что они сказали или сделали”.
Внешний мир 1920‐х годов (во всяком случае, мир людей состоятельных) после многих лет кровопролития предавался удовольствиям, его наполняли звуки джаза. Вероятно, отчасти из противоречия, образ жизни Ноулза постепенно становился строже, а круг его предпочтений сужался. К 1930 году он перестал читать беллетристику, слушать музыку и даже играть в теннис и сквош, хотя и мог (даже после аварии Ноулз имел мускулистое тело и походку быструю и энергичную). За всю оставшуюся жизнь Ноулз посмотрел всего шесть кинофильмов (еще немого периода) и ни одного спектакля. Радио он слушал один раз в год, в сочельник, когда передавали рождественские гимны. Телевизор он смотрел по двум поводам: трансляцию крикетного матча и интервью с мятежным родезийским лидером Яном Смитом. Письма, которые Ноулз прежде заканчивал формулой “любящий Вас”, теперь заканчивались так: “Ваш – для Него”.
У Ноулза всегда было худое, почти без морщин, лицо с тонкими губами, впалыми щеками и маленькими пронзительными глазками, но теперь его черты, обрамленные серо-стальными коротко остриженными курчавыми волосами, будто обострились. Его манеры свидетельствовали о решительности, а также об отстраненной холодности аскета.
Тем временем аббат Чэпмен вынашивал планы, и против большей их части Ноулз горячо возражал, поскольку аббат отдавал приоритет школе, а не культивированию монашеской жизни: слово “монастырь”, как подчеркнул Ноулз, происходит от греческого μόνος, “один”. Первую половину 1930 года он назвал “самыми тяжелыми шестью месяцами жизни”. Вскоре у него нашлись единомышленники, согласные с тем, что Даунсайд сбился с пути. Благоговевшая перед Ноулзом горстка монахов (“смиреннейшая и усердная братия” – главным образом послушники и молодые монахи) спрашивала, не возглавит ли он поиски иных видов монашеской жизни.
Затем, в июне, появилась идея, захватившая воображение Ноулза и показавшаяся ему выходом из затруднительного положения. Несколькими годами ранее Даунсайд получил щедрое пожертвование от австралийца, пожелавшего организовать у себя на родине бенедиктинскую общину. Ноулз вызвался встать во главе такого форпоста вместе со своими учениками (к тому времени девятерыми). Они взялись убеждать и других монахов, но Чэпмен снова развеял надежды Ноулза, и они принялись обмениваться сердитыми письмами. С точки зрения аббата, Ноулз становился безрассудным, маниакальным, эксцентричным – настоящей занозой.
Чэпмен, избегавший встреч с Ноулзом, однажды написал ему: “Я не хочу сказать, что вы дурные люди, однако вам недостает монашеского призвания”. Принять такое было трудно: смутьяны полагали, что как раз аббатство отошло от первоначальных устремлений святого Бенедикта. Интриги продолжились. В августе 1933 года Чэпмен обвинил Ноулза в нарушении порядка и непослушании и назвал своего подчиненного “центром урагана… Ненадежным и непослушным субъектом, который вводит в заблуждение молодых монахов… Соперником, которого следует сокрушить”[25].
Все “радикалы” были на несколько лет моложе Ноулза, и трое из них принесли простые клятвы или временный обет. Не добившись действенной поддержки остальной братии, они прекратили борьбу и подчинились воле аббата. Ноулзу сообщили, что его отсылают в подчиненное Даунсайду приорство в Илинге, мелкобуржуазном районе на западе Лондона. В эту, по словам Ноулза, “беспечную обитель четвертого сорта” с четырнадцатью монахами, отправился беспокойный священник.
Ноулз все же не угомонился и жаловался, что с ним обошлись несправедливо. В ноябре аббат Чэпмен умер. Ноулз, мастер портретных зарисовок, считал нового настоятеля Бруно Хикса “сухим, не располагающим к себе, ненадежным, изворотливым, как змея, и совершенно не заслуживающим доверия”. Хикс посоветовал Ноулзу обратиться в Рим, в конгрегацию, ведающую делами монашеских орденов. Так тот и сделал. В июне 1934 года его прошение отклонили, и Пий XI, по словам Ноулза, дал “ответ довольно бессодержательный”. Ноулз пришел в ярость: “Примас показал себя не дубом, а ивой”. С тех пор он в основном перестал участвовать в жизни приорства, сведя к минимуму свои церковные и учительские обязанности, в трапезной, если с ним не заговаривали, не говорил и избегал посетителей. Эти шесть лет Ноулз провел в основном в Британском музее и Лондонской библиотеке, погрузившись в работу. Однажды вечером (шел 1939 год) сорокатрехлетний Ноулз взял минимум одежды, Новый Завет на греческом, осеннюю четверть своего бревиария – и исчез.
В аббатстве об этом узнали несколько недель спустя. Примерно четырьмя годами ранее Бенедикт Кейперс, настоятель Илинга, попросил Ноулза встретиться со студентом-медиком, искавшим духовного наставления. Как рассказывает Ноулз, однажды вечером после ужина “мне передали, что в приемной меня ждут. Войдя, я увидел даму лет тридцати, в короткой шубе, черной юбке и шляпке, с приглаженными, будто коротко остриженными, волосами. Она говорила тихим голосом, на безупречном английском, хотя произношение ее было слегка необычным”.
Элизабет Корнеруп оказалась психиатром-практикантом (позднее работала в престижной Тейвистокской клинике) и обратившейся в католичество лютеранкой из Скандинавии. У датчанки, родившейся в сочельник 1901 года, были непослушные светлые мягкие волосы, она носила очки, заикалась и была дурнушкой. Тем не менее в Дании ей несколько раз предлагали руку и сердце, да и в Лондоне тоже. Ноулз описывал ее так:
На первый взгляд Элизабет не обладала яркой внешностью. Никто… не нашел бы ее особенно привлекательной, тем более “хорошенькой” (даже тридцати с небольшим лет, в то время, когда мы познакомились). Ее лицо, особенно впоследствии, бывало необыкновенно подвижным. Она всегда была бледной, и когда уставала или ей нездоровилось, она могла выглядеть соответственно своему возрасту, и по временам ее лицо во сне имело безжизненный, землистый оттенок.
Этой женщиной он почти сразу стал одержим. Он видел в ней “прекрасную душу” и “святую”. Кроме того, Элизабет была истово верующей, блюла обет безбрачия и даже собиралась уехать в Индию в качестве монахини-миссионерки. Она проводила долгие часы в молитве, чаще всего ночью, а когда ей было двадцать с небольшим лет, стала носить с собой, не имея на то позволения, освященную облатку. Элизабет собиралась прожить несколько месяцев без еды и питья (как рассказывают, в позднем Средневековье некоторые святые женщины, виртуозы воздержания, целые недели жили лишь причастием), но по понятным причинам эта попытка провалилась, и она наполовину превратилась в калеку. Элизабет ежедневно исповедовалась. Церковь относилась к этой радикальной практике с таким неодобрением, что ей каждый день недели приходилось искать нового исповедника: иезуита, редемпториста, пассиониста, приходского священника – все равно кого. Не станет ли его высокопреподобие Дэвид ее исповедником? Однако тем вечером она заявила на исповеди, что… ей не в чем каяться! Ноулз задумался, не “притворщица ли, не эгоистичная невротичка” ли посетительница, но “принял ее… и за сорок лет, прошедших с того дня, ни разу не пожалел о своем решении и не усомнился в его правильности”.
В то время Корнеруп жила в крошечной квартирке в Пимлико, чуть южнее вокзала Виктория. Она завела обширную частную практику и продолжала работать ассистентом патолога в двух лондонских больницах. Ноулз начал ежедневно писать ей, звонить (иногда дважды в день) и часто навещать. Время они проводили в совместной молчаливой молитве. Братия в Илинге ничего об этом не знала, полагая, что его высокопреподобие Дэвид отлучается в библиотеку:
Я хорошо понимал трудность того положения, в котором оказался бы, если бы меня спросили. Я совершенно понимал, что для священника означало почти ежедневно являться надолго в комнату, а позднее в дом женщины незамужней, тогда молодой. Но я знал и то, что сделать это мне велел духовный, священнический долг.
К 1937 году Корнеруп переехала в квартиру побольше, на Глостер-стрит (также в Пимлико), и с упорством взялась изгонять жившую этажом ниже женщину средних лет. 28 августа 1939 года она попросила Ноулза переехать к ней. “Я приеду, – ответил он. – У меня в голове промелькнула шекспировская строка: «В делах людей прилив есть и отлив»[26], и я испытал глубокую радость, что я принял это за прилив”. Он и “сестра Бриджит” не разлучались до конца его жизни. (Корнеруп умерла еще год спустя[27].) Ноулз решил, что его, священника, первый долг – оберегать Корнеруп[28]. Она же увидела свою миссию в помощи ему во всех начинаниях. “Ее жизнь, – писал он, – придала цель моей”. Она была “демонстрацией, чудом со всеми хрестоматийными признаками святости” и даже “напоминала Господа нашего”.
Ноулз по совету Корнеруп оборвал внешние связи, в том числе с Даунсайдом. В 1936 году Бруно Хикс сложил с себя обязанности аббата (возможно, он испытал нервный срыв; Хикс был гомосексуалом, а власти в те времена преследовали гомосексуалов в уголовном порядке). Его сменил давний директор монастырской школы Сигиберт Трэффорд, который, несмотря на споры в общине, всегда относился к Ноулзу с симпатией и даже считал его возможным преемником. Трэффорд (понуждаемый Римом, который стремился избежать скандала) несколько раз навестил Ноулза в Лондоне, но разговора не удостоился.
В течение двух лет после бегства все адресованные Ноулзу сообщения проходили через руки Корнеруп, уверявшей, что тот страдает от умеренной шизофрении и нуждается в предельно осторожном обращении (“Элизабет решила, что лучшим выходом для нас сейчас будет добиться впечатления, что у меня случился срыв”). Так Ноулз мог оставаться там, где хотел, и при этом не лишиться сана. В любом случае нет убедительных доказательств, что он вообще был психически болен. Эдриен Мори считал, что “если бы она не забрала его, он закончил бы в психиатрической лечебнице”. Однажды, когда Трэффорд явился на Глостер-стрит, приведя с собой доктора Брэдли, старого даунсайдского врача, Корнеруп пригрозила вызвать полицию. В итоге Ноулз согласился, чтобы его осмотрели два психиатра. Первый задавал вопросы, “намекая, что Элизабет завоевала мое доверие мелкими подачками полового свойства”. Второй посоветовал электрошоковую терапию. “В этом был курьезный элемент, – заявлял Ноулз, – что, по‐моему, мы оба признавали”. И еще в большей мере – элемент притворства: уже в 1939 году пара наводила справки об условиях заключения брака – на тот случай, если Корнеруп, иностранке, будет угрожать депортация. Много лет спустя, когда она попадет в больницу и ей потребуется серьезная операция, Ноулз, изображая супруга, будет ночевать в ее палате, а в период их жизни в южном Лондоне соседи знали пару как мистера и миссис Ноулз[29]. Никто вполне не понимал истинной природы их отношений[30]. В Даунсайде хранятся письма от Ноулза в Ватикан, в которых он упоминает, что физически не способен к плотской связи.
Началась Вторая мировая война. При Трэффорде в монастыре бывшему блестящему члену общины глубоко сочувствовали, и все же проблема сохранялась. Согласно каноническому праву, поступки Ноулза автоматически влекли расстрижение и, следовательно, отлучение, а это, кроме прочего, предполагало, что ему нельзя служить обедню. Ноулз наотрез отказался принять это наказание и настаивал, что с ним обошлись несправедливо. Когда аббат Трэффорд, стремившийся к компромиссу, в письме спросил, не согласится ли Ноулз с эксклаустрацией (когда монаху позволяется определенное время жить вне монастыря, обычно для того, чтобы решить, не уйти ли окончательно) или останется членом общины с позволением жить в миру, он получил ответ: “Даунсайд нарушает и дух, и букву устава [ордена], а более того – евангельское учение, на котором он основывается… Поистине, я не могу просить прощения за проступки, вину за которые я не сознаю”. Около 1944 года ему снова позволили служить обедню, но с условием, чтобы ежегодно он ненадолго приезжал в Даунсайд. Ноулз отказался – и впредь отвергал компромиссы.
У проблемы имелся и другой аспект. Это период, несмотря на потрясения и огромное напряжение, оказался для Ноулза исключительно плодотворным. В июне 1940 года он опубликовал “Монашеский орден в Англии. История его развития от святого Дунстана до Латеранского (IV) собора, с 940 по 1216 год”. Оплатить набор книги (примерно 600 страниц; Ноулзу даже пришлось выбросить из рукописи 100 страниц из‐за дефицита бумаги в военное время) было нелегко, и Ноулз согласился на долю прибыли вместо гонорара. Издательство Кембриджского университета, по‐видимому, мало рассчитывало на успех, поскольку напечатало всего полтысячи экземпляров (и назначило цену в 45 шиллингов, хотя отец Ноулза внес 200 фунтов – около 6000 долларов в нынешних ценах – в счет расходов на производство), после чего рассыпало набор[31].
Несмотря на столь скромное начало, книгу сочли шедевром. Даунсайд оказался в очень трудном положении. Да и могло ли аббатство признать, что “великий знаток средневекового католичества”, одной-единственной работой ожививший историю монашества в Англии, – это беглый монах, отступник? Так началась карьера Дэвида Ноулза, прославленного историка-медиевиста.
“Монашеский орден в Англии” стал первой из четырех посвященных этой теме книг Ноулза. Эта работа с талантливо выстроенным сюжетом повествует о том, как в Англии развивалось монашество со времен нормандского завоевания и до XIII века, и написана языком восхитительно ясным, с обилием литературных аллюзий, напоминающим Маколея и Тревельяна (двое из кумиров Ноулза)[32]. Глубина и широта его изысканий впечатляют и теперь, а легкость и ясность его стиля десятилетиями вынуждала рецензентов прибегать к преувеличенным выражениям. Вот характерный пример: “Если бы Цицерон писал о монашестве, он едва ли справился бы с большим изяществом”[33]. Другие хвалили “писательский дар” и “спокойный юмор” автора.
Нашлись и критики. В век марксизма Ноулз проявлял мало интереса к экономике и лишь однажды, на странице 105, упоминает о денежном выражении стоимости (впрочем, в работе 1952 года “Монастыри с воздуха” он демонстрирует глубокое понимание экономических вопросов). Ноулз мог проявлять и наивность, и в некоторых случаях он полагается на средневековые тексты, впоследствии признанные подделками. Временами он демонстрирует антисемитизм, свойственный его классу и эпохе, а также предубеждение против меньших монашеских и миссионерских объединений и очень мало говорит о женской религиозности, поскольку не видит ни единого достойного изучения “благочестивого или яркого женского персонажа”. Отсюда – искажение картины и, как правило, пренебрежение Ноулзом цистерцианцами, августинианцами и нищенствующими орденами, в том числе францисканцами и доминиканцами. Ноулз высокомерен, местами демонстрирует самодовольство. В одном месте он подражает Фукидиду, а в другом приводит цитаты на европейских языках.
Отчасти работы Ноулза явились ответом на уже вышедшие из печати три (из четырех) тома “Пяти веков религии” его современника-новатора Дж. Г. Колтона. Этот последний (англиканский дьякон, утративший веру и ставший директором средней школы, а после вернувшийся в Кембридж) до прихода Ноулза считался крупнейшим в мире знатоком средневекового английского монашества. Ноулз же, считавший, что Колтон “мало что понимал в католической духовности”, унизил его, сославшись на него всего однажды, причем в примечании (в издании 1929 года) отметил, что историю монашества в Англии еще предстоит написать и что это подвигло к работе его самого.
Большая доля напечатанного о средневековой религиозной практике опирается на заложенный Ноулзом фундамент. Все 1930‐е годы читателям приходилось довольствоваться откровенно антикатолической интерпретацией Колтона. Иной взгляд на монашество содержался в трудах европейских ученых, но на аглийский язык их переводили с задержкой. То, что сделал Ноулз, показалось дерзким – и новым. Историков возмутило введение в историю христианских постулатов, однако именно это сделало проект Ноулза уникальным. Морис Каулинг, коллега из Питерхауса, так охарактеризовал заслуги Ноулза: “Он ближе всякого английского историка XX столетия подошел к обретению языка для включения в структуру крупного научного произведения концепций существования Бога, веры и вечной жизни… Это помещает его исторические книги в ряд самых интересных христианских работ, вышедших в этом веке в Англии”[34].
Это отнюдь не мало. Монастыри представляли собой ключевые центры средневековой жизни. К концу 1530‐х годов в Англии насчитывалось почти 900 церквей и монастырей, и около 12 тысяч мужчин и женщин состояло в орденах. К 1540 году, однако (после кампании Генриха VIII), все монастыри исчезли[35]. До 1880‐х католическая церковь почти не проявляла интереса к указанному периоду, и не существало адекватной работы об английском монашестве. Но Ноулз далеко не считал свой труд законченным. Первый том “Религиозных орденов в Англии” (о событиях 1216–1340 годов) вышел из печати в 1948 году, второй – в 1955 году (о 1340–1500 годах). Третий (и последний) солидный том с подзаголовком “Эпоха Тюдоров” (с 1485 по 1620 год – время возвращения в Англию бенедиктинцев) появился в 1959 году. Труд целиком занимает более 2000 страниц. Это грандиозное предприятие, охватывающее более шестисот лет не только религиозной, но и культурной истории страны. Позднее, в ходе эволюции профессии в сторону “научной” истории, Ноулз напомнил коллегам о привлекательности – и необходимости – ясного, избавленного от двусмысленностей, повествования. Кеннет Кларк, ведущий сериала Би-би-си “Цивилизация”, в 1977 году назвал “Религиозные ордена” “одним из исторических шедевров столетия”[36].
Ноулз показывает, что и великие авторы способны ингнорировать “объективную” историю, отбирая то, что соответствует их программе. Разрываясь между долгом историка и требованиями избранного им вероисповедания он излагал истину такой, какой видел: это была его истина. Ноулз пришел к исторической науке как читатель и, подобно всякому читателю, брал то, что было ему по вкусу. Норман Кантор, рассуждая о “Монашеском ордене в Англии” и первом томе “Религиозных орденов”, прямо заявляет:
Эти две книги написаны под воздействием отчаяния, гнева, жажды мести, изобретательности, ощущения личного призвания, и это делает их, одна глава за другой и особенно в дискуссии о религиозных лидерах и в целом о культурной и церковной среде, произведениями могучей страсти и воображения, которые мало с чем можно сравнить в литературе о Средних веках или истории католической церкви[37].
Недовольство Ноулза современниками-бенедиктинцами заметно не только в работе “Монашеский орден в Англии” (здесь целые параграфы можно отнести к индивидуальной или групповой биографии, причем каждый аббат или религиозный деятель удостоен желчной итоговой характеристики), но и во всех его исторических сочинениях. Ноулз сурово обходится с теми аббатами, которые, по его мнению, не сумели стать монахам настоящими духовными отцами или чей произвол приобретал такой масштаб, что подчиненным приходилось бросить им вызов. Чэпмен, старинный антагонист Ноулза, полагал, что благочестие ни в коем случае не может быть долгом – лишь целью. С точки же зрения Ноулза, выражаемой на бумаге и в поступках, монашеское призвание недвусмысленно предполагает обязательное стремление к благочестию. Он приводит слова Фомы Аквинского, считавшего, что Богу наиболее угодно такое рвение о душах, посредством которого человек “направляет собственную или чужую душу” к “созерцанию”, а не к “действию”. В эпилоге к заключительному тому Ноулз возвращается к теме благочестия:
Когда обитель или орден прекращает направлять своих сыновей к отказу от всего, что не есть Бог, и перестает являть им тяготы узкого пути, ведущего к подражанию Христу в Его любви, то он опускается до уровня чисто мирского установления, и, чем бы он ни занимался, их труды оказываются преходящи, а не посвящены вечности. Настоящий монах, в каком бы веке он ни жил, стремится не к переменам вокруг себя и не к перемене собственной суровой участи. Он устремлен к неизменному предвечному Богу и вверяет себя удерживающим его вечносущим рукам[38].
Но дело в том, что если бы даунсайдские аббаты не препятствовали Ноулзу основать общину в Австралии, Индии, Кении или на севере Англии, он не написал бы свои книги. Разногласия с Даунсайдом сделали его более динамичным, придали его мнениям цельность и твердость. Большая ирония есть в том, чтобы рассказывать о прошлом тогда, когда вы заложник и своего характера, и обстоятельств. Именно это случилось с Майклом Клайвом Ноулзом.
Отправившись в Илинг, в Даунсайд он вернулся лишь однажды – ради похорон Катберта Батлера в 1934 году. Но смерть Ноулза примирила его с аббатством, и его отпевали как монаха. Его похоронили, как настоящего бенедиктинца, в рясе.
Глава 1
История в младенчестве: Геродот или Фукидид?
Превращение простой регистрации преданий в науку истории не было изначально присуще греческому сознанию. Это было изобретением V века, и принадлежит оно именно Геродоту.
Р. Дж. Коллингвуд “Идея истории” (1946 г.)[39]
У. Х. Оден “1 сентября 1939 года” [40]
- Уже изгой Фукидид
- Знал все наборы слов
- О демократии,
- И все тиранов пути,
- И прочий замшелый вздор,
- Рассчитанный на мертвецов.
- Он сумел рассказать,
- Как знания гонят прочь,
- Как входит в привычку боль
- И как смысл теряет закон.
- И все предстоит опять!
Даты жизни Геродота трудно определить с точностью. Он родился, вероятно, около 485 года до н. э. и дожил до 420‐х годов, поскольку упоминает о событиях Пелопоннесской войны (431–404 годы до н. э.). Геродот принадлежал к интеллектуальному слою, делавшему первые шаги в медицине и предававшемуся творческим размышлениям. Среди современников Геродота, старших и младших, были Эсхил (525–456 годы до н. э.), Аристофан (ок. 448 – ок. 380 года до н. э.), Еврипид (ок. 484 – ок. 408 года до н. э.), Пиндар (522 – ок. 443 года до н. э.), Платон (ок. 429–347 год до н. э.) и Софокл (496–406 годы до н. э.), сочинивший в его честь оду.
Сочинения предшественников Геродота представляют собой в основном сухие хроники – даже содержащие робкие попытки повествования, особенно о военных походах. Признаков идеи “истории” нет, но еврейские слова toledot (“родословие”) и divre hayyamin (“хроники”) указывают хотя бы на некоторый интерес к отслеживанию прошлого. Гомер (а лучше – Гомеры: “Илиада” и “Одиссея” – плоды трудов не одного человека) стал промежуточным пунктом на пути к историографии. Адам Николсон в книге “Почему для нас важен Гомер” объясняет: “Эпос, придуманный после запоминания и прежде истории, стоит на третьем месте в человеческом стремлении связать настоящее с прошлым. Эпос есть попытка распространить границы памяти до времени, охваченного историей”[41]. Николсон относит сочинение обеих поэм примерно к 1800 году до н. э., а их запись – примерно к 700 году до н. э.
Благодаря традиции изустной передачи, часто в стихах, греки кое‐что знали о своем прошлом. При этом случившееся более трех поколений назад они представляли себе смутно – если вообще помнили. Устная традиция, как правило, избегает не любимых аудиторией тем. В 492 году до н. э., когда Фриних, соперник Эсхила, поставил трагедию “Взятие Милета” о разрушении города персами, “все зрители залились слезами; Фриних же был присужден к уплате штрафа в тысячу драхм за то, что напомнил о несчастьях близких людей. Кроме того, афиняне постановили, чтобы никто не смел возобновлять постановку этой драмы” (6.21)[42]. Геродот, должно быть, знал, что поэты прошлого преимущественно тешили своих слушателей и поэтому зачастую все придумывали, хотя и отрицали это.
Гесиод (работал около 700 года до н. э.) из числа этих поэтов выдвинул идею ухудшения человеческой природы, что находит отражение в смене эпох. Гекатей Милетский (550–476 годы до н. э.), чьи поездки по Средиземноморью легли в основу составленного им “Землеописания”, – значительнейший предшественник Геродота. Среди иных заметных авторов назовем Гелланика Лесбосского (ок. 490–405 год до н. э.), который составил длинные параллельные описания, а не изложил историю одной династии, а также оставивших ценные исторические сочинения Филиста Сиракузского, Феопомпа Хиосского и Ксенофонта (все жили в IV веке до н. э.).
Эти историки совершили революцию. Между 2000 и 1200 годами до н. э. неизвестный народ, который мы теперь называем индо-хеттами, вторгся в Европу и Южную Азию, и одно из племен этих завоевателей основало ряд небольших поселений на берегах Средиземного и Черного морей. Когда представители этой гипердинамичной культуры вошли в контакт с представителями другой, в той же мере активной, возникло новое сознание. К этому периоду относится значительный прогресс в развитии абстрактного мышления, и отношение людей к прошлому изменилось. (Полезно в данном случае напомнить, что у инков – самой развитой из дописьменных культур – имелось четыре версии истории, от тайной до общедоступной, распространявшихся под строгим контролем имперских властей.)
Некоторые историки считают, что победа греков при Марафоне (490 до н. э.) во время первого персидского вторжения стала поворотной точкой и обозначила культурные различия Востока и Запада. Золотой век Греции, вероятно, совпал с изобилием. Это напоминает предшествовавший английской промышленной революции период, сопровождавшийся увеличением производства продуктов питания, расширением капитальных инвестиций и стремительным ростом населения. Но в истории к сопутствующему расцвету культуры это привело лишь однажды – в эпоху европейского Ренессанса. И хотя “история” отнюдь не необходимое следствие, некоторые открытия для развития цивилизации необходимы, и одно из них – ощущение прошлого.
Хотя литература родилась в Шумере (юг современного Ирака) около III тысячелетия до н. э., именно Геродот – автор старейшего из дошедших до нас прозаических сочинений объемом в книгу. Он написал первое на Западе отчетливо историческое в современном понимании сочинение, охватывающее недавнее прошлое людей, а не посвященное богам и героям (но ни в коем случае не избегая мифов и легенд; он, по‐видимому, согласился бы с Платоном, заявившим в “Государстве”, что миф есть “благородный вымысел”, который скрепляет государство[43]. Кроме того, Геродот первым описал события прошлого в их протяженности, рассуждал о том, как добыть сведения о прошлом, и первым размышлял о том, почему определенные события произошли прежде других. Наконец, он задавал вопросы[44]. Геродот – первый писатель-путешественник, журналист-расследователь и зарубежный корреспондент[45]. Он сообщает сведения из этнографии (она в жанровом отношении предшествует истории, поэтому их включение не должно нас удивлять), военной и региональной истории, поэзии, филологии, генеалогии, мифологии, антропологии, архитектуры, геологии, ботаники и зоологии, биографическую информацию. В то же время он (по характеристике Рышарда Капущинского из его “Путешествий с Геродотом”) – “типичный человек дорог… Он первый, кто открывает мультикультурную природу мира. Первый, кто убеждает, что каждая культура требует понимания и приятия. А для того, чтобы понять, ее надо сначала узнать”[46].
Первое впечатление даже от очень непродолжительного чтения Геродота таково: он собирает все, вызывающее интерес. О некоторых вещах Геродот судит, о других – просто повествует. Его подход можно охарактеризовать как opsis – “зрение”. (Отсюда слово, обычно ассоциируемое с детективными романами, – аутопсия, буквально – “видение собственными глазами”.) Многие из приводимых им сведений добыты греками, египтянами и финикийцами в путешествиях по Средиземноморью и за его пределами, но, по всей вероятности, Геродот и сам много ездил, причем не только по греческим государствам: он посетил Египет, Финикию (территория современных Ливана и Сирии), Вавилон (территория современного Ирака), Аравию, Фракию, земли нынешних Болгарии, Румынии, Украины, юга России и Грузии[47].
Большинство этих путешествий представляли собой опасные предприятия. Например, чтобы добраться до места, где теперь стоит Одесса, ему пришлось бы плыть вдоль западного и северного берегов Эгейского моря через Дарданеллы, Мраморное море и Босфор, вдоль западного побережья Черного моря и мимо устья Дуная. При попутном ветре и без приключений это заняло бы месяца три. И это всего одно из множества путешествий! В те времена самым могущественным из греческих городов были Афины (граждан здесь насчитывалось всего около 100 тысяч) и лежащая южнее Спарта (или Лакония, отсюда “лаконичность”: спартанцы славились немногословием. Когда около 338 года до н. э. Филипп II Македонский послал сказать им: “Сдавайтесь, потому что если я захвачу Спарту силой, то беспощадно уничтожу все население и сровняю город с землей!”, они ответили одним словом – “Если”).
Галикарнас (совр. Бодрум на юго-западном побережье Турции), родной город Геродота, находился на краю обширного тогда культурного пространства древнего Ближнего Востока. Эта греческая колония вместе с Лидией (занимавшей большую часть современной Западной Турции) около 545 года до н. э. была присоединена к Персидской державе. Коренными жителями-негреками Галикарнаса были карийцы. Оказавшись между двумя мирами, город отказался от тесных связей с соседями-дорийцами, помогал наладить греческую торговлю с Египтом и стал портом международного значения.
Из-за увлеченности дяди Геродота политическими интригами семья навлекла на себя неприятности, а сам Геродот (в возрасте примерно тридцати лет) был изгнан из Галикарнаса. Почти пять лет он путешествовал и около 447 года до н. э. явился в Афины уже с богатым запасом сведений о Восточном Средиземноморье. Геродот – необычный шаг – начинает изложение истории региона с нападения персов на город в 490 году до н. э., а после переходит к персидскому нашествию на Балканский полуостров десять лет спустя. Это определяющее событие его детства. Существует легенда, будто ребенком Геродот, стоя на причале в Галикарнасе, видел, как разбитый персидский флот возвращается от острова Саламин, и спросил у матери, из‐за чего они сражались.
В 499 году до н. э. карийцы вместе с прибрежными греческими городами восстали против персов. К тому времени Геродот уже отправился путешествовать. Его семья, одна из самых знатных и политически активных в городе, вполне могла иметь связи в землях, находившихся под владычеством персов, и это облегчало задачу Геродота. Xenía, греческое слово, обозначающее обязанность проявлять любезность по отношению к тем, кто оказался далеко от дома, чаще всего переводится как “гостеприимство”, которое создавало взаимоотношения между хозяином и гостем. Кроме того, Геродот (хотя свободно он владел лишь греческим языком) мог рассчитывать на институт проксении[48]. Проксены – своего рода консулы – по собственному почину или за плату принимали людей, приехавших из города, откуда были родом они сами. Наконец, в те времена нельзя было с уверенностью сказать, простой ли смертный перед тобой или бог, принявший человеческий облик. С чужеземцами лучше было не ссориться.
Возможно, Геродот начинал как мореплаватель и купец. Познания Геродота в географии намного превосходят познания его известных предшественников, его осведомленность о климате, топографии и природных богатствах выглядят как нечто само собой разумеющееся. До него едва ли кто‐то был по‐настоящему заинтересован в сохранении знаний о причинах недавних событий. Греческие государства не имели архивов. Не велось даже перечней должностных лиц, с помощью которых можно было бы восстановить хронологию. В Афинах, известных своей заботой о сохранении памяти, государственный архив появился лишь в конце V века до н. э.
Геродот желал как привить ощущение прошлого[49], так и оставить записи, но одновременно предоставил и полную свободу своему любопытству. В его книге, перечисляет современный биограф, присутствуют “выходящий за рамки дозволенного эротизм, секс, любовь, насилие, преступления, странные обычаи чужеземцев, воображаемые сцены в спальнях правителей, флешбэки, сны героев, политическая теория, философские споры, встречи с оракулами, размышления о географии, естественная история, короткие рассказы и греческие мифы”[50]. Геродот с присущим ему любопытством отмечает, что египтяне едят на улице, а естественные отправления совершают в домах, причем женщины мочатся стоя, а мужчины сидя (2.35), тогда как греки поступали наоборот[51]. Язык египтян, по Геродоту, “не похож ни на какой другой: они издают звуки, подобные писку летучих мышей” (4.183) Ему нравится рассказывать о всевозможных странностях, делать отступления (4.30). Аристофан высмеял начало сочинения Геродота[52] в духе Cherchez la femme, поскольку был явно под впечатлением от сексуальных обычаев, описанных галикарнасцем. О порядках ливийцев Геродот пишет: “Когда насамон женится в первый раз, то, по обычаю, молодая женщина должна в первую же ночь по очереди совокупляться со всеми гостями на свадьбе. Каждый гость, с которым она сходится, дает ей подарок, принесенный с собой из дома” (4.172). Женщины другого ливийского племени, гинданов, “носят множество кожаных колец на лодыжке, и, как говорят, вот почему: каждый раз после совокупления с мужчиной женщина надевает себе такое кольцо. Женщина, у которой наибольшее число колец, считается самой лучшей, так как у нее было больше всего любовников” (4.176). От его страсти к ярким деталям иногда дух захватывает: когда в 479–478 годах до н. э. афиняне вели затяжную осаду города Сеста у Геллеспонта, осажденные “дошли до последней крайности, так что варили и ели ремни от постелей” (9.118). Остается только догадываться, как Геродот об этом узнал.
В рассказе о походах Ксеркса – безжалостного и могущественного повелителя обширного Персидского царства, крупнейшего из всех, когда‐либо существовавших в истории, в то время – он обозревает огромное войско, которое тот собрал против греков:
Увидев, что весь Геллеспонт целиком покрыт кораблями и все побережье и абидосская равнина кишат людьми, Ксеркс возрадовался своему счастью, а затем пролил слезы (7.45).
Когда один из приближенных царя заметил это и осведомился о причине слез, Ксеркс ответил: “Конечно, мною овладевает сострадание, когда я думаю, сколь скоротечна жизнь человеческая, так как из всех этих людей никого уже через сто лет не будет в живых” (7.46). Персидский владыка не всегда проявлял сострадание. Геродот рассказывает, что всего через несколько недель Ксерксу пришлось спешно отступить. Его кораблю угрожает шторм:
По рассказам, когда буря стала все усиливаться, царя объял страх (корабль был переполнен, так как на палубе находилось много персов из Ксерксовой свиты). Ксеркс закричал кормчему, спрашивая, есть ли надежда на спасение. Кормчий отвечал: “Владыка! Нет спасения, если мы не избавимся от большинства людей на корабле”. Услышав эти слова, Ксеркс, как говорят, сказал: “Персы! Теперь вы можете показать свою любовь к царю! От вас зависит мое спасение!” Так он сказал, а персы пали к его ногам и затем стали бросаться в море. Тогда облегченный корабль благополучно прибыл в Азию. А Ксеркс, лишь только сошел на берег, говорят, сделал вот что. Он пожаловал кормчему золотой венец за спасение царской жизни и велел отрубить голову за то, что тот погубил столь много персов (8.118).
Несколько раз Геродот упоминает, что не верит этому и другим рассказам, но считает своим долгом их привести: они слишком хороши для того, чтобы ими пренебречь. Рассказывая о скотоводстве в Скифии, Геродот удивляется, “что по всей Элиде (этот мой рассказ ведь с самого начала допускает подобные отступления) не родятся мулы” (4.30). Изложив мощный сюжет, Геродот прибавляет, что “рассказ о возвращении Ксеркса, мне думается, вообще не заслуживает доверия, особенно в той его части, где речь идет о гибели персов” (8.119). Он попал в книгу потому, что показывал, как тиран соблюдал требование “справедливости”, и его идеологическое значение для автора перевешивает его вероятную историческую недостоверность. Приводить доказательства в обоснование подобных утверждений автору не требуется.
Геродот без оговорок приводит сообщение, что семя мужчин-эфиопов и индийцев “черное, под цвет их кожи” (3.101), и рассказывает о крылатых змеях, птицах фениксах и безголовых людях с глазами на груди (3.107, 2.173, 4.191). При этом он не верит в существование племени одноглазых людей (3.117). Мы читаем об индийских “муравьях величиной почти с собаку, но меньше лисицы”, которые добывают золотой песок (3.102), о том, что египтяне почитают “больше всех животных” коров (в отличие от греков, употребляющих в пищу говядину), и поэтому “ни один египтянин или египтянка не станет целовать эллина в уста” (2.41), а также о том, что “нигде не встретишь так мало лысых, как в Египте” (3.12). Ливийцы в случае судорог у ребенка “окропляют его козлиной мочой”. “Впрочем, я передаю только рассказы самих ливийцев”, – оговаривает Геродот (4.187). Он знал, что читателя-грека привлечет необычное, исключительное, парадоксальное. И он умеет рассмешить. Так, описывая обычаи персов, Геродот рассказывает: “За вином они обычно обсуждают самые важные дела. Решение, принятое на таком совещании, на следующий день хозяин дома, где они находятся, еще раз предлагает [на утверждение] гостям уже в трезвом виде. Если они и трезвыми одобряют это решение, то выполняют. И наоборот: решение, принятое трезвыми, они еще раз обсуждают во хмелю” (1.133). (Хемингуэй советовал литераторам делать то же самое. Эти люди поладили бы.) Кроме того, у Геродота дар сочинять афоризмы: “В мирное время сыновья погребают отцов, а на войне отцы – сыновей” (1.87). (При этом на войне он никогда не был.) “Богатый, но несчастливый человек имеет лишь два преимущества перед счастливцем умеренного достатка, а этот последний превосходит его во многом” (1.32). “Самая тяжелая мука на свете для человека – многое понимать и не иметь силы [бороться с судьбой]” (9.16). Джон Гулд так заканчивает свою превосходную работу о Геродоте:
Самое стойкое впечатление от чтения этого повествования – веселость. Его порождает ощущение неистощимого любопытства и энергии Геродота. Он с неизменными восхищением и восторгом встречает человеческие фантазию и затеи удивительного рода в мире, который признает трагическим. Геродот смешит, но изображает опыт не комическим, а постоянно удивляющим и побудительным. Он оставляет вас довольными чтением, показывая людей реагирующими на страдания и несчастья энергично и изобретательно, непоколебимо и торжествующе[53].
Соглашусь с Гулдом: сочиняя эту главу, я всякий раз являлся к обеду с “Историей” и зачитывал жене два или три абзаца. Потом запас историй у Геродота иссяк, и жена почувствовала себя обделенной. Эту пустоту не удалось заполнить ни Фукидиду, ни Тациту, ни Титу Ливию.
Текст “Истории”, составляющий в английском переводе около 600 страниц (вдвое длиннее “Илиады”), разделен на девять книг (но сделал это не сам Геродот, а жившие позднее александрийские ученые). В первых четырех книгах речь в основном идет о расширении Персидского государства от воцарения Кира (550 год до н. э.) примерно до 500 года до н. э., но присутствует и несколько обширных фрагментов о персах, египетской истории и обычаях египтян. Далее Геродот излагает историю Афин с 560 года до н. э. Книги V и VI трактуют об Ионийском восстании (499–494 годы до н. э.) и походе персов, разбитых афинянами при Марафоне в 490 году до н. э. Но повествование простым не назовешь: Геродот часто делает отступления, чтобы рассказать о современном ему положении дел в греческих государствах. Последние три книги – это рассказ о походе Ксеркса, пятого “царя царей”, в Грецию и его неожиданном поражении[54].
Это событие и все, что к нему привело, дали Геродоту необходимый стимул для изысканий, которые стоят того, чтобы о них рассказать. Кроме того, он хорошо представлял себе, что значит быть эллином, и потому приписывает персам все презираемые греками качества.
В первом абзаце мы читаем:
Геродот из Галикарнаса собрал и записал эти сведения, чтобы прошедшие события с течением времени не пришли в забвение и великие и удивления достойные деяния как эллинов[55], так и варваров не остались в безвестности, в особенности же то, почему они вели войны друг с другом (1.3).
Текст Геродота предназначался для публичной декламации. Буквально он начинается с утверждения, что здесь Геродот “представил” собранные им сведения. Прежде поэты выступали передатчиками человеческого опыта, и Гомер в своих поэмах лишь однажды смутно упоминает о письме. Ко времени Геродота, однако, сочинение прозы уже не считалось второсортным занятием, и риторы занялись выработкой принципов наилучшего выражения мыслей новыми средствами. Хотя, наверное, запомнить тысячу стихотворных строк легче, чем сто прозаических[56], с тех пор как стало возможным носить с собой свитки, способность создавать длинные повествовательные тексты оказалась очевидным преимуществом, а старые приемы больше не годились для удержания в голове более сложных размышлений, которые теперь занимали людей[57].
Геродот рос, пользуясь интеллектуальными связями с расположенным неподалеку Милетом – признанным очагом культуры, и пересказ в прозе был ему хорошо знаком. Что касается существительного “история”, то в Ионии, где вырос Геродот, оно имело скептический оттенок. Сам он предпочитал для определения своего занятия слова “исследовать” и “узнавать”, после чего новое значение слова поглотило первоначальное[58]. Вероятно, из‐за того что histor у Гомера – это “мудрый судья”[59], который выдает свое мнение, основанное на фактах, полученных из расследования, historie стала общим понятием. Геродот употребляет его двадцать три раза.
Вообще его подход имел и оборотную сторону. Геродот не только приводит сомнительные сведения, но и попросту выдумывает, в том числе и то, как он их получил. Цицерон (106–43 годы до н. э.), который считал историю отделом риторики (а Геродота называл “отцом истории”[60]), ставил последнего в один ряд с Феопомпом (умер в 320 году до н. э.), автором греческой истории в двенадцати книгах и известным лжецом, и оба они “приводят бесчисленное множество сказаний”[61]. Аристотель характеризует стиль Геродота как “беспрерывный – древний стиль”[62], но самого автора уничижительно называет “рассказчиком басен”[63]. Другие авторы древности были столь же пренебрежительны, и вскоре к прозвищу, данному Цицероном, прибавилось знаменитое Плутархово “отец лжи”. Геродота упрекали в создании видимости достоверности, достигаемой упоминанием подробностей, которые, как он прекрасно знал, были выдумкой. “По-видимому, Геродот мог бы сказать то же, что Гиппоклид, ставший вверх ногами на стол и болтавший в воздухе ногами: «Геродоту наплевать на все»”[64], – пишет Плутарх (ок. 46–120), яростно атакуя предшественника в работе, озаглавленной “О злокозненности Геродота” (XXXIII).
Исследовать и подбирать факты как Геродот (подсчитаны 1086 примеров, когда он фиксировал свои воспоминания об описываемых событиях) значит уделить внимание множеству местных верований, легенд и сказаний, лишь изредка их комментируя. Рассказ о похищении финикийцами фиванских жриц Геродот сопровождает оговоркой: “Мое собственное мнение об этом вот какое” (2.56). Но не более того. Это прекрасный пример παράλειψις – “умолчания”. Рассказывая о прошлом Египта, Геродот спрессовывает в один абзац 10 тысяч лет истории страны (и триста ее правителей). Как правило, он использует очень общие выражения для дат и эпох, типичны для него “в наше время”, “с этого времени”, “поныне”, “до сих пор”, но тогда, возможно, у него не было более точных сведений.
Непривередливость Геродота становится особенно заметной, когда он преувеличивает размер персидского войска, его вооружение, тактическую смекалку и умения командиров: это нужно, чтобы изобразить триумф греков вопреки превосходящим силам противника[65]. Он рассказывает о войске столь огромном, что города, кормившие его даже один день, разорялись. Мы читаем, что все походы прошлого, вместе взятые, меркнут перед предприятием Ксеркса, но если сообщенное Геродотом подозрительно некруглое число (5 283 220 человек) верно, то колонна вставших в затылок персов растянулась бы более чем на 3200 километров, и когда ее голова достигла бы Фермопил, хвост еще оставался бы на западе нынешнего Ирана. Армии в ту эпоху преодолевали за месяц до трехсот километров, следовательно, наступление персов заняло бы много месяцев.
Указываемые Геродотом размеры, как и в целом величины, нередко неверны, однако в его времена не существовало общепринятых мер для расстояний, денежных единиц или объемов. В ту эпоху представления о времени и пространстве были приблизительными, и сообщения Геродота вполне могли быть куда более точными, чем обычно ожидалось в то время. Великий итальянский историк Арнальдо Момильяно признавал: “Если априорно оценить шансы на написание истории по методу Геродота, то, веротно, нам придется поднять руки и сдаться”[66].
Но неудачи Геродота блекнут на фоне его успехов. В романе Майкла Ондатже “Английский пациент” Хана ухаживает в большом пустом доме за обгоревшим незнакомцем: “С маленького столика у его кровати она берет книгу небольшого формата, которую он пронес сквозь огонь. Это – экземпляр Геродота. Его страницы прекрасно уживаются с наблюдениями и заметками, которые английский пациент записывал между строчками, а также с рисунками и листами из других изданий, вырезанными и вклеенными сюда”. Одна-единственная книга образует матрицу для нового вида зрения[67].
Конечно, имелись и другие возможности рассказать о прошлом. Фукидид (ок. 460 – ок. 395 гг. до н. э.), живший и работавший через поколение после Геродота, напротив, смотрел на историописание глазами высокопоставленного гражданина и военачальника (кем он сам был), пережившего чуму (афинская чума поразила город в 430 году до н. э.) и ставшего свидетелем сокрушительных военных поражений.
Фукидид родился в Галимунте, к юго-западу от Афин. Его отец был богатым землевладельцем, мать происходила из знатного фракийского рода. В 424 году до н. э., примерно в возрасте тридцати шести лет, его избрали одним из десяти стратегов, которые занимались военными и политическими вопросами в Афинах, а после одним из двух командующих флотилией (они командовали и на суше) из семи судов, посланной для защиты жизненно важной крепости во Фракии. Шло первое десятилетие Пелопоннесской войны. Фукидид уступил динамичному спартанскому военачальнику Брасиду и в полной мере испытал на себе тяжесть народного негодования: его лишили должности и изгнали минимум на двадцать лет. Фукидид провел это время в путешествиях (особенно по Пелопоннессу, гористой южной части Балканского полуострова), расспрашивая, делая записи и собирая рассказы очевидцев. “Я имел возможность, благодаря моему положению изгнанника, лично наблюдать ход событий у обеих сторон – у пелопоннесцев не менее, чем у афинян, – и составить себе на досуге непредвзятое суждение о них” (V.26.5), – коротко сообщает он[68]. Вероятно, Фукидид умер, когда ему было около семидесяти лет. Книгу он так и не закончил – текст обрывается на середине предложения.
Великая “История Пелопоннесской войны” повествует о борьбе спартанцев с афинянами (и тех и других поддерживали менее крупные полисы) в V веке до н. э. и представляет собой первое из дошедших до нас сочинений по политической и военной истории. Издание “Истории” Фукидида разделено на восемь книг. Книга первая охватывает первые десять лет войны (с 431 по 421 год до н. э.), вторая часть (после короткого перемирия) – еще десять, на которые пришлось политическое ослабление демократических Афин. Семь лет не описаны, работа прервана на полуслове посреди беспорядочных событий двадцать первого года.
Читая Фукидида, придется привыкнуть к его отстраненному высокопарному стилю, нередко запутанному и перегруженному (“почти невозможно трудный греческий”, – жалуется антиковед Мэри Бирд[69]). “Его сухие главы, – отмечал лорд Маколей, – ужасно сухие”. Однако Фукидид бывает и напряженно-оживленным. Он рассматривает предпосылки, ход событий и итоги, часто выступает очевидцем, и тогда его манера очень напоминает манеру современного журналиста. По стилистическим причинам античные историки, как правило, нечасто включали такие элементы в свои тексты; в некоторых ситуациях Фукидид прибегает к этому. Страстный приверженец точности, он признает опасности, с которыми регулярно сталкивается историк: не только пристрастность и ошибки памяти, но и невнимательность и недостаточная наблюдательность. Философ Томас Гоббс (1588–1679), первый переводчик “Истории” на английский язык непосредственно с греческого, отметил, что хотя Геродот “больше услаждает слух сказочными повествованиями”,
Фукидид, хотя он никогда не отвлекается на то, чтобы прочитать лекцию о нравственности или политике, своим текстом не проникал дальше в сердца людей, чем сами события, но, очевидно, стал тем, кто направляет людей: его считают самым политическим историографом, который когда‐либо писал[70].
С этим мнением соглашались великие и выдающиеся. Фукидидом восхищались Руссо, Джефферсон и Ницше. Последний писал: “Фукидид как великий итог, последнее откровение той сильной, строгой, суровой фактичности, которая коренилась в инстинкте более древнего эллина”[71]. Саймон Шама в эссе 2010 года указывает, что Фукидид “аналитически сконцентрирован, остро критичен, без лишнего почтения относящийся к истории как к источнику современности, непревзойденный мастер повествования и ритор”[72]. Прославленный афинский оратор Демосфен (384–322 годы до н. э.) восемь раз переписал “Историю” целиком, после чего смог имитировать ее стиль.
Кажется, что Фукидид в одиночку развил искусство военного репортажа. Первые четыре книги, посвященные событиям до своего изгнания, особенно хороши и содержат почти 2/3 примерно из сорока речей ключевых участников событий (все речи сочинил Фукидид, но, как он настаивал, придерживался, насколько это возможно, того, что было в самом деле сказано)[73]. Речи занимают до четверти объема “Истории” и невероятно важны для замысла книги. При этом в любом ежедневном номере New York Times (около 150 тысяч слов, не считая рекламы) больше точных данных, чем в 153 260 словах у Фукидида.
Кроме того, текст Фукидида отчасти напоминает медицинские трактаты своего времени. Похоже, он был знаком с трудами Гиппократа (ок. 460 – ок. 370 года до н. э.), известными точным описанием симптомов болезней. Фукидид равно дотошен в своем рассказе об эпидемиях 430 и 427 годов до н. э., погубивших Перикла и больше трети афинян:
Тело больного было не слишком горячим на ощупь и не бледным, но с каким‐то красновато-сизым оттенком и покрывалось, как сыпью, маленькими гнойными волдырями и нарывами. Внутри же жар был настолько велик, что больные не могли вынести даже тончайших покрывал, кисейных накидок пли чего‐либо подобного, и им оставалось только лежать нагими, а приятнее всего было погрузиться в холодную воду. Мучимые неутолимой жаждой, больные, остававшиеся без присмотра, кидались в колодцы; сколько бы они ни пили, это не приносило облегчения… Птицы и четвероногие животные, питающиеся человеческими трупами, вовсе не касались трупов (хотя много покойников оставалось непогребенными) или, прикоснувшись к ним, погибали (II.47.49–50)[74].
Военная карьера Фукидида кончилась так неудачно, что мы можем лишь представить, какие боль и разочарование он испытал. Некоторые утверждают, что он умер от горя (как, возможно, и лорд Маколей, большой почитатель Фукидида). Сам Фукидид, считая свое положение исключительно пригодным для описания главных событий эпохи, работал отчасти потому, что “приобретал все больше опыта, изощряясь в опасностях” (II.18.27), и встал на точку зрения молодого способного командира, недовольного тем, что происходит с любимым городом. Величие Афин, утверждал он, зависит от того, останется ли государство демократией во главе с Периклом, но из‐за давления демоса и тягот войны добрые порядки могут быть поколеблены. Фукидид, в юности демократ, в зрелые годы стал консерватором, обескураженным утратой столь просвещенного правителя (II.60.5).
При всем стремлении Фукидида к точности на его суждения влияет преклонение перед Периклом. Великий лидер изображен неизменно действующим в интересах государства, и в знаменитой речи над могилами воинов, павших в первый год Пелопоннесской войны, мы читаем:
Для нашего государственного устройства мы не взяли за образец никаких чужеземных установлений. Напротив, мы скорее сами являем пример другим, нежели в чем‐нибудь подражаем кому‐либо. И так как у нас городом управляет не горсть людей, а большинство народа, то наш государственный строй называется народоправством. В частных делах все пользуются одинаковыми правами по законам. Что же до дел государственных, то на почетные государственные должности выдвигают каждого по достоинству, поскольку он чем‐нибудь отличился не в силу принадлежности к определенному сословию, но из‐за личной доблести. Бедность и темное происхождение или низкое общественное положение не мешают человеку занять почетную должность, если он способен оказать услуги государству. В нашем государстве мы живем свободно и в повседневной жизни избегаем взаимных подозрений: мы не питаем неприязни к соседу, если он в своем поведении следует личным склонностям, и не выказываем ему хотя и безвредной, но тягостно воспринимаемой досады. Терпимые в своих частных взаимоотношениях, в общественной жизни не нарушаем законов, главным образом из уважения к ним, и повинуемся властям и законам, в особенности установленным в защиту обижаемых, а также законам неписаным, нарушение которых все считают постыдным (2.37).
Возможно, здесь Фукидид выдал желаемое за действительное, но достоинства этой, как и иных сочиненных им речей, удивительны: современные спичрайтеры позеленели бы от зависти. Во многих случаях Фукидид не заботится, чтобы ораторы звучали по‐разному. Впрочем, в ту эпоху (и даже еще двести лет назад) речи, как правило, передавались неточно, и люди это вполне понимали. Сам Фукидид смотрел на дело так: “Что до речей (как произнесенных перед войной, так и во время ее), то в точности запомнить и воспроизвести их смысл было невозможно – ни тех, которые мне пришлось самому слышать, ни тех, о которых мне передавали другие. Но то, что, по‐моему, каждый оратор мог бы сказать самого подходящего по данному вопросу (причем я, насколько возможно ближе, придерживаюсь общего смысла действительно произнесенных речей), это я и заставил их говорить в моей истории” (i.22.1)[75].
И хотя его пересказы и не отличаются точной передачей, они по крайней мере объясняют, что именно произошло. Возможно, его приоритетом было правдоподобие, но и себя самого он не забывает. Кроме того, он уверен, что описываемые события нельзя ни с чем сравнить: “Нынешняя война длилась очень долго, и в ходе ее сама Эллада испытала такие бедствия, каких никогда не знала ранее за такое же время” (I.23). Но почему афиняне проиграли войну, из которой должны были выйти победителями? Была ли она неизбежной? Или ее можно было избежать дипломатическими средствами? Его любимый город был очень близок к завоеванию гегемонии в греческом мире, и Фукидид будто бы говорит: мы добились, но потерпели поражение и никогда не сможем повторить успех. Историк подобен врачу, записывающему после смерти пациента: “Мы не могли ничего поделать”. Спарта заслонила Афинам солнце.
В названии этой главы – дилемма, потому что Геродот и Фукидид – настолько разные типы личности и демонстрируют противоположные подходы. Для обоих история повествует о сознательных деяниях, сознательно записанных авторами, однако Геродот заимствовал у других авторов, а Фукидид опирался лишь на собственные изыскания: невозможно представить, чтобы греки не замечали разительного контраста. По мнению Шамы, Фукидид (которого он называет отвратительным критиком Геродота[76], пеняющим тому за вольное обращение с источниками) как историк выиграл от того, что сам был участником войны: “Он хотел понять, как это все произошло. Геродот был больше скитальцем и путешественником, болтуном, тем, кто одновременно видел миф и важность сиюминутного, случайного”[77]. Геродот поспособствовал пониманию того, каким должно быть описание прошлого, а Фукидид укрепил (но также и сузил) новую форму. Он действительно считает историю особой дисциплиной, но собственное сочинение, что показательно, не считает historia. Фукидид не выносил то, что считал сентиментальностью Геродота. Не называя своего предшественника, Фукидид целит прямо в “истории, которые сочиняют логографы (более изящно, чем правдиво), истории, в большинстве ставшие баснословными и за давностью не поддающиеся проверке” (1.21). Впрочем, тогда античные историки придерживались общего принципа, что каждый должен изображать себя в чем‐то превосходящим своих предшественников. Возможно, оно и сейчас так.
Фукидид, вероятно, первый на Западе автор, который обращается к потомкам[78]. В отличие от Геродота, он думал не только о современниках. Кроме того, Фукидид первым объявил, что история должна приносить пользу. Он желает, чтобы политики в настоящем и будущем извлекли урок из написанного им. Возможно, в пику Геродоту он почти не называет своих источников и не приводит расхождения во мнениях. Его взгляд холоден и отстранен. Автор не рассказывает нам ни о жизни городов, ни об общественных установлениях, ни о женщинах, ни о произведениях искусства. Нет ни частных мотиваций или поясняющих отступлений. “Мое исследование при отсутствии в нем всего баснословного, – пишет Фукидид, – быть может, покажется малопривлекательным” (1.22.4).
В последние годы историки античности, по‐новому взглянув на произведение Фукидида, пришли к заключению, что он отнюдь не холодный и отстраненный историк – придерживался четкого замысла и обращался с материалом так, чтобы читатель принял его версию событий.
Дональд Каган, антиковед из Йельского университета, в своей работе 2009 года[79] утверждает, что Фукидид всеми силами отрицает, что Афины при Перикле представляли собой демократию – вопреки широко распространенному тогда мнению, – и намеренно собирает свидетельства против Клеона, афинского стратега, пришедшего к власти после смерти Перикла. (Последнего Фукидид изображает безрассудным и удачливым безумцем, а не проницательным и отважным вождем, хотя события показывают, что это действительно так.) Фукидид заявляет, что ему известно, что думают другие люди (например, население Афин), и, как правило, игнорирует такие важные обстоятельства, как позиции главных действующих лиц в важных спорах. Престарелого Никия (ок. 470–413 год до н. э.) – полководца, ответственного за провал Сицилийской экспедиции, которого афиняне считали трусом и рохлей, – Фукидид неубедительно изображает героем.
Фукидид верит в демократию, но лишь в хорошо устроенную, как при Перикле – диктаторе по сути, но не по наименованию. Он жаждет главенства Афин, но ценой менее масштабной войны. Когда город вступил в судьбоносную схватку с Сиракузами, Фукидид понял, что правящие круги в Афинах приняли роковое решение и что назначение Никия было ошибкой. Фукидид был страстным человеком, который пытался писать сдержанно. Он разрывался между тем, чему хотел верить, и тем, что, как он знал, происходило на самом деле. Однако его уважение к фактам означает, что можно увидеть моменты, когда убеждения уводят его в сторону. И для этого можно воспользоваться теми же доводами, которые он сам приводит: Фукидид остается точен в изложении событий, даже когда их ход доказывает его неправоту. Р. Дж. Коллингвуд в “Идее истории” (1946) объясняет это резко противоречивое явление “больной совестью”[80] Фукидида.
Одно из последствий такого сложного упорства Фукидида таково: появляется соблазн счесть его литературным Октавианом Августом по отношению к Геродоту-Антонию, ответственным управленцем по сравнению с рисковым авантюристом. У двух этих историков много общего. Оба они изгои: родной город Геродота, греческое поселение, был покорен персами, а бывшему военачальнику Фукидиду пришлось смириться с жизнью вдали от любимых Афин. Космополиту Геродоту всегда было тесно в оккупированном городе. Фукидид оказался изгнан собственными согражданами. Оба были богаты: Геродот получил состояние от отца, бывшего купцом, Фукидид – от золотых рудников во Фракии, принадлежавших его семье. Оба провели много лет на чужбине. Кроме того, им, как летописцам недавнего прошлого, приходилось решать сходные задачи.
Как, например, они обращались с таким обилием фактов и богатым опытом, как фиксировали их – чем, на чем? – без помощи вспомогательных средств, которых у них не было – карандашей, блокнотов, энциклопедий, универсального календаря, справочников? Наконец, как они заработали на этом труде себе хоть какую‐то репутацию?
У нас есть ответы на некоторые из этих вопросов. Тысячелетиями на Западе (как и почти везде) записать что‐либо было далеко не простой задачей. Греки боготворили память, причем в буквальном смысле[81]: у них была богиня памяти Мнемозина, мать девяти (чаще всего) муз-покровительниц эпической поэзии, любовной поэзии, гимнов, танца, комедии, трагедии, музыки, астрономии и истории. Упорядочение и сохранение знаний было жизненно важным средством; тренировка памяти представляла собой форму воспитания характера. Примеров тому множество. Рассказывают, что афинский государственный деятель Фемистокл знал по именам 20 тысяч своих сограждан, что современник Сократа похвалялся, будто он выучил наизусть “Илиаду” и “Одиссею” (почти 40 тысяч строк), а афинянам, плененным сиракузцами в ходе неудачной Сицилийской экспедиции, обещали свободу, если те споют любую песню хора из трагедий Еврипида (он одним из первых авторов осудил рабство). Некоторые, как рассказывают, сумели это сделать – и вернулись домой, в Афины, чтобы поблагодарить драматурга за спасение.
Можно предполагать, что на Геродота, а тем более на Фукидида, для которого делать заметки не было проблемой, повлияла эта традиция, которая помогла развить им память гораздо лучшую, чем у нас теперь. Вероятно, у него (или у его спутника-раба) имелись при себе свитки папируса, глиняные таблички, кисти, тушь. Этого мы не знаем наверняка, но когда он перечисляет более 940 лиц или в мельчайших деталях описывает культурную жизнь Египта либо одежды и оружие пестрого воинства Ксеркса, сила его памяти потрясает[82].
Геродот поселился в городе Фурии (современная область Калабрия), а Фукидид – в своем поместье во Фракии, где он являлся “одним из самых влиятельных людей” (4.105.1), и из собственного тугого кошелька платил ветеранам из Спарты и Афин за подробности о войне. Как только автор начинал работу над черновиком, рядом обустраивалось пространство, где чтец (не обязательно автор) диктовал текст нескольким переписчикам: в некоторых манускриптах есть повторы, позволяющие предположить, что чтец запинался. Фукидид хотел, чтобы его произведение переписывали как можно чаще – ради привлечения наибольшей аудитории, хотя ученые гораздо более позднего времени решили, что они продолжат копировать книги его и Геродота. Следует помнить и о том, что около 480 года до н. э. читать умели не более 5 % греков[83].
Греческий алфавит имел демократизирующее значение: в отличие от многих других письменностей, для письма и чтения не требовалось участия специалиста-писца. Без алфавита было почти невозможным появление драматургии. Старейшая из дошедших до нас греческих трагедий – “Персы” Эсхила (472 год до н. э.). Это также единственная, написанная на историческом материале пьеса того времени, дошедшая до нас. Греческий театр расцвел лишь с широким распространением грамотности. Письменность породила прозу[84].
Важны и инструменты. Египтяне, изобретя письменность, перешли от праистории к истории. Они отыскали материал для письма (кроме камня, меди, листьев). Тексты Гомера были однажды записаны на кишке змеи. Фукидид писал на глиняных черепках-остраконах. Египтяне нашли новое применение треугольным в сечении стеблям папируса, растения из семейства осоковых, произрастающего почти исключительно в дельте Нила. Его употребление восходит к эпохе Первой династии (3150–2890 годы до н. э.), а с V века до н. э. по всему Средиземноморью им стали пользоваться при изготовлении мебели, корзин, канатов, сандалий и лодок. Люди начали поверять свои мысли в первую очередь папирусу.
Первоначально слово “папирус” означало “то, что принадлежит дому”, а разнообразные сорта нередко получали названия в честь царей или чиновников. Греки чаще всего получали папирус из финикийского морского города Библ и поэтому называли это растение “библиос” (от этого слова позднее произошло английское book, “книга”). Как рассказывают, Геродот устраивал публичные чтения в Олимпии (возможно, во время одного из городских праздников), но сначала он прославился в Афинах. Там он за несколько выступлений получил вознаграждение в десять талантов (эквивалент 258,6 килограмма серебра), может быть, на агоре – центре общественной жизни всякого греческого полиса. Объявления о выступлениях размещались в людных местах, а сама по себе декламация требовала особых навыков: чтения устраивали под открытым небом, и приходилось это учитывать.
Говорят, что Фукидид решил взяться за историописание, слушая Геродота (тот выступал на ионийском диалекте), и, когда пришло время, с удовольствием декламировал речи своих главных персонажей. Одобрение этих чтений Платоном способствовало посмертной славе Фукидида, а позднейшие авторы, в том числе Марк Фабий Квинтилиан и Дионисий Галикарнасский, признавали драматическую мощь его прозы. Цицерон низко ценил его риторику: “Даже в его знаменитых речах столько темных и неясных выражений, что их с трудом понимаешь, а в политической речи это едва ли не самый тяжкий недостаток (30)”[85], однако он все же превозносит Фукидида, который “мастерством слова всех, по моему мнению, легко превзошел (56)”[86].
Геродот – путешественник, который не мог удержаться от превосходных степеней, его интересовало все. Дидактичный Фукидид ограничивает сферу своих интересов изучением войны и высокой политики: трансформация истории идет то в одном направлении, то в другом. “Прежде было общепринятым противопоставлять поэтичного сказочника Геродота Фукидиду, историку-ученому”[87], – пишет антиковед Эндрю Форд. А вот более строгий взгляд Уильяма Дюранта: “Дух Геродота и дух Фукидида отличаются друг от друга почти так же, как юность отличается от зрелости”[88][89]. Но, как удачно сказано, ни один студент не спросит у преподавателя: “Сэр! Если Геродот настолько глуп, зачем мы его изучаем?”
И Фукидид, и Геродот были частью транформации сознания, что мы все еще силимся понять. Можно предположить, что в древних культурах прошлое воспринимали как длящийся процесс, но историческое сознание не таково. Однако в минувшие века явно не было такого глубокого анализа. Авторы древних саг не конкурировали с летописями. И хотя много веков существовали крупные архивы – например, в городе Тель-эль-Амарна, в Верхнем Египте (основан Эхнатоном около 1350–1330 года до н. э.), или клинописный архив (около 1400 года до н. э.) в Богазкёе (около 240 километров от Анкары), – они не стали частью исторического наследия, а остались документами высшей бюрократии и не были доступны публике. Первую частную библиотеку составил, вероятно, Аристотель около 340 года до н. э.
Должна ли задача историка, как показывает пример Фукидида, ограничиваться несколькими дисциплинами в поиске объективной истины? Или же настоящий историк увлечен бесконечным исследованием, не общая внимания на дефиниции? Две с половиной тысячи лет мы только выигрываем от напряжения между этими вопросами. Необходимо оценить степень утонченности, предложенной ими обоими, и последовавший за ними взлет литературы. Но ареной “греческого Просвещения” явились всего несколько городов в Малой Азии. Пусть так. За время жизни чуть более двух поколений Греция стала исполинской созидательной силой, оставившей след в математике, астрономии, физике, драматургии, риторике, философии и истории (все эти названия образованы от греческих слов) и начавшей приключение, которое длилось почти тысячу лет.
Глава 2
Былая слава Рима: от Полибия до Светония
Свидетельства его [Тацита] кажутся порою слишком уж смелыми, как, например, рассказ о солдате, который нес вязанку дров: руки солдата якобы настолько окоченели от холода, что кости их примерзли к ноше да так и остались на ней, оторвавшись от конечностей. Однако в подобных вещах я имею обыкновение доверять столь авторитетному свидетельству.
Мишель де Монтень, 1588 г.[90]
Около двух веков, до Полибия, у Фукидида не было настоящего последователя. Почему так долго? Возможно, в глазах греков фиксация прошлого стала выглядеть упражнением в смирении: после бедствий Пелопоннесской войны у них было ощущение катастрофы, несбывшихся надежд, и они не хотели напоминаний.
Аристотель никогда не назвал бы себя историком, и ясно, по какой причине: история эмпирически непроверяема, ей нет места среди самых строгих отраслей знания. При этом в “Поэтике” Аристотель утверждает, что историография должна следовать некоторым эстетическим принципам, и четко отделяет историю от поэзии:
Историк и поэт отличаются не тем, что один пользуется размерами, а другой нет: можно было бы переложить в стихи сочинения Геродота, и тем не менее они были бы историей – как с метром, так и без метра, но они различаются тем, что первый говорит о действительно случившемся, а второй о том, что могло бы случиться. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории: поэзия говорит более об общем, история – о единичном[91].
Вероятно, это снижение значимости имеет последствия. Недавно молодая журналистка из Newsweek задала вопрос профессору Колумбийского университета: “Когда историки перестали излагать факты и начали ревизию в интерпретации прошлого?” – “Примерно во времена Фукидида”, – ответил он[92]. Может, и так. О минувшем много писали и после Фукидида, но считается, что до нашего времени дошло менее 20 % важнейших древнегреческих текстов[93].
Римлянам повезло не больше. Книга [“История гражданской войны”] Гая Азиния Поллиона (умер в 4 году), друга Вергилия, утрачена целиком. Сохранились лишь малые произведения Саллюстия. Уцелела небольшая часть сочинений Тита Ливия и Тацита. Страницы с 116 стихотворениями Катулла (84–54 годы до н. э.) дошли до нас, и то частично, по той причине, что ими заткнули винную бочку, найденную в XIV веке в Вероне. Трактат Витрувия (ок. 75–15 до н. э.) “Десять книг об архитектуре” – единственная из уцелевших крупных работ на эту тему, а также единственный, которым мы располагаем, источник данных о некоторых основных сражениях и осадах Античности, был обнаружен в 1414 году на полке в швейцарском монастыре. Мы знаем об Античности столько, сколько можем найти, например, в сильно пострадавшм от бомбардировки архиве (это яркое, хотя и необычное сравнение вскоре после Второй мировой войны сделал антиковед Эндрю Р. Берн).
Есть одно исключение в этом списке неудачников. Ксенофонт (ок. 430 – ок. 354 до н. э.)[94] написал несколько малых сочинений, в том числе “Элленика” (“Греческая история”). Ксенофонт продолжил там, где остановился Фукидид, в 411 году до н. э. (после его смерти последовала череда “продолжений” и подражаний, совсем как в случае “Звездных войн”), но это сочинение удручающе идеологическое и ненадежное. Единственный шедевр Ксенофонта – “Анабасис” (“Поход вглубь страны”). В юности Ксенофонт, выходец из знатного афинского рода, принял участие в двухлетнем (401–399 годы до н. э.) походе персидского царевича Кира Младшего против своего брата Артаксеркса II. В “Анабасисе” Ксенофонт описывает свое пребывание на войне.
Предприятие обернулось катастрофой, когда Кир погиб. Его десятитысячному войску, оказавшемуся на землях неприятеля (территория современных Турции и Ирака), пришлось пробиваться к морю. Джон Барроу в своей хронике историографии с восторгом отзывается о сочинении: это “оправдание воином поступков собственных и отряда, к которому он принадлежал. Это захватывающе подробный рассказ от первого лица… Ксенофонт – герой собственного произведения”[95]. Справедливо пользуется известностью фрагмент (гл. VII), в котором описывается выход войска к Трапезунту (современный Трабзон) на Черном море:
Когда солдаты авангарда взошли на гору, они подняли громкий крик. Услышав этот крик, Ксенофонт и солдаты арьергарда подумали, что какие‐то новые враги напали на эллинов спереди, тогда как жители выжженной области угрожали им сзади, и солдаты арьергарда, устроив засаду, убили нескольких человек, а нескольких взяли в плен, захватив при этом около двадцати плетеных щитов, покрытых воловьей косматой кожей. Между тем крик усилился и стал раздаваться с более близкого расстояния, так как непрерывно подходившие отряды бежали бегом к продолжавшим все время кричать солдатам, отчего возгласы стали громче, поскольку кричащих становилось больше. Тут Ксенофонт понял, что произошло нечто более значительное. Он вскочил на коня и в сопровождении Ликия и всадников поспешил на помощь. Скоро они услышали, что солдаты кричат “Море, море!” и зовут к себе остальных… Когда все достигли вершины, они бросились обнимать друг друга, стратегов и лохагов, проливая слезы (IV. 8. 22–25)[96].
Несмотря на то что это прекрасная литература, однако большая часть произведения – это апология. Ксенофонт писал в ответ двум группам критиков: товарищам по приключениям, ставившим под сомнение его мотивы; и – после возвращения домой – коллегам, подозревавшим, что он воевал просто за деньги. Люди знатные сражались не ради корысти, и Ксенофонт подчеркивает свою неподкупность, различая дары по мотивам гостеприимства (xenía) и dôra – взятки. Своему главному покровителю Севфу он пишет: “…я никогда не только не получал от тебя ничего за счет солдат и не просил для себя лично того, что принадлежало им, но никогда не требовал и того, что ты обещал мне самому. Клянусь, я и теперь не принял бы твоих подарков, если бы ты не решил одновременно отдать солдатам должное” (VII.7.39–40). Одна из величайших приключенческих историй Античности представляет собой страстную попытку оправдаться[97].
Легенда гласит, что Рим был основан в 753 году до н. э., когда волчица спасла младенцев-близнецов Ромула и Рема. Впоследствии Ромул возвел первые стены Roma Quadrata (“Квадратного Рима”). Возможно, что‐то подобное действительно имело место, но сюжеты об оставленных в опасности младенцах, которые потом совершают великие деяния, часто встречается в древней мифологии. А слово lupa означает и “волчица”, и “проститутка”. Как бы то ни было, выросшие братья повздорили, и Ромул (Romulus), согласно Титу Ливию, убил Рема и основал город (-ulus – это этрусский суффикс, обозначающий основателя), становился все более авторитарным правителем и внезапно выпал из истории на тридцать седьмом году своего правления, просто исчезнув в грозовом облаке.
Миф о Ромуле и Реме существует параллельно с историей о странствующем герое Энее (сыне смертного и богини Венеры), будто бы заложившем около 1184 года до н. э. Рим. “Настоящая трудность, с которой столкнулись римляне, состояла в том, что у них было две противоречащих истории основания их города, которые якобы произошли с разницей в несколько сотен лет независимо друг от друга… Римляне решили принять обе, а потому им пришлось каким‐то образом упорядочить их и совместить в одно как можно более правдивое повествование… Чтобы заполнить длительный промежуток времени, для связи этих двух легенд придумали целый список воображаемых царей Алба-Лонги, – пишет антиковед Энтони Эверитт. – Римские историки и собиратели древности не считали себя настоящими учеными. Подобно Цицерону и Варрону, они рассматривали себя членами правящего сословия, оказавшимися без дела”. Они желали верно изложить основные истины своей истории, “но когда им не хватало фактов, они обращались к легендам и старались заполнять пустые промежутки тем, что они чувствовали, и даже тем, что, по их мнению, должно было произойти”[98]. Итальянское изречение гласит: “Если это и неправда, то хорошо придумано” (Se non è vero, è ben trovato).
В момент максимального могущества Ромула население Рима, лежащего у брода через Тибр и расположенного на цепи вулканических вершин в долине, составляло около трех тысяч человек. Прошли века, прежде чем в Риме появился какой‐либо заметный историк: хотя с древнейших времен могли сохраняться какие‐то записи, латинская литература появилась лишь в III веке до н. э.[99]. После Ромула Римом владели этруски – жители Этрурии, лежавшей к северу и востоку от города (современная Тоскана). Около 500 года до н. э. римляне восстали, в ходе долгой борьбы добились независимости и учредили республику. Символом его власти стал Сенат и народ Рима (Senatus Populusque Romanus). В Риме аббревиатура SPQR до сих пор присутствует даже на крышках канализационных люков и урнах для мусора.
В 387 году до н. э. город разграбили галлы. Рим подвергался разорению еще шесть раз, но все же продолжал расти, и к 323 году до н. э. держава занимала площадь 10 тысяч квадратных километров (втрое больше площади штата Род-Айленд и чуть менее площади английского графства Йоркшир). При этом Рим, в отличие от Греции, за пятьсот лет мог в любой момент исчезнуть с карты. Центральную часть Средиземноморья город подчинил в ходе войны (280–275 до н. э.) с эпирским царем Пирром. Лишь через несколько поколений Рим присвоил роль великой морской державы: Тит Ливий, рассказывая о временах до учреждения флота, повествует, как римские граждане учились грести в песке. И все же ко времени Траяна (98–117) Рим, “ослепительный” (83)[100], как сказал Овидий, стал крупнейшим на планете городом с населением 1,4 миллиона человек, причем каждый третий его житель был рабом, а каждый десятый – воином. Город ежегодно потреблял 100 миллионов литров вина и 20 миллионов литров оливкового масла.
Размер римского государства на пике его могущества потрясал. На Африканском материке римляне образовали провинции Нумидию, Мавританию, Киренаику и Африку. Они владели сказочно богатым Египтом, Иберийским полуостровом, Галлией и Британией (римские руины встречаются и в Шотландии). Рим простирался до окраинных территорий Германии, земель вдоль естественной границы по Дунаю, на Балканский полуостров, а также значительную часть Малой Азии. Отдаленными провинциями на востоке были Иудея, Сирия и Месопотамия. Население огромной империи составляло 50–60 миллионов человек, над которым властвовала прослойка из сотни человек, связанных личными отношениями, и их приближенных. Греция вскоре после завоевания сделалась главной восточной провинцией. Греческое влияние было значительным. Многие греки-интеллектуалы отправлялись в Рим делать карьеру. Собственно римская элита считала настоящим языком цивилизации греческий, и уже с 250 года до н. э. богатые семьи приглашали для детей наставников, владевших греческим, и нередко сами говорили по‐гречески. Гораций писал: “Греция, взятая в плен, победителей диких пленила”[101].
Под греческое влияние римляне подпали не меньше чем на триста лет (с 148 года до н. э. по 150 год). Первые произведения на латинском языке появились около 240 года до н. э., немного спустя исторические записи о прошлом. Все взявшиеся за сочинение книг об истории были людьми дела – администраторами, воинами, политиками, – но в то же время располагавшие временем. В Риме к началу правления Нерона насчитывалось уже 159 государственных праздников в году (трижды в неделю), и один праздничный день приходился на один будний, да и тот длился всего шесть часов. Несомненно, подавляющее большинство римских граждан боролись за выживание, и в праздники эти люди нередко трудились, однако избранные располагали более чем достаточным для сочинительства свободным временем.
Почти все римские историки – люди высокого положения. Вот восемь из них, обыкновенно считающиеся виднейшими. Полибий (ок. 208 – ок. 116 до н. э.) был сыном крупного греческого политика и сам стал гиппархом – начальником конницы [Ахейского союза]. Гай Саллюстий Крисп (ок. 86–35 до н. э.) служил народным трибуном, сенатором и проконсулом. Гай Юлий Цезарь (102/100–44 до н. э.) – отпрыск одного из старейших римских семейств. Тит Ливий (59 до н. э. – 17 г.) был дружен с представителями клана Юлиев-Клавдиев и приобрел славу столь громкую, что один человек приплыл из испанского Гадеса (современный Кадис) в Рим только ради того, чтобы его увидеть. Иосиф Флавий (37–100) дружил с Титом, сыном Веспасиана. Тацит (ок. 56 – ок. 117) был сенатором. Плутарх (46–120) занимал в родном городе [Херонее в Беотии] должность архонта-эпонима. Светонию (69/75 – ок. 130) покровительствовали и Траян, при котором историк заведовал императорскими архивами, и Адриан (Светоний занимал должность его секретаря). Этим историкам не приходилось унижаться ради куска хлеба.
Полибий – первый на этой литературной карте. В его “Всеобщей истории” обрисовано стодвадцатилетнее восхождение Рима к вершинам могущества: с 264 г. до н. э. (тогда римляне впервые пересекли море и на Сицилии вступили в конфликт с карфагенянами) до разрушения Карфагена в 146 г. до н. э.[102]. События до 241 г. до н. э., однако, служат не более чем вступлением. Настоящий предмет интереса Полибия – полвека с начала Второй Пунической войны (218–202 до н. э.), а один из главных его мотивов – рассказать соотечественникам-грекам о новом мировом порядке, упадке родины и восхождении Рима. Люди жили и за пределами Западного Средиземноморья, но, по словам Джона Барроу, для Полибия “с Азией было… покончено. Рим и римская экспансия на юге и востоке – вот кто теперь творил мировую историю”[103].
Полибий хорошо знал, о чем говорит. Он оказался среди тысячи знатных заложников, уведенных после поражения Ахейского союза при Пидне (168 г. до н. э.) в Рим, и провел там шестнадцать лет (167–150 годы до н. э.). Полибий подружился с Публием Сципионом (сыном командующего римским войском при Пидне), разделявшим его любовь к книгам, и, в отличие от других заложников, получил разрешение остаться в столице. Даже живя вдали от родины (как и Фукидид, Ксенофонт, позднее и еврей Иосиф Флавий), Полибий пользовался там популярностью за посредничество между соотечественниками и новыми хозяевами Греции, и после смерти Полибия (в возрасте восьмидесяти двух лет он погиб, упав с лошади) в его честь были поставлены статуи по меньшей мере в шести городах. Из множества работ Полибия (в их числе биография греческого государственного деятеля [Филопемена], труд о тактике и краткая история его службы под началом Сципиона Африканского во время двадцатилетней войны в Испании) уцелела только сорокатомная “Всеобщая история” (изложение истории Римской республики с 264 по 146 год до н. э.), да и та не целиком. До нас дошли первые пять книг, почти вся книга VI и фрагменты еще тридцати четырех книг – и все же это добрые полтысячи страниц. Оригинал, вероятно, был в 4–5 раз длиннее книги Геродота: история расширялась. Но неудивительно, что столько утрачено: во‐первых, книги в то время приходилось старательно копировать вручную, во‐вторых, письменные принадлежности стоили недешево.
В том, что касалось стандартов своего ремесла, Полибий был педантом. “Задача историка состоит не в том, чтобы рассказом о чудесных предметах наводить ужас на читателей, не в том, чтобы изобретать правдоподобные рассказы [Получи‐ка, Фукидид! – Р. К.] и в изображаемых событиях отмечать все побочные обстоятельства, как поступают писатели трагедий, – настаивает он, – но в том, чтобы точно сообщить только то, что было сделано или сказано в действительности, как бы обыкновенно оно ни было” (II. 56)[104]. Исторические сочинения должны быть полезными, а не занимательными. Полибий упрекает предшественников за преувеличения, непристойности, украшательство, “болтовню”, эксплуатацию читательских предрассудков (у Феопомпа, описывающего безнравственность македонского двора), пристрастность (у Фабия и Филина соответственно к Риму и Карфагену) или сведение рассказа к одной-единственной теме. Поскольку теперь у мировой истории имелась центральная тема – возвышение, всего примерно за полвека (220–167 годы до н. э.), Рима, всякая иная тема мелка и узка. Не случайно Фукидида Полибий упомянул всего однажды, а имя Геродота не назвал вовсе. “Если же мы станем писать неправду преднамеренно, будет ли то из любви к отечеству, по дружбе или из лести, то чем мы будем отличаться от людей, которые пишут историю ради прибытка? – вопрошает Полибий. – …Посему и читателям следует зорко наблюдать за этой стороной изложения, да и сами историки обязаны беречься подобных ошибок” (XVI. 14).
Полибий начинает свое сочинение не с основания Рима, полагая, что ранняя история и так всем хорошо известна, концентрируется на последнем столетии, где и становится главным конкурентом Тита Ливия, более полувека спустя рассказывавшего во многом о том же самом периоде. С точки зрения Полибия, в истории наблюдается предсказуемая циклическая смена государственных форм (этот подход он позаимствовал у греческих теоретиков). Полибий полагает, что существуют три типа политического устройства: царство (не то же самое, что королевская власть, но близко), аристократия и демократия. Монархия со временем вырождается в тиранию, аристократия – в олигархию, а демократия – в охлократию (“власть толпы”). Эта концепция повлияла на Макиавелли, Монтескье, Гиббона и даже вигских историографов – все они верили в цикличность истории. Наиболее стабильным устройством является такое, в котором в разумном соотношении соединяются черты всех трех, ну а соотношение будет постоянно меняться.
Циклическое представление об истории свойственно также ряду крупнейших авторов, в том числе мусульманскому историку Ибн Хальдуну, немецкому философу Освальду Шпенглеру и некоторым конфуцианцам. Полибия интересуют причины событий (например, он хорошо разбирается в оружии и его влиянии на исход военных действий)[105]. К этому он добавляет уроки истории и влияния судьбы (олицетворявшейся греческой богиней Тихе, управлявшей судьбой городов), все вместе это становится “прагматической историей”, по Полибию, – историк должен понимать уроки истории и отдавать должное ее величию.
К счастью для нас, суровое понимание своего призвания не мешает ему помещать в том числе драматичные эпизоды: так, например, в рассказе о переходе войска Ганнибала через Альпы мы читаем о лавинах, о том, как вьючные животные падают в пропасти, мулы и лошади застревают в сугробах, об упрямстве слонов. В одном месте он рассказывает, как Ганнибал взрывает горную породу, сначала нагрев ее огнем, а затем вылив на скалу галлоны молодого вина. Отношение Полибия к Риму неоднозначно. Описывая события, он подробно описывает собственные достижения и великие деяния Сципиона Эмилиана, позднее – его друга и покровителя. Его стиль происходит из судебных речей греческих полисов и может быть до невозможности корректным. Кроме того, Полибий временами брюзжит, повторяется и ужасно скучен, но в лучших местах он мастер захватывающего исторического нарратива.
Полибий настаивает: документальные исторические источники важны, но чтобы рассказать о событиях недавнего прошлого, необходимы свидетельства участников: “Не может писать о государственном устройстве человек, сам не участвовавший в государственной жизни и в государственных делах” (XII. 25). Дороже всего – правда, даже если рассказчик – патриот: “Я готов извинить, если историк превозносит свое отечество, лишь бы уверения его не противоречили действительности (XVI. 14)”. Добросовестный историк должен знать города, реки, гавани и в целом географию (Полибий – родоначальник этой важной традиции в историографии), иметь политический и военный опыт и вообще должен быть бывалым путешественником. Сам Полибий много где побывал: “Мы подвергались опасностям странствований по Ливии, Иберии и Галатии, также по морю, ограничивающему их с наружной стороны” (III. 59). Будучи приглашенным к Сципиону в Северную Африку, он вернулся в Рим через Альпы, чтобы получить сведения о переходе Ганнибала, состоявшемся семьдесят лет назад, “от самих участников, местности осмотрены нами лично… ради изучения и любознательности” (III. 48).
Хотя Полибий ценил практический опыт выше изучения документов, очевидно, что у него имелся доступ к мемуарам и записям вне архивов и надписей, которые он, как мы знаем, старательно изучил. В тот период более чем в ста городах Италии имелись библиотеки. Никто не знает точно, когда они появились, но архивы (собрания документов, а не сочинений) существовали в Египте и Вавилонии уже до 3000 года до н. э., а институты, которые можно сравнить с библиотеками, – до 2000 года до н. э. Как отмечает Мэри Бирд, библиотеки – это
не только хранилища книг. Это инструменты организации знания и… контроля над этим знанием, ограничения к нему доступа. Это символы интеллектуальной и политической власти, далеко не безобидный очаг конфликта и сопротивления. Едва ли по соображениям безопасности столько наших крупных библиотек построено по образцу крепостей[106].
Выбор того, что именно попадало в библиотеки и там оставалось, имел политический смысл даже в большей степени, чем художественные решения. Ко времени Полибия уже существовала обширная литература на латинском языке. Первая в Риме публичная библиотека открылась в 39 году до н. э.[107]. Август построил еще две (и следил за этими собраниями: он повелел изъять книги Юлия Цезаря и Овидия; позднее Калигула распорядился убрать из библиотек сочинения Вергилия и Тита Ливия – просто потому, что они ему не нравились). К IV веку в Риме имелось одиннадцать общественных бань, двадцать восемь библиотек и сорок шесть борделей.
Поскольку литературные тексты тогда безнаказанно копировались (первым в истории законом о защите авторских прав стал английский Статут королевы Анны 1710 года), искаженные сочинения нередко расходились шире оригиналов. Все это важно для историков, поскольку литературный труд, как правило, прославляет знание. Даже учитывая, что античная “книга” примерно соответствовала главе современной книги, много веков частные библиотечные собрания были незначительными[108]. Джеффри Чосер (1343–1400) владел всего сорока книгами, Леонардо да Винчи (1452–1519) – тридцатью семью, а Бен Джонсон (1572–1637) – примерно двумястами. Римский читатель обращался в крупные общественные библиотеки или одалживал книги. В общем, Полибию, вероятно, пришлось побегать, но большая часть желаемого была ему доступна.
Можно ли считать преступлением, если историк нравов в точности передает подробности сообщенного ему повествования? Разве его вина, что действующие лица этого повествования, поддавшись страстям, которых он, к несчастью своему, совсем не разделяет, совершают поступки глубоко безнравственные?[109]
Гай Саллюстий Крисп испытывал сходные чувства и вполне мог подписаться под этими словами Стендаля из “Пармской обители”. Саллюстий – первый известный нам римский историк, работы которого уцелели до наших дней: два рассуждения о событиях совсем недавней истории – “О заговоре Катилины” (о попытке переворота в 63 году до н. э., предпринятой разоренным аристократом-демагогом) и “Югуртинская война” (о конфликте поздней республики с Нумидией – это примерно территория современного Северного Алжира – в 112–106 годах до н. э.), а также более масштабная, но дошедшая лишь в отрывках “История” Рима (78–67 годы до н. э.). Тацит восхищался Саллюстием. Квинтиллиан предпочитал его Титу Ливию и даже уподоблял Фукидиду – притом что своей репутацией Саллюстий обязан двум коротким сочинениям о событиях драматических, но незначительных, а также истории Рима, которая дошла до нас примерно в 500 фрагментах – в совокупности составляющих всего лишь 75 абзацев.
Саллюстий родился примерно в 100 километрах северо-восточнее Рима и, выйдя из бурной юности, делал политическую и военную карьеру. Во время войны с Помпеем он командовал войсками Цезаря и помог последнему справиться с врагами в Африке. За это Цезарь способствовал его возвращению в Сенат в 47 году до н. э. Саллюстий стал претором, а в 46‐м – наместником в Нумидии (здесь он услышал рассказы о восстании Югурты против римлян). Саллюстий, хотя его и обвинили в вымогательстве, избежал суда и остался сказочно богатым. После убийства Цезаря он удалился от общественной жизни и посвятил себя сочинительству. Возможно, его печалило отстранение от власти, но он нашел утешение в женитьбе на Теренции, бывшей жене Цицерона, и получил за ней большое приданое, в том числе два доходных дома в Риме, а также сады и большое поместье в пригороде столицы.
Колин Уэллс остроумно назвал Саллюстия “Яном Флемингом, выдающим себя за Грэма Грина”[110], по сути, ветреным человеком, притворяющимся строгим моралистом. Но это едва ли верно. Из изображения заговорщиков в первой книге Саллюстия, написанной через двадцать лет после заговора Катилины, ясно, что автора глубоко тревожит порча нравов. Причем Саллюстий, хотя и выставляет своего героя в дурном свете (в общем, справедливо: говорили, будто Катилина убил сына, чтобы заслужить благосклонность любовницы), приписывает ему и некоторые благородные качества.
События Югуртинской войны относятся к более раннему времени (111–105 годам до н. э.), но они все еще были живы в памяти римлян, и, кроме того, речь шла об африканском царьке провинции, наместником которой был сам Саллюстий. Югурта, правитель-клиент Рима, восставший против него, подкупал направляемых против него консулов и военачальников, и те заключали с ним перемирие. Наконец Югурте приказали явиться в Рим, и его спас один из народных трибунов, также подкупленный. Сенат велел Югурте покинуть город. Он оглянулся на Рим и сказал: “Продажный город, обреченный на скорую гибель, – если только найдет себе покупателя” (35.10)[111]. Однако когда командующим назначили неподкупного Гая Мария, Югурта был пленен, его заставили пройти по столице в триумфальной процессии – и казнили.
Саллюстий приводит этот отвратительный рассказ как очередное свидетельство снижения стандартов, но делает это совсем не так, как современники. Он ориентируется на Фукидида, которому подражает, и иногда намеренно затемняет свою мысль, но в целом язык Саллюстия понятен и выразителен, а его обличения коррупции производят большое впечатление. Впрочем, Саллюстий не был настолько преданным своему делу летописцем и строгим нравоучителем, как следующий историк Рима – Тит Ливий.
“Латынь – язык довольно грубый”, – говорил эрудит Дэниел Мендельсон. Страница латинского текста “может напоминать сложенную из кирпичей стену”[112]. Когда я учился в школе, много задавали из Тита Ливия, и мне странно считать великим историком этого автора непроходимого леса из абзацев, засаженного абсолютными аблативами, дативами, вокативами и аккузативами.
Тит Ливий родился в 59 году до н. э., в первое консульство Цезаря, в Патавии (современная Падуя), втором из богатейших городов Апеннин, широко известном консерватизмом своих жителей, и там же в 17 году н. э. умер. Тит Ливий, хотя и жил большей частью в Риме, был очень привязан к родному городу. Несмотря на республиканские симпатии, Тит Ливий был знаком с Августом и приятельствовал с Клавдием, которого обучал и призывал заниматься историописанием[113].
По-видимому, Тит Ливий посвятил жизнь писательству, и в “Истории Рима от основания Города” (Ab Urbe Condita) он повествует о событиях почти восьми столетий. Книги сгруппированы по десять, и “декада” составляла переплетенный том (приблизительный подсчет показывает, что труд Тита Ливия занял бы около двух дюжин томов формата crown-octavo 126 × 190 миллиметров по триста страниц)[114]. Из 142 книг “Истории” до нашего времени дошло тридцать пять (менее четверти) и аннотации остальных. В уцелевшей части повествование доведено до 167 года до н. э. (примерно сто лет до рождения Тита Ливия). В утраченных томах говорилось о Первой Пунической войне, бурных временах Гракхов, о Катоне, Третьей Пунической войне, о войнах Помпея, Цезаря, Антония и Августа, то есть о важных вещах, поэтому потеря велика[115].
Однако то, что дошло, подтверждает, настолько далеко продвинулось историописание. Теперь историческое сочинение представляло собой рассказ о прошлом, недавнем или далеком, со все возраставшим вниманием к делам политическим и военным. В отличие от Саллюстия и Цицерона, Тит Ливий работал в период пика трансформации Рима из республики в центр империи и безусловно верил в ее величие. Он не участвовал, что было необычным для римского историка, в политике. Тит Ливий считал единоличное правление необходимым злом и позволял себе критиковать Августа (лат. “священный”), хотя и разумно отложил до смерти императора публикацию книг о гражданских войнах и приходе последнего к власти.
Главная цель заключалась в том, чтобы противопоставить величие старых римских порядков современному упадку нравов – не так уж это отличалось от других летописцев города. Тит Ливий опирался на широкий круг источников, не особенно заботясь об их надежности, он сосредоточивался на основных речах его главных персонажей, нередко вкладывая им в уста слова собственного сочинения (но римлянин, в отличие от Фукидида, следил, чтобы выступления ораторов соответствовали их характеру). Тит Ливий целиком полагается на других историков, будучи уверенным, что сумеет написать лучше и ради лучшей цели. Он составлял окончательную историю Рима так, как никому прежде не удавалось, и повторяет весь набор народных легенд (почти столь же богатый, как греческая и библейская мифология) – от спасения волчицей Ромула и Рема до похищения сабинянок и защиты моста Горацием Коклесом.
От Тита Ливия мы узнаем почти все представляющие интерес истории о первых днях Рима: о римском патриотизме, героизме и самопожертвовании. Часто встречаются рассказы о сверхъестественном, он обращает внимание на плачущие статуи (даже если не верит в них), пишет о потоках крови, ливнях из камней и мяса, чудовищах и говорящих коровах. Тит Ливий похож на журналиста таблоида, упорного в своем деле: “Древности простительно, мешая человеческое с божественным, возвеличивать начала городов” (I.7)[116].
Исключительные события остаются в стороне, Тит Ливий по сути – не настоящий ученый, а взявшийся за историю литератор. Родившийся в Испании ритор Квинтиллиан (35–100) отметил присущее прозе Тита Ливия качество lacteal ubertas – “молочно-насыщенный”. Например, описывая войну с Ганнибалом (и во многом опираясь здесь на Полибия), Тит Ливий излагает события именно в такой живописной манере, которую предшественник терпеть не мог. Иногда кажется, что Тит Ливий фиксирует события только потому, что они есть в хрониках, как если бы он был простым летописцем, но уже вскоре мы оказываемся в центре бурно разворачивающихся событий. Вот воины Ганнибала, борясь со стихией, идут через Апеннины:
Дождь и ветер хлестали пунийцев прямо в лицо и с такой силой, что они или были принуждены бросать оружие, или же, если пытались сопротивляться, сами падали наземь, пораженные силой вьюги. На первых порах они только остановились. Затем, чувствуя, что ветер захватывает им дыхание и щемит грудь, они присели, повернувшись к нему спиною. Вдруг над их головами застонало, заревело, раздались ужасающие раскаты грома, засверкали молнии; пока они, оглушенные и ослепленные, от страха не решались двинуться с места, грянул ливень, а ветер подул еще сильнее (XXI.58).
В предисловии Тит Ливий утверждает, что даже более исторической точности он желает рассказать о поступках и людях, которым следует подражать. Он выступает против признаков упадка – от иноземной роскоши до отсутствия уважения к родителям. К ним относились дорогие накидки и покрывала на пирах, танцовщицы и кифаристки, “именно тогда стали платить большие деньги за поваров, которые до этого считались самыми бесполезными и дешевыми рабами, и поварской труд из обычной услуги возвели в настоящее искусство” (XXXIX.6). В предисловии Тит Ливий дает понять, что не только стремится изложить историю Рима:
Мне бы хотелось, чтобы каждый читатель в меру своих сил задумался над тем, какова была жизнь, каковы нравы, каким людям и какому образу действий – дома ли, на войне ли – обязана держава своим зарожденьем и ростом; пусть он далее последует мыслью за тем, как в нравах появился сперва разлад, как потом они зашатались и, наконец, стали падать неудержимо, пока не дошло до нынешних времен, когда мы ни пороков наших, ни лекарства от них переносить не в силах (Pr. 9)[117].
Это довольно пессимистичный взгляд, но вообще Тит Ливий считает прошлое превосходящим современность в моральном и интеллектуальном отношении. Но не стоит считать его унылым. Чаще всего он какой угодно, но не унылый – как, например, в его описании римских флейтистов, которые в 311 году организовали забастовку. Им не разрешили провести их ежегодный пир – лишили привилегии, которой они пользовались десятилетиями, с тех пор когда Рим переживал разгар войны. Крайне возмущенные, они отправились в Тибур, город в тридцати километрах к северо-востоку от Рима, в городе не осталось ни одного флейтиста, чтобы играть на многочисленных религиозных церемониях. Сенаторы пришли в отчаяние и призвали на помощь жителей Тибура. По случаю праздника те пригласили музыкантов в свои дома и угостили кушаньями и вином, до которых музыканты, согласно Титу Ливию, весьма охочи. Когда флейтисты опьянели и уснули, хозяева положили их на повозки и вернули в Рим, оставив вповалку на Форуме. Когда на следующее утро музыканты проснулись, чувствуя себя ужасно, вокруг собралась большая толпа, призывавшая их играть. Так они и поступили – в награду Сенат выдал им привилегию три дня в году шествовать по городу в нарядных одеждах без всяких ограничений. Никто не остался внакладе.
И если историописание теперь занимало прочное положение как ответвление литературы, то судьба Иосифа Флавия кажется предметом художественного вымысла. В 66 году, уже в период письменной истории, население Палестины восстало против римского правления. Иосиф Флавий (в то время звавшийся Иосефом бен Матитьяху) был ученым, священником и фарисеем. Человек умеренный и осторожный, он мало симпатизировал восставшим, но когда евреи изгнали римлян из Иерусалима, согласился возглавить оборону северной области Галилеи. Император Нерон вызвал Тита Флавия Веспасиана, военачальника, отличившегося при завоевании Британии, и поручил ему подавить восстание.
Явилось большое войско (около 60 тысяч), и после второго кровавого сражения отряду Иосифа Флавия пришлось отступить на юг Галилеи, и здесь, в крепости Иотапата, они провели следующие сорок семь дней в осаде. Воины Веспасиана нашли спрятавшегося Иосифа с сорока товарищами. Он хотел сдаться, но подчиненные сочли более почетным выходом самоубийство. Иосиф Флавий назвал самоубийство предосудительным и предложил по жребию убивать друг друга. Все согласились.
Будучи командиром, Иосиф Флавий устроил жеребьевку и был одним из двух оставшихся. По его словам, ему удалось хитростью просчитать последовательность и сохранить себе жизнь. Один за другим воины закололи друг друга, пока – “по счастливой случайности, а может быть, по божественному предопределению”[118] (III.8.7) не остались Иосиф и еще один воин. Иосиф Флавий убедил его, что жизнь в плену – не худшая доля, и они сдались. В заточении Иосиф Флавий будто бы получил божественное откровение и предсказал, что Веспасиан станет императором. Сочтя пленника вероятным пророком, римляне сохранили ему жизнь, и он стал заложником и переводчиком. Два года спустя, когда Веспасиан в 69 году воцарился в Риме (последним из четырех в том году императоров), он вспомнил о пророчестве и даровал пленнику свободу. Иосиф присовокупил к своему родовое имя императора – Флавий. Он окончательно перешел на сторону римлян, пережил трех жен-евреек и стал советником Тита, сына Веспасиана.
Иосифу Флавию, как известно, удалось написать историю восстания – книгу “Иудейская война” (Веспасиан и Тит, как говорят, просматривали текст), а после “Иудейские древности” – подробное изложение еврейской Библии с многочисленными прибавлениями и изъятиями. Вместе взятые, эти книги представляют собой первую авторитетную светскую историю евреев за два века, от Маккавеев (ранее поднявших восстание [166–142 до н. э.] против Рима) и сикариев (“кинжальщиков”, убивавших коллаборационистов) до разрушения Иерусалима Титом [в 70 году н. э.], созданное для читателей-нееврееев, говорящих по‐гречески. “Солдаты убивали иудеев на пути несметными массами. Не было ни пощады к возрасту, ни уважения к званию: дети и старцы, миряне и священники были одинаково умерщвлены. Ярость никого не различала” (V.5.1), – писал он. Приводимые им подробности расправ соперничают с ужасами, описываемыми историками глубокой древности.
Иосиф Флавий отчасти стремился опровергнуть обвинения в коллаборационизме и объяснить, что попросту воспользовался шансом. Он изображает себя бесстрашным и умелым полководцем, а свое пленение изображает национальной катастрофой. При этом Иосиф Флавий стремится объяснить законы и обычаи своего народа говорящей по‐гречески части населения империи (“Иудейская война” написана на родном языке историка – арамейском – и затем переведена на греческий). Он мало что рассказывает об Иисусе и первых христианах (настолько мало, что переписчики-христиане позднее прибавили нужные, по их мнению, детали), но сообщает ценные сведения о событиях, описанных в Новом завете.
Когда летом 2013 года я впервые приехал в Иерусалим, слова Иосифа Флавия были повсюду: на музейных табличках, камнях, рекламных буклетах и во всех исторических книгах. Я посетил крепость Масада, достопримечательность сионизма – еще одной величайшей легенды XX века, и услышал, как экскурсовод пересказывает историю Иосифа Флавия о том, как ему удалось избежать неминуемой, казалось бы, смерти. Экскурсовод закончил словами: “Кто бы не поступил иначе, имей он такую возможность? И кто не захотел бы, чтобы его считали героем?” И все мы, вообразив себя окруженными неприятелем и отсчитывавшими, вероятно, последние мгновения своей жизни, согласно кивнули. Но неудивительно, что Мэри Бирд называет Иосифа “самым удачливым предателем в истории”[119].
Его называли величайшим историком Рима, самым точным аналитиком автократического правления императоров. Вопреки своему прозвищу, означающему “тихий”, “молчаливый”, Публий Корнелий Тацит был выдающимся, красноречивым оратором, автором нескольких знаменитых книг. Детство Тацита, родившегося около 56 года в одной из северных провинций, пришлось на правление Нерона. Юность он провел на гражданской службе. Его отец, вероятно, был всадником (эквитом) и прокуратором провинции Белгика, то есть принадлежал к верхушке римского общества, но не к аристократии. Всадническое сословие напоминало клуб, членство в котором обусловливалось богатством. Эквиты пользовались особыми привилегиями, однако не настолько обширными, как сенаторы.
Сам Тацит к тридцати годам стал претором, был введен в Сенат, а после четырех лет отсутствия в Риме с женой, дочерью консула, сам стал консулом – одним двух главных должностных лиц, командовавших войском и председательствовавших в Сенате. Самый знаменитый процесс Тацита состоялся в 100 году: тогда он со своим другом Плинием Младшим добился осуждения за мздоимство и вымогательство проконсула Мария Приска, наместника Нерона, и изгнания виновного. Тацит мог сделать и большее, но закончил карьеру наместником провинции Азия (современная Турция). “На протяжении блестящей карьеры, – пишет Том Холланд, – он демонстрировал развитый, хоть и неявный, инстинкт выживания”. Когда императоры творили ужасное, “он предпочитал опускать голову и отводить взгляд”[120]. Но ему пришлось компенсировать этот консерватизм, когда он взялся за написание истории.
Через год после сложения обязанностей консула Тацит опубликовал две небольшие книги: “Жизнеописание Юлия Агриколы” (биография-панегирик о покойном тесте, наместнике Британии; именно Тацит впервые упомянул Лондон) и примерно тридцатистраничную “Германию” (“О происхождении и местоположении германцев”). Образованные римляне того времени живо интересовались независимыми германскими племенами и походами против них, и для Тацита эти книги стали пробой пера. Агрикола изображен не слишком живо, здесь мало занятных историй, а походы описаны в самых общих чертах (Тацита – вероятно, никогда не видевшего Германию – часто называли невоенным историком). Но резкость и проницательность, отличающие его поздние работы, уже присутствуют. Перечислив принятые Агриколой меры по романизации Британии, Тацит сообщает: “За этим последовало и желание одеться по‐нашему, и многие облеклись в тогу. Так мало-помалу наши пороки соблазнили британцев, и они пристрастились к портикам, термам и изысканным пиршествам. И то, что было ступенью к дальнейшему порабощению, именовалось ими, неискушенными и простодушными, образованностью и просвещенностью”[121] (“Жизнеописание Юлия Агриколы”, 21). (Имея в виду тестя, Тацит приводит афоризм: “И при дурных принцепсах могут существовать выдающиеся мужи” (42).) А в уста вождя британцев [по имени Калгак] вложено знаменитое обличение захватчиков: “Отнимать, резать, грабить на их лживом языке зовется господством; и создав пустыню, они говорят, что принесли мир” (30)[122].
Позднее Тацит написал намного более совершенные книги: “Диалог об ораторах”, “Историю” (от падения Нерона в 68 году и восшествия на престол Тиберия, содержит рассказ о кратком периоде гражданской войны, в том числе о 68/69‐м, “годе четырех императоров” – Гальбы, Отона, Вителлия, Веспасиана, – и доведена до смерти Домициана в 96‐м), а спустя еще примерно десятилетие – “Анналы” (сочинение известно под этим названием с XVI века), от смерти Августа до Клавдия. Повествование на 66 году обрывается на середине предложения. Более половины текста “Анналов” утрачено, в том числе средняя часть, где идет речь о безумце Калигуле.
Как и Титу Ливию, Тациту нравятся моральные наставления:
Я решил приводить только те высказывания в сенате, которые представляются мне либо достойными всяческой похвалы, либо примечательными по своей исключительной низости, ибо я считаю главнейшей обязанностью анналов сохранить память о проявлениях добродетели и противопоставить бесчестным словам и делам устрашение позором в потомстве (“Анналы”, III, 65).
Тацита, по‐видимому, не привлекает витиеватость, свойственная устным рассказам. Его в большей мере заботит занимательность. У Тацита немного сквозных философских или богословских идей, в его текстах есть противоречия, но в пристрастии к афоризмам он может соперничать с Геродотом: “Боязнь, что резня, раз начавшись, окончательно лишит его контроля над положением” (“История”, I, 39); “Даже самым мудрым людям от честолюбия удается избавиться позже, чем от других страстей” (IV, 6); “Больше всего законов было издано в дни наибольшей смуты в республике” (“Анналы”, III, 27); “Благодеяния приятны лишь до тех пор, пока кажется, что за них можно воздать равным; когда же они намного превышают такую возможность, то вызывают вместо признательности ненависть” (“Анналы”, IV, 18). Из-за плавного ритма последнее высказывание вполне можно приписать Сэмюэлу Джонсону.
Далее Тацит повествует о гражданских войнах, свидетелем которых сам оказался, и в его описании человеческих страданий соединены восхищение, отвращение и почти кинематографический размах. В 9 году в Тевтобургском лесу (современная Нижняя Саксония) три легиона попали в засаду, устроенную молодым германским вождем Арминием. Пять лет спустя римское войско во главе с Германиком вступило
…в унылую местность, угнетавшую и своим видом, и печальными воспоминаниями. Первый лагерь Вара большими размерами и величиной главной площади свидетельствовал о том, что его строили три легиона; далее полуразрушенный вал и неполной глубины ров указывали на то, что тут оборонялись уже остатки разбитых легионов: посреди поля белелись скелеты, где одинокие, где наваленные грудами, смотря по тому, бежали ли воины или оказывали сопротивление. Были здесь и обломки оружия, и конские кости, и человеческие черепа, пригвожденные к древесным стволам. В ближних лесах обнаружились жертвенники, у которых варвары принесли в жертву трибунов и центурионов первых центурий (“Анналы”, I, 61).
Впрочем, Тацита интересует не Римская империя в целом (“Моя хроника – совсем другое дело, чем истории раннего Рима”): он фокусируется на частной жизни ее правителей, их дворах и интригах, на высшем слое, к которому сам принадлежал. В начале “Анналов” Тацит объявляет, что намерен вести рассказ “без гнева и пристрастия, причины которых от меня далеки” (I.1). Увы, это не так, и в “Истории” очевидна его неприязнь к Домициану, которому, по собственному признанию Тацита, он отчасти обязан возвышением. Не обращая внимания на его многочисленные достижения, он назвал его человеком, душа которого “легко распалялась гневом”. Так, Тацит сообщает, что одним из любимых развлечений императора было казнить тех, кто досаждал ему, спустя годы после нанесенной обиды. Тацитовы портреты Тиберия (для его последних лет у историка едва находится доброе слово), Клавдия и Нерона близки к карикатуре – настолько сильные чувства испытывает автор. После смерти Тиберия Тацит подвел итог:
И нравы его в разное время также были несхожи: жизнь его была безупречна, и он заслуженно пользовался доброю славой, покуда не занимал никакой должности или при Августе принимал участие в управлении государством; он стал скрытен и коварен, прикидываясь высокодобродетельным, пока были живы Германик и Друз; он же совмещал в себе хорошее и дурное до смерти матери; он был отвратителен своею жестокостью, но таил ото всех свои низкие страсти, пока благоволил к Сеяну или, быть может, боялся его; и под конец он с одинаковою безудержностью предался преступлениям и гнусным порокам, забыв о стыде и страхе и повинуясь только своим влечениям (“Анналы”, VI, 51).
Захватывающее повествование, правда, другие рассказчики этому противоречат, утверждая, что Тиберий до самого конца находился в здравом уме и что ни описываемых Тацитом безудержных оргий, ни государственного террора никогда не было. Однако запоминается именно его рассказ, полный непристойных подробностей, например, что Тиберий заставлял юных мальчишек вылизывать ему гениталии, а детей старейших римских родов – многократно совокупляться у него на глазах. Во многих описаниях Тацит показывает себя тонким психологом, однако он полагает, что характер – вещь статичная и неизменная, поэтому, раз уж известно, что Тиберий заканчивал свое правление как диктатор, отсюда непременно следует вывод, что он с самого начала был порочным человеком. В других случаях Тацит вполне осознает, что моральная деградация – процесс долгий, нередко занимающий много лет, но императорам он этого простить не мог. Они, по его мнению, не способны совладать с коварными и жестокими женами; их секретари и советники льстят и потворствуют; имперские войска состоят из кровожадных толп, которые безнаказанно свергают правителей и попирают законы. К 68 году в живых не осталось ни одного потомка Августа.
Нельзя не отметить описательный талант Тацита, особенно рассказывающего о войне. Он неутомимый морализатор, хотя нетрудно выступать против императорского двора, из которого исходят “чередой свирепые приказания, бесконечные обвинения, лицемерная дружба, истребление ни в чем не повинных и судебные разбирательства с одним и тем же неизбежным исходом” (Анналы, IV, 33). В целом он демонстрирует стремление к правдивости изложения и анализу фактов; но успех пришел к нему не скоро. Плиний Младший настолько уверился в том, что “История” Тацита переживет века, что просил упомянуть там и себя, но уже историки конца императорского периода почти не упоминают Тацита, и до XIV века его читали мало, отчасти из‐за нелюбви христиан к автору-язычнику. И “Анналы”, и “История” дошли до Средневековья в одном-единственном списке, причем экземпляр “Анналов” оказался неполным и сильно пострадал.
Однако вскоре посыпались похвалы. Гиббон назвал Тацита образцом “историка-философа”. Макиавелли в “Государе” утверждает, что чтение “Анналов” и “Истории” открыло ему глаза на аморальность власти. Стендаль в своих романах более полусотни раз обращается к Тациту и читал его, будучи при смерти. Джефферсон, предпочитавший Тацита остальным античным историкам, писал внучке: “Тацита я считаю первым, безо всяких исключений, писателем мира”. Саймон Шама некоторое время даже пользовался адресом электронной почты с элементом Tacitus99.
Тем не менее к Тациту выдвигалось и выдвигается много претензий: какой эффект, например, произвели его утверждения, что германские племена сохраняли расовую чистоту – “никогда не подвергавшиеся смешению через браки с какими‐либо иноплеменниками, искони составляют особый, сохранивший изначальную чистоту и лишь на себя самого похожий народ”[123]. “Германия”, так восхвалявшая их простые добродетели, послужила литературной основой для бунта немецких протестантов против католичества в XVI веке и для куда менее симпатичного немецкого национализма XIX–XX веков. Критики называли Тацита антисемитом, и уже в наше время его книги запрещали в Восточной Европе. Стэнфордский антиковед Кристофер Кребс в сочинении “Самая опасная книга” рассказывает, как нацисты объявили “Германию” “библией”, “золотой книжицей”, свидетельством о славном прошлом немцев[124]. Генрих Гиммлер, которому нравилось воображать древних германцев свободолюбивыми воинами, диковатыми, но благородными, написал предисловие к изданию Тацита 1943 года. Впрочем, как хорошо известно, Третий рейх охотно искажал суть книг в пропагандистских целях. Достаточно сказать, что почти два тысячелетия Тацит оставался необыкновенно влиятельной фигурой.
Рим – почти наверняка самый часто описываемый город, но в разговоре об интересующем нас сейчас периоде необходимо упомянуть еще двух историков – Плутарха (46–120), утверждавшего, что история его мало интересует, однако ставшего главным источником “римских” пьес Шекспира (известное описание Клеопатры на корабле почти дословно взято у Плутарха), и Светония (69 – ок. 130), чье колоритное повествование, вероятно, легло в основу романа “Я, Клавдий” Роберта Грейвза.
Родился Плутарх в глуши, в беотийском городке Центральной Греции, и латинским языком владел не идеально – по его собственным словам, ему было не по плечу “постигнуть красоту и стремительность римского слога, его метафоры, его стройность”[125]. Наследие его было огромно, не менее двухсот двадцати семи названий, в том числе очерки на разнообразные темы, от “Лика, видимого на диске Луны” до “О том, как похвалить себя, не возбуждая зависти”. Плутарх стремился и развлекать, и поучать. Он считал, что ход истории направляют лишь великие, и его “Сравнительные жизнеописания” содержат парные биографии двадцати трех знаменитых греков и римлян (от Энея до Августа охватывают всю древность), а также четыре одиночные плюс еще один набор из четырех героев. При этом почти треть текста посвящена прославленным деятелям середины I века до н. э., хорошо знавшим друг друга: Помпею, Крассу, Катонам, Цезарю, Бруту, Антонию, Цицерону (поставленному в пару с Демосфеном). Цель Плутарха – обрисовать моральный облик своих персонажей, и он часто обращает внимание на стиль устной или письменной речи своего избранника, ища подсказки для понимания его личности. Свой метод он объяснял так:
Мы пишем не историю, а жизнеописания, и не всегда в самых славных деяниях бывает видна добродетель или порочность, но часто какой‐нибудь ничтожный поступок, слово или шутка лучше обнаруживают характер человека, чем битвы, в которых гибнут десятки тысяч, руководство огромными армиями и осады городов[126].
Великий голландский гуманист Эразм Роттердамский сравнил “Жизнеописания” с изысканной мозаикой. Но Плутарха, хотя некоторые его портреты психологически сложны, мало интересовали достоверность и следование источникам (последнее странно, ведь он охотился за старинными рукописями). И все же его биографии прекрасно читаются, а рассуждения о республиканской добродетели с энтузиазмом восприняли французы в конце XVIII века (Шарлотта Корде провела утро перед убийством Марата за чтением самых кровавых мест в “Сравнительных жизнеописаниях”). Острить Плутарх тоже умел. В его “Римских вопросах” читаем:
49. Почему соискатели государственных должностей являлись народу без туники, в одной тоге, как о том свидетельствует Катон? [Не для того ли, чтобы они не принесли за пазухой деньги и не могли подкупать народ? Или, вернее, для того чтобы достойных власти избирали не по знатности, богатству или славе, а по рубцам и шрамам на их теле, которые они и показывали встречным, являясь в собрание без туники? Или же соискатели, добиваясь расположения народа приветствиями, окликаниями и лестью, в знак униженности выставляют и свою наготу?]
55. Почему в январские Иды флейтистам позволено разгуливать по городу в женских одеяниях? [Рассказывают, будто бы царь Нума из благочестия даровал флейтистам немалые почетные права, а децемвиры, располагавшие консульской властью, потом лишили их этих почестей, и тогда флейтисты покинули город. Но жрецов охватил суеверный страх перед священнослужением без сопровождения флейты, и за флейтистами послали, но посланцам они ответили отказом и остались в Тибуре. Тогда какой‐то вольноотпущенник тайно пообещал магистратам, что он приведет флейтистов назад. Под предлогом жертвоприношения он устроил богатое пиршество и пригласил флейтистов. На пиру были женщины и много вина, гости шумели и плясали целую ночь, как вдруг вбежал хозяин и объявил, будто к нему пришел патрон. В притворном смятении он сумел убедить флейтистов сесть на телеги, крытые шкурами, и пообещал отвезти их в Тибур. В этом и заключался обман: он сделал круг и к рассвету незаметно привез флейтистов, ничего не видевших от вина и темноты, в Рим; а по случаю ночной попойки многие из них оказались обряжены в пестрые женские одежды. Власти убедили флейтистов остаться, обе стороны пришли к согласию, и с тех пор у флейтистов повелся обычай разгуливать в этот день по городу в таком наряде.]
87. Почему волосы у новобрачных разделяют на пробор острием копья? [Может быть, этим хотят напомнить, что первые жены римлян были добыты силою и с помощью оружия? Или же невестам внушают, что они выходят замуж за храбрых воинов и должны довольствоваться простыми, скромными и незатейливыми украшениями? Ведь точно так же Ликург, запретив пользоваться для изготовления дверей и крыш чем‐либо, кроме топора и пилы, изгнал этим всякую роскошь и всякое излишество. Или под этим разумеют, что только железо может расторгнуть брак? Или дело в том, что почти все брачные обряды связаны были с Юноной, а копье тоже считали ей посвященным?]
93. Почему для птицегаданий отдают предпочтение коршуну? [Потому ли, что Ромулу при основании Рима явилось двенадцать коршунов? Или потому, что это самая редкая и необычная птица?][127]
Светоний, современник Плутарха, принадлежал, как и отец Тацита, к сословию всадников (эквитов) и занимал довольно высокое положение в обществе. Важнейшее из дошедших до нас сочинений Светония называется “Жизнь двенадцати цезарей” и представляет собой собрание биографий римских принцепсов от Юлия Цезаря до Домициана. Жизнеописание каждого построено по плану: автор рассказывает о внешности персонажа, знамениях, истории семьи, его мнениях и, наконец, хронологии событий. Читать Светония интересно (он раздает острые характеристики, например, Веспасиана, ехидно описывает так: “Роста он был хорошего, сложения крепкого и плотного, с натужным выражением лица: один остроумец метко сказал об этом, когда император попросил его пошутить и над ним: «Пошучу, когда опорожнишься»”[128]), но верить его рассказам можно разве что на собственный страх и риск[129]. Поскольку Светоний жил примерно в то же время, что и Тацит, их часто сравнивают, и после смерти Светоний оказался популярнее – главным образом у него мы черпаем сведения о Калигуле и Клавдии, и, кроме того, он первым упомянул об эпилепсии Юлия Цезаря.
Поначалу Светоний действительно пытался искать свидетельства очевидцев в императорских архивах, но скоро ему отказали в доступе – оставалось полагаться на иные источники, в основном на домыслы и рассказы других историков. Ряд его утраченных полностью или частично работ повествовал о различных сферах культуры и общественной жизни (например, о римском календаре, названиях морей, знаменитых гетерах), однако о существовали этих сочинений нам известно только от других авторов. Учитывая описываемый период, любопытно, что у Светония появляется (единожды) некий Chrestus, а в жизнеописании Нерона он упоминает ненавистную секту христиан.
Дэниел Вулф во “Всемирной истории истории” утверждает, что у римлян история превратилась в нравственное воспитание на примерах, однако она определенно была таковой и у греков: как и их наследники римляне, греки уделяли мало внимания социальным вопросам, положению женщин и экономике и концентрировались на делах политических и военных. Тем не менее историография появилась именно в ту эпоху. Римский подход поставил новые важные вопросы: как отличить ощущение прошлого от истории? Когда первое перестало быть только памятью и традицией и превратилось в конструирование истории? И когда история стала объектом осознанного исследования? Эти вопросы становились все острее, по мере того как описание событий прошлого приобретало целенаправленный характер: у истории появилось духовное измерение.
Пришло время поговорить о библейских историках.
Глава 3
История и миф: творцы Библии
Вспомни дни древние, помысли о летах прежних родов; спроси отца твоего, и он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе.
Второзаконие 32:7
Открытым Библиям, несчетным удивленьям…
Джордж Герберт, 1633 г. [130]
Библия – это не только крупнейший бестселлер всех времен, но и самая популярная книга года – каждого года, по словам Джона Апдайка, “всемирный бестселлер”[131]. Каждые двенадцать месяцев в одной только Северной Америке продается около 25 миллионов экземпляров – вдвое больше, чем самая популярная книга о Гарри Поттере. В 91 % домов в США имеется по меньшей мере одна Библия (средний показатель – четыре). Только английских переводов Библии (которая сама, напомним, есть плод работы переводчиков) насчитывается более полутысячи[132] – в том числе особые издания для сообщества ЛГБТК+, для людей, желающих избавиться от наркотической зависимости, для серферов и скейтбордистов. Есть даже детская версия с супергероями[133].
Слово “Библия” происходит от греческого библиа, которое, в свою очередь, вероятно, пошло от финикийского города Библ (Гебал), откуда в Грецию возили египетский папирус. Означает оно “малые книги”, и недаром: самый сложный из существующих текстов представляет собой написанную на трех языках антологию, над которой более сорока авторов с трех континентов работали не менее 1,2 тысячи лет (похоже на образование геологических пластов). Обычно считается, что Библия состоит из 66 книг, хотя это сильное упрощение. В иудейском Танахе 24 книги. Протестанты числят в Ветхом Завете 39 книг, католики признают 46, а у православных (в зависимости от традиции) от 48 до 50 книг. И хотя в Новый Завет обычно включают 27 книг, более или менее обоснованно можно было бы прибавить к ним больше сотни Евангелий. В привычном нам виде Библия содержит поэтические тексты, набор поучительных рассказов, часто разрозненных, законы, пророчества, дивной красоты полеты фантазии[134] и элементы истории (так, например, “Песнь Деворы”, которая старше и “Илиады” и “Одиссеи”, была настоящим воинским песнопением и уходит корнями в реальные события).
В Библии упоминается много племен и народов, обитавших на описанных в ней землях. К северу живут хананеи, хетты, амореи, ферезеи, хивиты, гергесеи, иевусеи, филистимляне, финикийцы, к востоку – арамеи, а к югу – аммонитяне, моавитяне и идумеи. С XII века до н. э. самыми многочисленными стали евреи, а территория размером с Уэльс или американский штат Мэн сделалась местом пересечения торговых путей из Африки и Азии. Большая часть Ветхого Завета записана в основном на древнееврейском языке, между VIII и IV веком до н. э. Книга Премудрости Соломона и четыре книги Маккавейские сочинены во II веке до н. э. Первой книгой Нового Завета, вероятно, стало Первое послание к Фессалоникийцам (ок. 50 года), последней – Откровение (Апокалипсис), как считается, записанное Иоанном Богословом в период правления Домициана (81–96).
На наш современный взгляд, в одном только Ветхом Завете уже полно противоречий и невозможных событий. Как гласил заголовок в сатирическом журнале Onion: “В Библии обнаружена небольшая неточность”[135]. Кроме того, Библия содержит заимствования из “кодекса” вавилонского царя Хаммурапи (это двести восемьдесят два закона, где в числе прочего заявлен принцип наказания “око за око, зуб за зуб”), а значительная часть предания о Всемирном потопе перекочевала туда из месопотамского эпоса о Гильгамеше (XVIII век до н. э.). Даже Десять заповедей отчасти взяты из договоров Хеттского царства (Малая Азия, около 1600 года до н. э.). Бог знает почему слова Библии вообще понимают буквально: иудеи всегда считали начало книги “Бытие” вымыслом. Когда сегодня настаивают на буквальном прочтении, это обусловлено главным образом влиянием протестантов Юга США примерно с 1910 года.
Правильнее было бы называть это уникальное произведение мифом о сотворении мира. Первые пять книг Библии – Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие – известны как Тора (евр. “учение, закон”)[136], или Пятикнижие Моисеево, и до конца XVII века их единственным автором считался этот великий пророк.
Еще в XI веке Исаак ибн-Йашуш, живший в мусульманской Испании врач-еврей, составил перечень исторических расхождений и утверждал, что некоторые части Пятикнижия записаны после Моисея. За это ибн-Йашуша прозвали “пустобрехом” – mahbil, но к XV веку у него нашлись сторонники, указавшие кроме прочего, что Моисей едва ли мог рассказать о собственной смерти, описанной во Второзаконии (34:5). (Если, конечно, мы не имеем дело с гипертиместическим синдромом – редким заболеванием, характеризующимся “необычно подробными автобиографическими воспоминаниями”.) Но и тогда вера, что Пятикнижие составлено Моисеем единолично, сохранилась, и книги скептиков (в том числе Баруха Спинозы и Томаса Гоббса) оказались среди запрещенных католической церковью. За шесть лет после высказывания Спинозы его отлучили от общины, на него подавали в суд, на его жизнь покушались. И неудивительно, ведь он утверждал, что Библия – дело рук человеческих, что в ней нет уникальных сведений об исторических событиях или о природе божественного, что изучать ее надлежит так же, как и всякую другую книгу, и, следовательно, учитывать мотивацию авторов[137]. Но несмотря на то, что критики Спинозы заклеймили его безбожником, скептические голоса не умолкали, и к концу XIX века Пятикнижие признали плодом труда нескольких авторов, работавших с 1000 года до н. э. (время Давида) до 500 года до н. э. (время Ездры), который был приведен к своей нынешней форме в период с 538 до 332 года до н. э.
Одна из отличительных черт Ветхого Завета – повторы. По два раза повторяются рассказы о Творении, о завете Господа с Авраамом, о наречении Исаака, сына Авраама, и так далее. Сложилось представление, что в основе книг Моисея лежит несколько более древних источников, которые объединялись и комбинировались. Примерно с 1780 года ученые стали присваивать предполагаемым оригинальным документам буквенные обозначения, начиная с J
