Евгений Шварц бесплатное чтение
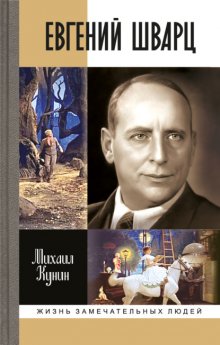
© Кунин М. М., 2025
© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2025
Пролог
Kогда-нибудь ты дорастешь до такого дня, когда вновь начнешь читать сказки.
Клайв Льюис
Сказка рассказывается не для того, чтобы скрыть, а для того, чтобы открыть, сказать во всю силу, во весь голос то, что думаешь.
Евгений Шварц
Когда мы читаем сказки и пьесы Евгения Шварца, нас не покидает ощущение удивительного изящества повествования. Всепобеждающий юмор произведений Шварца – порой грустный, всегда тонкий, иногда язвительный, на грани с иронией – не оставляет равнодушным ни одного вдумчивого читателя. Он проникает в самое сердце, ранит и садни́т. Вот устами Первой придворной дамы в «Голом короле» Шварц предостерегает Принцессу: «Вы так невинны, что можете сказать совершенно страшные вещи». А вот Король из «Обыкновенного чуда» говорит об одном из своих предков: «Когда душили его жену, он стоял рядом и всё время повторял: “Ну потерпи, может, обойдется!”» Не теряют актуальности слова архивариуса Шарлеманя из «Дракона»: «Единственный способ избавиться от драконов – это иметь своего собственного».
Не будем забывать, что цитируемые произведения написаны во времена, когда даже самая осторожная критика происходящего вокруг грозила писателю жестокой расправой. Шварц такой критики избегал, но по аллюзиям, которыми полны его пьесы, нетрудно сделать вывод о гражданской позиции автора. «Уйти от чувства, что за забором сада, который тебе положено возделывать, кого-то душат, невозможно», – писал Шварц в своем дневнике. В другой раз он отметил: «Бог поставил меня свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха… Видел, как ложь убила правду везде, даже в глубине человеческих душ». Он нашел способ ответить на эту ложь иносказанием, и всё же многие из шварцевских пьес были обречены на долгий запрет и стали известны широкой публике лишь во второй половине 1950-х.
Насколько бесстрашным был этот скромный человек тонкого душевного склада, можно судить по двум характерным для него эпизодам послевоенного времени.
«…Когда грянула ждановская речь[1], мы были в Риге, шли съемки картины “Золушка”, – вспоминает актриса Елена Юнгер. – Через несколько дней мы вернулись в Ленинград. К нам зашел Евгений Львович Шварц. Николая Павловича[2] не было дома. “Пойдем навестим Анну Андреевну, – сказал Шварц. – Я думаю, каждый визит ей сейчас дорог и нужен”. Мы вышли на Невский, прошли пешком до Фонтанки. Почти всю дорогу молчали». А ведь многие бывшие коллеги Ахматовой по Союзу писателей не только прекратили с ней общаться после выступлений Жданова, но даже, завидев ее издали, переходили дорогу, чтобы не встретиться с ней… «Я всем прощение дарую / И в Воскресение Христа / Меня предавших в лоб целую, / А не предавшего – в уста», – написала тогда Ахматова.
Второй эпизод относится к собранию 15 июня 1954 года в Ленинградском отделении Союза писателей, на котором травили Михаила Зощенко, за месяц до этого на встрече с английскими студентами сказавшего о своем несогласии с критикой Жданова. Теперь Зощенко четко и убежденно отвечал на обвинения собравшихся на экзекуцию писателей, называвших его «пособником наших врагов». Михаил Михайлович был приглашен на трибуну для публичного покаяния, но никто не ожидал, что он осмелится восстать. «Что вы от меня хотите? – спросил Зощенко. – Вы хотите, чтобы я сказал, что я согласен с тем, что я подонок, хулиган и трус? А я – русский офицер, награжденный георгиевскими крестами. И я не бегал из осажденного Ленинграда, как сказано в постановлении – я оставался в нем, дежурил на крыше и гасил зажигательные бомбы, пока меня не вывезли вместе с другими».
Как вспоминает присутствовавший на собрании писатель Даниил Гранин, Зощенко, по пунктам зачитав опровержение на каждое из обвинений, предъявленных ему в докладе Жданова, закончил свое выступление ровно и холодно: «У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею». Он «спускался, словно уходил от нас в небытие, – пишет Гранин. – Не раздавленный, он сказал то, что хотел, и ясно было, что отныне это будет существовать». Собравшиеся молчали, и лишь два человека аплодировали Михаилу Зощенко из разных концов зала. Одним из них был Шварц, который аплодировал стоя, невзирая на осуждающее покачивание головой председателя собрания.
Именно таким вошел в историю писатель Евгений Шварц – человек, чей тихий голос становился громким только тогда, когда были попраны добро и справедливость, и чье перо сказочника клеймило те пороки общества, о которых большинство боялось говорить даже шепотом.
Часть первая
Годы странствий
Глава первая
Семья
Будущий писатель появился на свет в Казани 9 (21) октября 1896 года. Его отец, Лев Борисович Шварц, вырос в портовом городе Керчь-Еникале Таврической губернии и происходил из мещанской еврейской семьи. Получив начальное образование в Екатеринодарской мужской гимназии, он подал документы в Императорский Харьковский университет, но не вошел в число принятых в университет евреев. Напомним, что тогда для «лиц иудейского вероисповедания» во всех российских вузах существовала строгая процентная норма, но самые строгие законы в России всегда можно было обойти. Решив бороться за свою мечту, Лев обратился с прошением к министру народного просвещения и с его разрешения в 1892 году был принят в число студентов Императорского Казанского университета на медицинский факультет.
В Казани в период студенчества Лев Шварц встретил слушательницу акушерских курсов Марию Шелкову, происходившую из русской православной семьи. Лев и Мария полюбили друг друга. Решив жениться, Лев Борисович выразил готовность принять крещение, поскольку брак еврея и православной был возможен в то время только при соблюдении этого условия. К радости жениха и невесты, их отцы дали согласие на заключение брака своих детей по православным канонам. Лев Шварц крестился в Михаило-Архангельской церкви города Казани 18 мая 1895 года, и вскоре состоялось бракосочетание.
По складу и темпераменту родители Евгения Львовича были, казалось, совершенно разными людьми, похожими лишь тем, что оба они выросли в семьях, в которых воспитывалось по семь детей. «Отец был сильный и простой, – писал Евгений Шварц. – Участвовал в любительских спектаклях. Играл на скрипке. Пел. И расхаживал по дому в римской тоге. Рослый, стройный, красивый человек, он нравился женщинам и любил бывать на людях. Мать была много талантливей и по-русски сложная и замкнутая…»
И тогда, и после, много лет спустя, Шварц, искренне любивший своих родителей, много размышлял о притяжении этих противоположностей: «Отец происходил из семьи, несомненно, даровитой, со здравой, лишенной всяких усложнений и мучений склонностью к блеску и успеху. Исаак с огромным успехом исполнял даже такие роли, как Уриэль Акоста[3], удивляя профессионалов, Самсон уже имел имя на провинциальной сцене, Маня и Розалия с блеском окончили консерваторию, Феня была блистательной студенткой-юристкой в Париже, и Саша подавал надежды. И Тоня уже шел по пути старших чуть ли не с трех лет. Мама же обладала воистину удивительным актерским талантом, похвалы принимала угрюмо и недоверчиво и после спектаклей ходила сердитая, как бы не веря ни себе, ни зрителям, которые ее вчера вызывали… Думаю, что отец смотрел на удачи свои, принимал счастье, если оно ему доставалось, встречал успех – как охотник добычу. А мама – как дар некоей непостижимой силы, которая сегодня дарит, а завтра может и отнять. Она ужасно молилась, стоя перед иконою на коленях, но верила в предчувствия, в приметы, в сны. Если мама видела во сне, что рвет яблоки в саду, рядом с которым жила в детстве, а хозяйка качает головой, укоризненно глядя на нее, то сон этот значил, что маме сегодня плакать по какому-нибудь поводу. Вообще приметы ее и сны большей частью предвещали горе. Не к добру было слишком много смеяться, не к добру было петь по утрам». Однако стремление к славе, мечта о ней были чертой, свойственной обоим родителям Шварца: «Но, правда, мечтали они по-разному, и угрюмое шелковское недоверие к себе, порожденное мечтой о настоящей славе, Шварцам было просто непонятно. Недоступно». «Шварцевское» отношение к славе и успеху казалось Евгению Львовичу простым и естественным, в то время как русское, «шелковское» – сложным и полным противоречий, сомнений в себе, но при этом более глубоким и подлинным.
Раннее детство Жени Шварца прошло в переездах, связанных со службой отца. Кроме того, каждые летние каникулы Шварцы вместе отправлялись либо в Рязань, где жили родители Марии Федоровны, либо в Екатеринодар, к родителям Льва Борисовича, поскольку привязанность к своим семьям сильна была у обоих родителей. «Я страстно любил вагоны, паровозы, пароходы, всё, что связано с путешествиями, – пишет Шварц. – Едва я входил в поезд и садился за столик у окна, едва начинали стучать колеса, как я испытывал восторг. <…> Помню огромные залы, буфетные залы, где ждали мы пересадки. Тоненькие макароны, которые почему-то считал свойственными только вокзалам и которые иногда с соответствующей мясной подливкой и теперь напоминают мне детское ощущение дороги, праздника».
Родители Льва Борисовича из практических соображений тоже приняли крещение. Отец семейства Берка Шварц, в крещении Борис Лукич, трезво оценил возможности, которые давал его семье переход из иудаизма в православие – открытые двери в российские университеты для его детей, избавление от «черты оседлости» и дорогу к предпринимательству. Борис Лукич имел мастерскую художественной мебели с соответствующим магазином в Варшаве. С одним или двумя помощниками он изготавливал мебель из красного дерева, бука, дуба и березы – по своему вкусу или на заказ. Жили в достатке, хотя и без роскоши. В середине 60-х годов XIX века он перевез семью из Варшавы сначала в Керчь, а позже – в Екатеринодар. Все его дети получили высшее образование. Старший сын Исаак, окончив естественный и медицинский факультеты Императорского университета в Москве, стал врачом-ларингологом. Отец Жени Лев стал хирургом после окончания Казанского университета, Григорий (до крещения Самсон) – известным в провинции актером. Младший сын Александр стал адвокатом, окончив юридический факультет. Федора получила юридическое образование во Франции и стала прекрасным специалистом. Розалия и Мария стали профессиональными музыкантами, причем первая училась в Берлине, а вторая – в Вене, поскольку в России в то время женщины не могли получить высшее образование. Жена Бориса Лукича Хая-Бейла, в крещении Бальбина Григорьевна, также была неплохо образована по тем временам.
Все дети Бориса Лукича были очень музыкальны. Музыкальное образование в семье считалось нормой. Частные уроки музыки у проверенных преподавателей были организованы в семье для каждого из детей. Исаак прекрасно играл на фортепиано и аккомпанировал приезжим знаменитостям даже в пожилом возрасте. Лев Борисович пел, обладая приятным баритоном, и высокопрофессионально играл на скрипке. Одно время ему даже прочили карьеру певца, но он решил стать врачом, продолжая играть на скрипке даже тогда, когда из-за инфекции, внесенной при операции, ему пришлось удалить фалангу указательного пальца правой руки.
Отношения Бальбины Григорьевны с Марией Федоровной были непростыми, как это нередко случается у свекрови и невестки. Поэтому, приезжая в Екатеринодар, Лев Борисович с семьей никогда не останавливался у родителей, а снимал квартиру неподалеку. «Я знал, что бабушка и мама друг с другом не ладят, и это явление представлялось мне обязательным, я привык к нему, – писал впоследствии Евгений Львович. – Я не осуждал бабушку за то, что она ссорится с мамой. Раз так положено – чего же тут осуждать или обсуждать. <…> Мама была неуступчива, самолюбива, бабушка – неудержимо вспыльчива и нервна. Они были еще дальше друг от друга, чем обычные свекровь и невестка. Рязань и Екатеринодар, мамина родня и папина родня, они и думали, и чувствовали, и говорили по-разному, и даже сны видели разные, как же могли они договориться? Впрочем, дедушка, папин отец, молчаливый до того, что евреи прозвали его “англичанин”, суровый и сильный, ладил с мамой и никогда с ней не ссорился, уважал ее. У бабушки часто случались истерики, после чего ей очень хотелось есть. На кухне знали эту ее особенность и готовили что-нибудь на скорую руку, едва узнавали, что хозяйка плачет. И к истерикам бабушки относился я спокойно, как к явлению природы. Вот я сижу в мягком кресле и любуюсь; бабушка кружится на месте, заткнув уши, повторяя: “ни, ни, ни!” Потом смех и плач. Папа бежит с водой. Эта истерика особенно мне понравилась, и я долго потом играл в нее».
В периоды жизни в Екатеринодаре маленький Женя с отцом по воскресеньям ходили обедать к деду. Женю тепло принимали и вкусно угощали бабушка с дедушкой и дяди с тетями. Но однажды, по детской прихоти, Женя отказался идти на такой обед, что страшно рассердило его отца, который больно дернул мальчика за руку, услышав отказ.
Вспоминая, как в 1904 году он с матерью и братом летом останавливался в Екатеринодаре по дороге в Одессу, Шварц пишет: «Бабушку свою я видел тем летом последний раз в жизни, по дороге в Одессу, а с дедушкой подружился и простился на обратном пути. Дед, по воспоминаниям сыновей молчаливый, сдержанный и суровый, мне, внуку, представлялся мягким и ласковым. Всю жизнь он сам ходил на рынок, вставая чуть ли не на рассвете. Мы с Валей[4] ждали его возвращения, сидя на лавочке у ворот. Издали мы узнавали его статную фигуру, длинное, важное лицо с эспаньолкой и бежали ему навстречу. Он улыбался нам приветливо и доставал из большой корзины две сдобные булочки, еще теплые, купленные для нас, внуков. И мы шли домой, весело болтая, к величайшему умилению всех чад и домочадцев, как я узнал много лет спустя. А в те дни я считал доброту и ласковость дедушки явлением обычным и естественным». На обратном пути из Одессы в Майкоп они снова ехали с пересадкой в Екатеринодаре, и дедушка неожиданно пришел их проводить: «Когда мы уже сидели в поезде, я, глядя в окно, вдруг увидел знакомую, полную достоинства фигуру деда… Он был несколько смущен вокзальной суетой. Поезд наш стоял на третьем пути, и дедушка оглядывался, чуть-чуть изменив неторопливой своей важности. И увидев меня у окна, он улыбнулся доброй и как будто смущенной улыбкой, шагая с платформы на рельсы, пробираясь к нам. Он держал в руках коробку конфет. Много лет вспоминалось старшими это необычайное событие – дедушка до сих пор никогда и никого не провожал! Он, несмотря на то что мама была русской, относился к ней хорошо, уважительно, а нас баловал, как никого из своих детей. И вот он приехал проводить нас, и больше никогда я его не видел».
Бабушка и дедушка Шварца по материнской линии на лето снимали дачу в Рюминой Роще – чудесном массиве дубовых и березовых рощ под Рязанью. В этой семье отношения были проще и веселее. Отец Марии Федоровны, Федор Сергеевич Шелков, владел цирюльней. В его заведении, помимо стрижки и бритья, оказывался широкий спектр других услуг – ставили пиявки и банки, отворяли кровь, выдергивали больные зубы и так далее. Женя запомнил, что всегда, когда он заходил в цирюльню к деду, там пахло лавандовой водой, стрекотали ножницы, вертелись особые головные щетки, похожие на муфту с двумя ручками, а дед и мастера весело приветствовали его.
В соответствии с семейными преданиями считалось, что Федор Сергеевич – незаконнорожденный сын рязанского помещика Телепнева. Дочери Телепнева всю жизнь навещали его и нежно любили, а когда их экипаж останавливался у цирюльни, жена Федора Сергеевича говорила ему, улыбаясь: «Иди встречай, сестрицы приехали». До женитьбы он жил с фамилией Ларин, а затем почему-то взял фамилию жены – возможно, это было как-то связано с незаконным происхождением.
Федор Сергеевич был человеком сдержанным и спокойным. Отец Жени любил рассказывать о том, что свою первую хирургическую практику он получил в цирюльне своего тестя, который доверил ему выдернуть зуб у одного из своих пациентов. Лев Борисович выдернул зуб, но не тот, который следовало. Федор Сергеевич спокойно и хладнокровно довершил начатое дело, выдернув у пациента и больной зуб. «Главное чудо было в том, – рассказывал об этом происшествии Евгений Львович, – что больной не обиделся».
Мария Федоровна ни разу не слышала, чтобы ее отец на кого-либо повысил голос или сказал резкое слово. А жизнь его была нелегкой. Когда в тридцатые годы мать Шварца и ее сестра, проживавшие к тому времени в коммунальных квартирах, решили взглянуть на дом, в котором выросли, то ужаснулись тесноте, в которой прошло их детство.
Несмотря на то что Федор Сергеевич был мирным человеком, он часто грозился, что выпорет внука крапивой, и тот называл его крапивным дедушкой. Был он, вероятно, несколько расточителен, поскольку Женя запомнил, как однажды они ехали на извозчике и дедушка просил его никому об этом не говорить. Женя обещал и выполнил бы свое обещание, если бы не разбились яйца, которые они везли на дачу. Жене очень понравились слова извозчика, сказавшего с грустью: «Эх, привезли хозяйке яичницу вместо яиц!» Эти слова показались Жене настолько смешными, что за общим чаем он повторил эту шутку, чем вызвал общий хохот и смущение деда. Бабушка так смеялась, что даже не огорчилась, хотя была намного более экономной, чем ее супруг.
Семейные истории, сохранившиеся в памяти Евгения Львовича, указывают на особенную чуткость в отношениях Марии Федоровны с ее отцом. Однажды, еще совсем девочкой, она узнала о том, что семья находится на грани разорения. И в воскресенье, когда вся семья была в церкви, она со слезами стала молиться со всей силой, на которую была способна. Через два дня после этого Федор Сергеевич выиграл деньги по займу, что убедило его дочь в том, что это было дано по ее молитве. В другой раз она заметила особенную печаль на лице отца, подошла и приласкалась к нему. Это глубоко тронуло Федора Сергеевича, и он часто напоминал этот случай уже взрослой Марии Федоровне. Ему казалось удивительным то, что его дочь почувствовала, что ему грустно.
Федор Сергеевич умер от кровоизлияния в мозг, когда Женя был еще совсем маленьким, и у внука сохранилось совсем немного воспоминаний о дедушке по материнской линии.
Бабушка Александра Васильевна Шелкова после смерти мужа осталась жить в Рязани с семью детьми. Дети были веселыми и энергичными, любили шутки и розыгрыши. Мария Федоровна вспоминала, как привезла Льва Борисовича знакомить его со своей семьей и как ее братья, пока играли с ним в городки, задразнили его до такой степени, что он вспылил и был готов сбежать из дома. Ее саму они изводили тем, что ее жених приехал стриженным наголо; она рассказывала им, что жених ее красавец, а «привезла чудовище».
Все братья и сестры Марии Федоровны были талантливыми актерами, а сама она считалась хорошей хара́ктерной актрисой. Иногда они выступали в любительском кружке, которым руководил барон Николай Васильевич Дризен, в будущем известный мемуарист и историк театра, один из руководителей широко известной в Петербурге художественно-драматургической студии «Старинный театр». В кружке часто ставили пьесы Островского. Когда восемнадцатилетняя Маша сыграла Галчиху в пьесе «Без вины виноватые», Дризен не хотел верить в то, что она не видела в этой роли знаменитую Ольгу Садовскую и играла без ее влияния. Иван Иванович Проходцев, двоюродный брат Жени Шварца, сын Александры Федоровны, надолго запомнил постановку «Грозы», в которой «Мария Федоровна играла Кабаниху, мама – Катерину, а дядя Гаврюша – Дикого». Однако никто из исключительно одаренных Шелковых не сделал театральной карьеры.
Маленький Женя, видя, как его мама привязана к брату Николаю, также любил его больше других своих дядюшек и тетушек. Он был и скульптор, и на все руки мастер, и глубоко чувствующий, всё понимающий человек. Женя всегда ждал от него чудес, и дядя Коля никогда не обманывал его ожидания. То он показывал ему коробочку, в которой как живые, подчиняясь движениям его пальцев, плясали красные ягоды шиповника. То торжественно звал Женю в темный дачный коридор и в разгар лета показывал ему зиму. Когда неожиданно загорался яркий свет, напротив Жени оказывался Снегур с метлой в руках и светящимися глазами. С неба валил снег, и все восхищались этим чудом, кроме Жениной бабушки, ворчавшей, что Николай сожжет дом своими бенгальскими огнями.
Несмотря на скромнвй достаток Федора Сергеевича, он умудрился дать всем своим детям хорошее образование. Его старший сын Гавриил стал акцизным чиновником, ответственным за поступление налогов от продажи алкоголя в казну. Федор окончил юридический факультет и работал мировым судьей в Одессе. Николай стал служащим Тульского оружейного завода. Сестры Марии Федоровны – Александра, Екатерина и Зинаида – создали свои семьи и тоже уехали из родительского дома.
У Евгения Львовича осталось впечатление, что в Рязани он бывал с родителями чаще, чем в Екатеринодаре. «Вероятнее всего, – размышляет он, – дело заключалось в том, что в те годы я жил одной жизнью с мамой и вместе с нею чувствовал, что наш дом именно тут и есть. И рязанские воспоминания праздничнее екатеринодарских… Мало понятный мне тогда, бешено вспыльчивый отец обычно исчезал, будто его и не было».
Глава вторая
Раннее детство
В 1898 году Лев Борисович Шварц окончил университет и получил назначение в подмосковный город Дмитров. Как отмечалось в свидетельстве от 5 июня за подписью университетского инспектора, Лев «за время своего образования в Университете поведения был отличного». Однако по распоряжению ректора Императорского Казанского университета К. В. Ворошилова, за ним с самого начала был установлен «особо бдительный надзор» – вероятно, в годы учебы он, как и многие студенты, участвовал в революционных кружках.
Семье не суждено было долго прожить в Дмитрове, поскольку вскоре после переезда Лев Борисович был арестован по делу о студенческой социал-демократической организации и подозрению в антиправительственной пропаганде среди рабочих, что было раскрыто после переезда семьи из Казани. Сначала его отправили в Москву, затем – снова в Казань. Его жена и сын следовали за ним. В Казани Марии Федоровне было разрешено свидание с мужем. «Помню свидание в тюрьме, – вспоминал Евгений Львович. – Отец и мать сидят за столом друг против друга, а между ними жандарм, положив сложенные руки на стол». По рассказам Женя знал, что на том свидании жандарму показалось, что, целуя на прощанье Марию Федоровну, Лев Борисович передал ей записку, и он, недолго думая, схватил Марию Федоровну за лицо: «Выплюньте записку, я приказываю!» Лев Борисович бросился на жандарма с кулаками, его увели вбежавшие конвойные. Марию Федоровну обыскали, но никакой записки не нашли.
Навестить узника в Казань приехали и его родители. Когда однажды они пошли на свидание все вместе, свекровь и невестка снова поссорились настолько серьезно, что довели Льва Борисовича до слез, и свидание пришлось прекратить раньше времени. Вскоре они немного успокоились и написали арестанту совместное письмо, чтобы попытаться его утешить.
В тюремной одиночной камере Лев Борисович провел полгода, после чего был освобожден под гласный надзор полиции. Ему запретили проживать и практиковать в окрестностях столиц, а также в губернских городах. Из-за этого семья переехала сначала в деревню неподалеку от Армавира Кубанской области, а затем Лев Борисович получил место врача в городской больнице в городке Ахтырка на берегу Азовского моря.
В Ахтырке семья Шварцев поселилась в части дома, предоставленной ей местным священником. Женя запомнил теплую и демократичную атмосферу дома, в котором они жили. У молодого врача могли встречаться такие, казалось бы, неблизкие по роду деятельности люди, как священник, учитель и полицмейстер, но отношение к ним было одинаково ровным и хорошим. Запомнил Женя и собаку одного из постоянных гостей их дома, и ручных журавлей, живущих у священника во дворе. Он помнил веселость своей мамы в этот период жизни, помнил, как она шутит, смеется и даже шалит не только с сыном, но и с подругами. «Я вижу, как она умеет их рассмешить, – и радуюсь», – вспоминает Шварц.
Первые впечатления от общения с животными тоже отложились у Жени в памяти. Однажды, войдя под стол, он увидел там кошку и захотел ее погладить, а она оцарапала его ни с того ни с сего, на что он очень обиделся. В другой раз на него в саду бросился теленок с едва прорезавшимися рожками, которыми он прижал мальчика к плетню. Мама прибежала к нему на выручку, но все обошлось, и она смеялась над этим происшествием, чем очень расстроила Женю.
Его навещал добрый доктор по фамилии Шапиро, а однажды Женя с мамой увидели его на улице вместе с его заплаканным маленьким сыном. Оказалось, что мальчик видел, как зарезали курицу, и никак не мог успокоиться. Это глубоко тронуло Женю и вызвало его сочувствие – он и сам был потрясен подобным зрелищем незадолго до этой встречи.
У Жени был сильный диатез первые годы после рождения, что нередко бывает связано с особенностями нервной системы, чутко реагирующей на любое внешнее неблагополучие. Он часто болел – то ложным крупом, то ангиной, то бронхитом. В какой-то момент в этот период у него обнаружилось также гнойное воспаление лимфатической железы за ухом, которое оперировали без наркоза, что вызвало длительные мучительные боли. О диатезе Женя запомнил лишь то, как нежные мамины пальцы накладывали ему на голову и за уши прохладную цинковую мазь.
Но раннее детство в основном ассоциировалось у Жени не с физическими страданиями, не с пугающей его порой резкостью и нервозностью его отца и не с теми ссорами между мамой и бабушкой, которые ему приходилось видеть. «Мне кажется, что я был счастлив в те дни, о которых вспоминаю теперь, – писал Шварц впоследствии. – Во всяком случае, каждая минута, которая оживает ныне передо мной, окрашена так мощно, что я наслаждаюсь и ужасаюсь поначалу, что передать прелесть и очарование тогдашней краски – невозможно. <…> Вот я стою в кондитерской. Знаю, это – Екатеринодар. Я счастлив и переживаю чувство, которому теперь могу подыскать только одно название – чувство кондитерской. Сияющие стеклом стойки, которые я вижу снизу. Много взрослых. Брюки и юбки вокруг меня. Круглые мраморные столики. И зельтерская вода, которую я тогда называл горячей за то, что она щипала язык. И плоское, шоколадного цвета пирожное, песочное. <…> Не знаю, что мне нравится в этом воспоминании. Но до сих пор зайдя в кондитерскую вечером, я иногда вдруг погружаюсь в одно мгновение в то первобытное, первоначальное, радостное ощущение кондитерской, которое пережило по крайней мере пятьдесят лет…»
Первое воспоминание о посещении театра также осталось у Жени на всю жизнь. Шел «Гамлет». По сцене ходил человек в короне и в длинной одежде, который восклицал: «О, ду́хи, ду́хи!» С маминых слов Женя знал, что после спектакля он вежливо попрощался со всеми: со стульями, со сценой, с публикой. Потом подошел к афише и, подумав, поклонился и сказал: «Прощай, пи́саная!»
По воспоминаниям Евгения Львовича, его мама была тогда весела и ласкова. Он считал ее красавицей и удивлялся тому, что она смеялась, когда он говорил ей об этом. Она была в это время очень близка со своим первенцем. Иногда она называла его Женюрочкой, что он очень любил. Когда мама бывала недовольна Женей, то заявляла, что ее сейчас унесет ангел, – и исчезала. Тогда он метался по комнатам в страхе и смятении. Когда он начинал громко плакать, мама внезапно обнаруживалась. Иногда он сам находил ее в шкафу или за дверью, и выяснялось, что ангел «уронил» ее именно туда. С тех пор на всю жизнь у Шварца осталось неприятие ситуации, когда от него кто-то прячется или теряется в толпе. Его в эти моменты охватывал ужас, как будто маму опять унес ангел.
Однажды он проснулся ночью и увидел, что мама молится, стоя на коленях и кланяясь в землю. Как вспоминал впоследствии Евгений Львович, у них в доме была единственная икона, которой его маму благословляли перед свадьбой – Богоматерь с младенцем в серебряной ризе. И вот перед этой иконой и молилась его мама. Когда много лет спустя Женя вспоминал за столом вслух при отце раннее детство и рассказал, как молилась мама, она повернулась к сыну и показала украдкой язык, то есть без слов назвала его болтуном. Отец спросил мать с удивлением: «Это действительно было?» И она, как вспоминал Евгений Львович, ответила, не глядя на мужа: «Да ерунда, путает он что-то».
Отца Женя также помнил достаточно отчетливо начиная примерно с 1900 года: «Вот он идет из больницы, размахивая палкой с круглым костяным набалдашником, высокий, чернобородый, в шляпе и пальто. Вот он лежит после обеда на кушетке, укрытый белым одеялом, и весело болтает с нами. Он натягивает одеяло, складывает руки на груди и говорит: “Вот так я буду лежать в гробу”. Это приводит маму в ужас».
Раннее детство всегда вспоминалось Евгению Львовичу как самое чудесное время: «Первые, необыкновенно счастливые, полные лаской, сказками, играми шесть лет моей жизни определили всю последующую мою жизнь».
Глава третья
Майкоп
«Но вот наконец совершается переезд в Майкоп, на родину моей души, в тот самый город, где я вырос таким как есть, – вспоминал Евгений Львович. – Всё, что было потом, развивало или приглушало то, что родилось в эти майкопские годы».
Лев Борисович получил предложение работать врачом в Майкопе, и в феврале 1902 года семья Шварцев снова двинулась в путь. «На этот же раз мы поехали в карете! Прямо до самого Майкопа, – продолжал свой рассказ наш герой. – Проехав в карете около ста верст, мы попали наконец в мой родной, счастливый и несчастный, город». Первоначально семья остановилась в гостинице «Европейская» напротив базарной площади, а впоследствии еще не раз меняла место жительства, оставаясь, впрочем, в пределах одного полюбившегося им района. Все главные достопримечательности города – река Белая, городской сад и рынок – были расположены совсем неподалеку от нового места жительства семьи. Во время прогулок в городском саду Женя видел протекающую внизу реку с белыми пенящимися волнами.
Майкоп, в котором к тому времени проживало порядка пятидесяти тысяч человек, был основан примерно за сорок лет до поселения в нем семьи Шварцев. По одной из наиболее распространенных версий, название города происходит от адыгского слова «Мыекъуапэ» – «долина яблонь». Но маленький Женя запомнил другие значения слова «майкоп». На одном из городских наречий это название значило «много масла», на другом – «голова барыни», а еще одно предание утверждало, что город был окопан – то есть окружен укреплениями – в мае. При строительстве города предполагалось, что он станет крепостью для удержания неприятеля со стороны Турции, но после замирения с горцами город утратил свое военное значение.
В 1870 году Майкоп стал столицей уезда. Благодаря относительной близости моря и возможности перебраться на турецкий берег он оказался удобен для различных подпольных организаций, избегавших столкновений с царской администрацией. Кроме того, сюда нередко высылали неблагонадежную интеллигенцию, что постепенно повышало общий уровень образованности в городе. По воспоминаниям современников, в Майкопе было немало музыкантов, певцов, исследователей и любителей природы. Все они оказывались знакомы друг с другом и составляли значительную прослойку населения. В Майкопе того времени можно было также встретить бывших солдат царской армии, происходивших из разных губерний России. Они получали земельные наделы и, кроме того, занимались ремеслами. В городе проживало много греков и армян, занимающихся табаководством, земледелием, скотоводством; немцы, эстонцы и евреи также составляли существенную часть населения.
Вокруг Майкопа, в предгорьях Северного Кавказа, лежали плодородные черноземные степи, засеянные пшеницей и подсолнухом, а за рекой Белой начинались леса, идущие до самого Закавказья. Летом город стоял в зелени и казался чистым из-за выбеленных стен, но ранней весной и осенью тонул в черноземной грязи.
В центре города располагалась базарная площадь, на которой Жене всегда было интересно бывать. Здесь стояли возы с сеном, зерном, мукой и подсолнухами, запряженные волами и лошадьми. На базарной площади Женя впервые в жизни увидел верблюдов. Майкопский базар был смешанным, торговали на нем как сельхозпродукцией, так и ремесленными изделиями, фабричными товарами, домашней живностью. Неподалеку располагались парикмахерские, фотоателье, духаны, трактиры, табачные лавки и лавки писчебумажных принадлежностей. Площадь была вымощена булыжником. «Майкоп был несмирный город, – вспоминал Шварц. – Край ходил на край “на голыши”, то есть дрались камнями… Но Майкоп был вместе с тем и веселый город. Никогда не забуду свадьбы, идущие по улице пешком. Майкоп, хотя нефть еще и не была обнаружена в его окрестностях, был город не только несмирный и веселый, а еще и довольно богатый».
Особенно Женя любил бывать в колониальном магазине братьев Хадышьян. Как он вспоминал, «магазин и в самом деле был колониальным. Входя туда, ты слышал устойчивый, не меняющийся запах пряностей. На полках ты видел финики в овальных длинных коробочках с верблюдом на крышке, апельсины из Яффы, маслины. На полу горкой возвышались кокосовые орехи, настоящие кокосовые орехи, косматые, величиной с детскую голову, такие, о которых читали мы в книгах с приключениями. А кроме того, там продавалось всё – и икра, и семга, и ветчина, и конфеты, и швейцарский шоколад, и крупа, и мука… Не в примeр, скажем, магазину Кешелова, магазин бр. Хадышьян отличался нарядностью. Кешеловский магазин походил на лабаз, а у бр. Хадышьян всё так и сияло стеклом и никелем».
В Майкопе того времени существовало Общество народных университетов, председателем которого был преподаватель реального училища Драстомат Яковлевич Тер-Мкртчан. Для выступлений с лекциями иногда приглашали профессоров даже из столиц. Там, например, бывал с выступлениями профессор Петербургского университета, исследователь истории и археологии Средней Азии Н. И. Веселовский.
С левой стороны к городскому саду примыкало красивое кирпичное здание Пушкинского дома, в одном крыле которого помещалась городская библиотека, которой заведовала Маргарита Ефимовна Грум-Гржимайло, сестра известного путешественника[5], а остальные помещения были заняты театром.
В городе существовала любительская драматическая труппа под руководством главного врача Майкопской городской больницы Василия Федоровича Соловьева. Спектакли этой труппы по классическим произведениям Гоголя, Пушкина, Островского и Чехова ставились на весьма серьезном уровне. Как вспоминала дочь Василия Федоровича Наталья Соловьева (в замужестве Григорьева), «все участники труппы относились к своей работе очень серьезно, много работали над совершенствованием актерского искусства и обязательно при поездке в Москву или Петербург не только посещали МХАТ, Александринку и другие знаменитые театры, но и консультировались по тем или иным вопросам с крупными театральными деятелями». Шварцы замечательно «вписались» в драматическую труппу. Мария Федоровна, как и раньше, исполняла хара́ктерные роли, а Лев Борисович выступал в амплуа героев-любовников либо в трагических ролях. Спектакли в этот период шли чаще всего на сцене Пушкинского дома.
Семья Соловьевых стала одной из самых родных для Евгения Львовича на всю жизнь. Бывало, что в детстве Женя месяцами гостил у Соловьевых. Их дом стоял на углу неподалеку от армянской церкви, которая еще только строилась в те дни. Дом был кирпичным и нештукатуренным, к нему примыкал большой сад и двор со службами. Направо от кирпичного дома стоял белый флигель, в котором Василий Федорович принимал больных. На площади обычно, как на базаре, толпились возы с распряженными конями. На возах лежали больные, приехавшие из станиц на прием к Василию Федоровичу. Он был доктор, известный на весь Майкопский отдел, с огромной практикой.
«Отлично помню первое мое знакомство с Соловьевыми, – рассказывал Евгений Львович. – Мы пришли туда с мамой. Сначала познакомились с Верой Константиновной[6], неспокойное, строгое лицо которой смутило меня. Я почувствовал человека нервного и вспыльчивого по неуловимому сходству с моим отцом. Сходство было не в чертах лица, а в его выражении. Познакомили меня с девочками. Наташа – годом старше меня, Леля – моя ровесница, и Варя – двумя годами моложе. Девочки мне понравились. Мы побежали по саду, поглядели конюшню, запах которой мне показался отличным, и нас позвали в дом. Мама собиралась уходить, а Вера Константиновна с девочками – провожать нас. Когда Наташа стала надевать свою шляпку, выяснилось, что резинка на ней оборвана. Вера Константиновна стала чернее тучи. “Почему ты не сказала мне, что оборвала резинку?” – “Я не обрывала”. – “Не лги!” Разговор стал принимать грозный характер. Я отлично понимал, по себе понимал, куда он ведет. И, страстно желая во что бы то ни стало отвести неизбежную грозу, я сказал неожиданно для себя: “Это я оборвал резинку”. Тотчас же темные глаза Веры Константиновны уставились на меня, но уже не гневно, а удивленно и мягко. Меня подвергли допросу, но я стоял на своем. Вскоре мы шли по улице, дети впереди, а старшие позади. Я слышал, как старшие обсуждали вполголоса мой поступок, но ни малейшей гордости не испытывал. Почему? Не знаю. Мы зашли в пекарню Окумышева, турка с огромной семьей, члены которой жили по очереди то в Майкопе, то в Константинополе. Там угостили нас пирожными, и мы простились с новыми знакомыми. Вечером мама еще раз допросила меня, но я твердо стоял на своем. Засыпая, я слышал, как мама с грустью сообщила отцу, что, очевидно, резинку и на самом деле оборвал я. Но и тут я ни в чем не признался». Проникнувшись глубокой симпатией к Соловьевым, Женя инстинктивно повел себя как истинный джентльмен, приняв на себя удар и защитив девочек от материнского гнева.
С тех пор Женя проводил у Соловьевых чуть ли не больше времени, чем в своей собственной семье. У девочек в комнате стояла этажерка, каждый этаж которой был превращен в комнату, – там жили куклы, играть в которые Женя обожал, хотя и скрывал эту постыдную для мальчика страсть. Часто он вертелся вокруг этажерки и нетерпеливо ждал, когда девочек позовут завтракать или обедать. Когда желанный миг наступал, то Женя бросался к этажерке и принимался наскоро играть, вздрагивая и оглядываясь при каждом шорохе. Мама знала об этой страсти сына и посмеивалась над ним, но не выдавала. Вероятно, любовь Жени к театру проявлялась и в этом.
Несмотря на почти родственные отношения между Шварцами и Соловьевыми, Наташа Соловьева нередко дралась с Женей Шварцем, когда они стали чуть старше. Как рассказывала исследователю творчества и первому биографу Шварца Евгению. Биневичу младшая дочь Соловьевых Варвара Васильевна (1899–1998), Наташа и Женя дрались на равных: «Наташа здорово дралась с ним. Просто так. Драчунам повода не надо. У него были кудри, и она вцеплялась в них. Однажды на Пасху, Жене было лет шесть, Мария Федоровна одела его в красную шелковую рубашку, бархатные штанишки, сапожки, кушак. А когда он вернулся домой, был весь драный. “Смотрите, вернулся сын с пасхального визита”, – сказала тогда Мария Федоровна».
Воспоминания Шварца о внешних событиях майкопской жизни часто перемежаются с описанием эпизодов их семейного уклада. «Боюсь, что для простого и блестящего отца моего наш дом, сложный и невеселый, был тесен и тяжел. Думаю, что он любил нас, но и раздражали мы его ужасно, – пишет Евгений Львович, подводя читателя к эпизоду, который глубоко его потряс. – Отец спит после обеда. Мы с мамой рассматриваем книжку, присланную в подарок бабушкой Бальбиной Григорьевной, екатеринодарской бабушкой. Это большого формата книжка с цветными картинками, в картонном переплете… Текста в книжке не было. Были изображения зверей с подписями. “А вот зебра, – говорит мама. – Или нет, это ослик”. – “А какая бывает зебра?” – спрашиваю я. “Полосатая”. – “А что значит полосатая?” – “Помнишь кофточку, что была на Беатрисе Яковлевне[7]? Вот она и была полосатая. А вот лев, царь зверей”. Пока мы беседовали, стол накрыли к вечернему чаю, подали самовар, и отец вышел из своего кабинета. Он был мрачен. Я сказал: “Вышел Лев, царь зверей”. Отца звали Лев Борисович, что и было причиной злосчастного моего замечания. Я не успел после этих слов и глазом мигнуть, как взлетел в воздух. Отец схватил меня и отшлепал. С тех пор прошло примерно сорок девять лет, но я помню ужас от несоответствия мирных, даже ласковых, даже почтительных моих слов с последующим наказанием. Прощай, мирный вечер! Я рыдал, родители ссорились, самовар остывал. Неуютно, неблагополучно! У отца был особый прием наказывать меня. Он брал меня к себе под левую руку, а правой шлепал по заду. Это было не очень больно, но страшно и оскорбительно. Называлось это – взять под мышку. Мама так и говорила: “Смотри, попадешь к папе под мышку!” Однажды, проснувшись ночью, я услышал, что мама плачет, а папа кричит, сердится. Я заплакал. Мама сказала отцу: “Перестань, ты напугаешь ребенка”. На что отец безжалостно ударил кулаком по голове самого себя и еще раз, и еще раз и сказал что-то вроде того, что, мол, гляди, до чего довели твоего отца. Если он бил самого себя – значит, доходил до последнего градуса ярости. И это случалось много чаще, чем он шлепал меня».
Очевидно, что при несомненной талантливости и незаурядности обоих родителей Евгения Львовича атмосфера в семье была далеко не благополучной, что отчасти объяснялось значительным различием в характерах его родителей и особенно сложным устройством психики его отца. Лев Борисович в этот период страдал сильнейшими приступами мигрени. Часто он шел в кабинет, зажмурившись, побелев, и повторял жене и сыну: «Опять флажки, флажки» – так называл он мелькания в левом глазу. Евгений Львович вспоминал, что, как и вся семья Шварцев, его отец был очень нервен, но вместе с тем прост, прост по-мужски, как сильный человек. Так же сильно и просто он сердился, а его близкие обижались, надолго запоминая его проступки перед семьей. Его любили больные, товарищи по работе, о вспыльчивости его рассказывали в городе целые легенды, причем рассказывали добродушно, смеясь. Мария Федоровна, при всей любви к мужу в этот период, оставалась неуступчивой, самолюбивой и замкнутой, из-за чего сильнее обижалась и подолгу не шла на примирение. А Женя испытывал в присутствии отца, которого понял и оценил лишь десятки лет спустя, только ужас и растерянность, особенно когда тот был хоть сколько-нибудь раздражен – а это случалось слишком часто.
«К сожалению, – вспоминал о том периоде Евгений Львович, – у нас начинала образовываться семья, которая не помогала, а мешала жить. И теперь, когда я вспоминаю первые месяцы майкопской нашей жизни, то жалею и отца, и мать. Вот он ходит взад и вперед по большой зале родичевского дома[8], играет на скрипке. Бородатая его голова упрямо упирается в инструмент, рука с искалеченным пальцем легко держит смычок. Я слушаю, слушаю, и мне не нравится его музыка. Я не хочу, чтобы он перестал, мне не скучно слушать скрипку, но это его, папина, музыка, и она враждебна мне, как всё, что исходит от него. А отец всё бродит и бродит по залу, как по клетке, и играет. Чаще всего играл он presto Крейцеровой сонаты».
Мария Федоровна всё чаще плакала, укладывая Женю, и сам он тоже начинал плакать вслед за мамой. Она уже не смеялась, не шалила с подругами, стала резче отзываться о людях. Причем, сказав плохое о человеке, часто добавляла: «Я всё это ему выскажу». Женя не любил эти слова мамы и боялся их последствий, поскольку Мария Федоровна и в самом деле высказывала людям всё, что о них думала. В результате ее отношения с окружающими, как правило, становились хуже.
В доме Родичева появились первые книги, которые Женя запомнил на всю жизнь, и первые друзья, с которыми – или рядом с которыми – он прожил многие десятки лет. Книги эти были сказки в дешевых изданиях Ступина. Особенно сильное впечатление произвели на Женю обручи, которыми сковал свою грудь верный слуга принца, превращенного в лягушку, боясь, что иначе сердце его разорвется с горя. Это было второе сильное поэтическое впечатление в его жизни. Первое – слово «приплынь» в сказке об Ивасеньке, мать которого призывала его словами: «Ивасенька, сыночек мой, приплынь, приплынь до бережку». Женю глубоко тронуло это слово, ему казалось, что мать так и должна звать сына. Сказку об Ивасеньке Женя заставлял рассказывать всех нянек, которые менялись у Шварцев еще чаще, чем квартиры.
В ступинских изданиях разворот и обложка были цветные. Картинки эти, яркие при покупке книжки, через некоторое время тускнели и становились матовыми. Женя скоро нашел оригинальный способ с этим бороться. «Войдя однажды в комнату, мама увидела, что я вылизываю обложку сказки, – вспоминал Евгений Львович. – И она решительно запретила мне продолжать это занятие, хотя я наглядно доказал ей, что картинки снова приобретают блеск, если их как следует полизать».
В это же время обнаружился его ужас перед историями с плохим концом. Впоследствии такие истории и книги стали для Жени внутренне неприемлемыми. Однажды мальчик отказался дослушать сказку о Дюймовочке. Печальный тон, с которого начинается сказка, внушил ему непобедимую уверенность, что Дюймовочка обречена на гибель. Женя заткнул уши и принудил маму замолчать, не желая верить, что всё кончится хорошо. Пользуясь этой слабостью сына, мама стала периодически пугать его плохими концами. Если, например, Женя отказывался есть котлету, то мама начинала рассказывать сказку, все герои которой попадали в безвыходное положение. «Доедай, а то все утонут», – угрожала мама, и он доедал.
Связь Жени с матерью была в те годы очень прочной. Он моментально воспринимал ее настроение, чувства, образ мыслей и принимал ее мировоззрение как правильное и единственно возможное. «Мы сидим с мамой на крылечке нашего белого домика, – вспоминал Евгений Львович. – Я полон восторга: мимо городского сада, мимо пивного завода, мимо аптеки Горста двигается удивительное шествие. Мальчишки бегут за ним, свистя, взрослые останавливаются в угрюмом недоумении – цирк, приехавший в город, показывает себя майкопцам. Вот шествие проходит мимо нас: кони, ослы, верблюды, клоуны. Во главе шествия две амазонки под вуалями, в низеньких цилиндрах. Помню полукруг черного шлейфа. Взглядываю на маму – и вижу, что ей не нравится цирк, амазонки, клоуны, что она глядит на них невесело, осуждая. И сразу праздничное зрелище тускнеет для меня, будто солнце скрылось за облаком. Слышу, как мама рассказывает кому-то: “Наездницы накрашенные, намалеванные”, – и потом повторяю это знакомым целый день».
В то время Женя уже хорошо читал. Еще в Ахтырке он знал буквы. Толстые книги мама читала ему вслух, и в какой-то момент на несколько месяцев его жизнь заполнила книга «Принц и нищий». Сначала она была прочитана Жене, а потом и прочтена им самостоятельно: сначала по кусочкам, затем вся целиком, много раз подряд. Сатирическая сторона романа Женей понята не была, но его очаровал дворцовый этикет. Одно домашнее кресло, обитое красным бархатом, казалось Жене похожим на трон. Он сидел на нем, подогнув ногу, как Эдуард VI на картинке, и заставлял соседа по дому, бухгалтера Владимира Алексеевича[9], становиться перед собой на одно колено. Он, обходя Женин приказ, садился перед троном на корточки и утверждал, что это всё равно. Чтение быстро заняло важное место среди интересов, которыми жил Женя Шварц.
Примерно в пятилетнем возрасте Женя пережил первую сердечную привязанность, которая постепенно превратилась в настоящую влюбленность. Встреча случилась в поле, между городским садом и больницей. Перейдя калитку со ступеньками, Женя с мамой прошли чуть вправо и уселись в траве, на лужайке. Неподалеку возле детской колясочки они увидели худенькую даму в черном с заплаканным лицом. В детской коляске сидела девочка примерно двух лет, а неподалеку собирала цветы ее четырехлетняя сестра такой красоты, что Женя заметил ее еще до того, как его мама, грустно и задумчиво качая головой, сказала: «Подумать только, что за красавица!» «Вьющиеся волосы ее сияли, как нимб, глаза, большие, серо-голубые, глядели строго – вот какой увидел я впервые Милочку Крачковскую[10], сыгравшую столь непомерно огромную роль в моей жизни», – вспоминал Евгений Львович.
Мария Федоровна познакомилась с печальной дамой. Слушая разговор старших, Женя узнал, что девочку в коляске зовут Гоня, что у нее детский паралич, что у Варвары Михайловны – так звали печальную даму – есть еще два мальчика, Вася и Туся, а муж был учителем в реальном училище и недавно умер. Послушав старших, Женя пошел с Милочкой, молчаливой, но доброжелательной, собирать цветы. Он не умел еще влюбляться, но Милочка сразу запомнилась ему. А когда пришло время, он полюбил ее всей силой своего сердца.
Глава четвертая
Первый перелом в жизни
В сентябре 1902 года в семье Шварцев случилось пополнение – родился младший сын Валентин. В жизни Жени наступил перелом. Надо сказать, что Женя Шварц был вторым сыном у своих родителей – первый умер в шесть месяцев от детской холеры. Это обстоятельство на всю жизнь глубоко травмировало Марию Федоровну, которая не оставляла маленького Женю ни на минуту. «Помню, с какой страстной заботливостью относилась она ко всему, что касалось меня, как чувствовала, думала вместе со мною, завоевав мое доверие полностью, – вспоминал Евгений Львович. – Я знал, что мама всегда поймет меня, что я у нее всегда на первом месте. Заботливость обо мне доходила у мамы до болезненности. Она сама рассказывала мне, когда я был уже взрослым человеком, что когда в те давние времена я съедал меньше, чем положено, то она мучилась, не могла уснуть». «Довольно тебе его пичкать!» – кричал Лев Борисович, когда Женя, плача, отказывался от яиц всмятку, ненависть к которым, приобретенную в те ранние годы, он сохранил на всю жизнь.
Однажды Женя проснулся не у мамы в спальне, а в папином кабинете. Он услышал крик, который показался ему знакомым и позвал маму, чтобы сказать ей, что во дворе кричит дикая цесарка. На зов явился Женин папа, который был бледен, но добр и весел. Он сказал: «Одевайся скорей и идем. У тебя родился маленький брат». Как писал Евгений Львович, в этот момент кончилось его самое раннее детство и началась новая, очень сложная жизнь. Еще не понимая, что с этого мгновения его жизнь переломилась, Женя весело побежал навстречу неведомому будущему.
«Мама лежала на кровати, – вспоминал Евгений Львович в начале 1950-х. – Рядом сидела учительница музыки и акушерка Мария Гавриловна Петрожицкая, которая массировала ей живот. И тут же на маминой кровати лежал красный, почти безносый, как показалось мне, крошечный спеленутый ребенок. Это и был мой брат, которого на этих днях встретил я на Невском и со страхом почувствовал, как он утомлен, как постарел, как озабочен. Тогда же, сорок восемь лет назад, он показался мне до отвратительности молодым. Вот он сильно сморщил лоб. Вот открыл рот, и я услышал тот самый крик, который приписал дикой цесарке. И мама ласково стала уговаривать нового сына своего, чтобы он перестал плакать.
Несколько дней я был рад и счастлив тому, что в нашем доме произошло такое событие. Помню, как мама, улыбаясь, рассказывала кому-то: “Женя побежал к Рединым, позвонил в парадное. Его спросили: “Кто там?”. А он закричал: “Открывайте поскорее, новый Шварц народился””. Однако этот новый Шварц заполонил весь дом, и я постепенно стал ощущать, что дело-то получается неладное. Мама со всей шелковской, материнской, бесконечной и безумной любовью принялась растить младшего сына. На первых порах он не одному мне казался некрасивым, что мучило бедную маму. Она всё надеялась, что люди заметят вместе с нею, как Валя хорош. Доктор Штейнберг жаловался, что видел во сне, как мама бегала за ним с Валей на руках и спрашивала: “Правда ведь, он хорошенький?” Каждая болезнь брата приводила ее в отчаянье. Было совершенно законно и естественно, что с 6 сентября старого стиля 1902 года мама большую часть своего сердца отдала более беспомощному и маленькому из своих сыновей. Но мне в мои неполные шесть лет понять это было непосильно. Я всё приглядывался, всё удивлялся и наконец вознегодовал. И, вознегодовавши, я воскликнул: “Жили-жили – вдруг хлоп! Явился этот…” Эти слова со смехом повторяли и отец, и мать много раз. Даже когда я стал совсем взрослым, их вспоминали в семье.
Судя по этим словам, я довольно отчетливо понял, что дело в новом Шварце, а не в том, что я стал хуже. Но я так верил взрослым, в особенности матери, что невольное раздражение, с которым иногда она теперь говорила со мною, я стал приписывать своим личным качествам. Если мама говорила худо о наших знакомых, то они, как я неоднократно писал, делались в моих глазах как бы уцененными, бракованными, тускнели. И ни разу я не усомнился в справедливости маминых приговоров. Не усомнился я в них и тогда, когда коснулись они меня самого. Однажды я сидел за калиткой, на земле. Был ясный осенний день. Гимназистки, взрослые уже девушки, шли после уроков домой. Увидев меня, одна из них сказала: “Смотрите, какой хорошенький мальчик! Я бы его нарисовала”. Я было обрадовался – и тотчас же вспомнил, что девушка говорит обо мне так ласково только потому, что не знает, какой я теперь неважный человек. И с грубостью, бессмысленной и удивлявшей меня самого, но всё чаще и чаще просыпавшейся во мне в те дни, я крикнул вслед девушкам: “Дуры!” По старой привычке я побежал и рассказал всё маме, и она побранила меня».
Женя не мог тогда объяснить матери, почему он выругал гимназисток. Будучи до тех пор окруженным, как футляром, маминой любовью и заботой, он вдруг стал чувствовать неясно и бессознательно пустоту, страх одиночества и холод. Дети, как правило, относят к своей личности перемены в отношении к ним авторитетных взрослых, тем более что в данном случае речь шла об исключительно близком, единственным для Жени по-настоящему авторитетном в тот период человеке – его маме. Объяснить шестилетнему ребенку те естественные психологические и душевные изменения, которые пережила его мать после появления новорожденного, было невозможно, да и некому. «В те дни стали определяться душевные свойства, которые сохранил я до сих пор, – продолжает Евгений Львович. – Неуверенность в себе и страх одиночества. К этому следует прибавить вытекающее отсюда желание нравиться. Мне страстно хотелось, чтобы я стал нравиться маме, как и в те дни, когда еще не явился “этот”. Я всеми силами старался вернуть потерянный рай и, чувствуя, что это не удается, бессмысленно грубил, бунтовал и суетился».
Когда случалось, что мама с нянькой и маленьким Валей вечером уходили в гости, Женя оставался дома один. Керосиновая лампа в доме освещала стол, и в Женином представлении стол становился площадью. Вокруг площади он выстраивал дома, сделанные из табачных коробок и коробок из-под гильз, и прорезал в них окна. Он также вырезал из бумаги сани с полозьями и лошадь к ним, похожую на собаку. Коробки стояли на боку, в домах жили люди. Пастух из игры «Скотный двор» стоял под навесом на подставке зеленого цвета с цветочками. В соседнем доме жил заводной мороженщик с лопнувшей пружиной, в третьем доме, пахнущем табаком – деревянный дровосек, который был частью кустарной игрушки, давно распавшейся на части. Женя возил жителей города на санях, и ему хотелось самому стать маленьким, как заводной мороженщик, и ходить по этой площади, покрытой скатертью.
Из актеров своих детских лет Женя запомнил Адашева[11]. Вероятно, тогда же он впервые услышал название Художественного театра. Евгений Львович вспоминал, что окружающие удивлялись, как такой неважный актер, как Адашев, мог служить в этом театре. Ни один из знакомых семьи Шварцев ни разу тогда не видел спектаклей Художественного театра, но слава его была такова, что о нем все говорили с благоговением. Вообще уважение к славе, разговоры о том, что из кого выйдет, а из кого не выйдет, разговоры о писателях, актерах, музыкантах велись в семье часто. «Я помню, как по-особенному оживлен был папа, когда к нам зашел Уралов[12], – рассказывал Евгений Львович. – Славу уважали религиозно. Помню, как мама не раз рассказывала о том, что дедушка однажды сидел и грустно смотрел на своих детей. И маме показалось, что он думает: “Вот сколько сил потрачено на то, чтобы вырастить детей, дать им высшее образование, а из них ничего не вышло”. Это следовало понимать так: никто из них не прославился. И я стал, не помню с каких пор, считать славу высшим, недосягаемым счастьем человеческим. Лет с пяти». И впоследствии на протяжении всей жизни Евгений Львович много размышлял об успехе и неуспехе, о цене людской молвы и ее эфемерности.
Первая майкопская весна сменилась летом, за ним пришла и осень. Наступил день рождения Жени – по старому стилю 8 октября 1902 года. Ему исполнилось шесть лет, и это был первый день рождения, который он запомнил. Он праздновался особенно торжественно, и Женя получил много подарков. «Думаю, что мама, чувствуя мою обиду и желая утешить и напомнить, что я по-прежнему ее сын, позаботилась об этом», – писал Шварц. Наступил этот торжественный день совершенно неожиданно. Женя ждал, что он придет только послезавтра, но, вдруг проснувшись, увидел большого коня ростом с крупную собаку. Он был обтянут настоящей шкурой, белой, с желтыми пятнами. Он стоял возле стула, на котором возвышалась коробка многообещающего вида и размера. Кроме коня, Жене подарили волшебный фонарь, прибор для рисования с картинками и матовым стеклом, кубики, лото. Женя был рад, но впервые в жизни испытал удивившее его чувство разочарования. Ему как будто стало грустно, что больше ждать нечего. Праздник прошел слишком быстро, достался Жене легче, чем он думал, и это его как бы обесценило…
На 1903 год ему выписали журнал «Светлячок» для детей младшего возраста, издаваемый А. А. Федоровым-Давыдовым. Он не слишком обрадовал мальчика – журнал был простым и тоненьким, а Женя уже жил сложно. От номера до номера проходило невыносимо много времени, как ему казалось в те времена.
В это время у Жени постепенно развивалось религиозное чувство. К шестилетнему возрасту он помнил и библейско-евангельские истории из учебников, и бабушкины рассказы, и рассуждения о грехах, о церкви, о рае и аде. «Я знал, что грешен, но вместе с тем и надеялся избавиться от всей скверны, как только мне удастся уговорить маму свести меня на исповедь, – вспоминал Евгений Львович. – Я считал, что после семи лет не причастят без исповеди, да так оно, кажется, и было. Так относился к небу я. А мама, напротив, к этому времени так ожесточилась, забыла, как молилась в Ахтырях, стоя на коленях перед иконой, и стала неверующей. Но в этом вопросе я не подчинился ей».
Теперь почти каждый день к вечеру под грецким орехом за кухней вспыхивали ожесточенные споры. С одной стороны – Женина мама, а с другой – Женя и кухарка спорили о религии. Женя был начитаннее кухарки в этом вопросе, а потому ссылался на учебники, обливался потом и кричал так, что его стороннице приходилось его успокаивать. Ее сила была в непоколебимом спокойствии и уверенности. На все антирелигиозные речи Жениной мамы она отвечала: «Так-то оно так, а всё-таки Бог есть». Женин двоюродный брат Тоня однажды в сумерках стал расспрашивать Женю о Боге, рае и аде. На все эти вопросы Женя смог подробно ему ответить. В заключение, устрашенный картинами ада, который был особенно хорошо знаком Жене по рассказам бабушки и нянек, Тоня робко спросил: «А если еврей хороший человек, то он может попасть в рай?» Женя твердо ответил: «Конечно, может!» Он не мог допустить, что хорошего человека за что бы то ни было можно наказывать вечными муками. Тоня, сосредоточенно молчавший после Жениного ответа, признался брату: «Этим ты меня значительно успокоил».
Летом 1903 года состоялась последняя поездка Марии Федоровны с сыновьями к ее родным. На этот раз по желанию Жениной бабушки все ее дети собрались у ее старшего сына Гавриила Федоровича, который служил тогда в городе Жиздра Калужской области. Это лето занимает важное место в жизни Шварца.
Путь в Жиздру лежал через Москву, и Женя наконец увидел город, о котором столько слышал чуть ли не с первых дней своей сознательной жизни. Всё новое он в те годы воспринимал с одинаковой жадностью. Через Москву они поехали на извозчике, переполненном до крайности. Женя сидел у мамы в ногах, поперек пролетки, положив свои ноги на приступочку. Извозчик крестился у церквей, и, едва он снимал свою твердую плоскую шляпу с загнутыми полями, Женя тоже снимал картуз и крестился вслед за ним. В Майкопе Женя в какой-то момент почувствовал, что его отношения с небом несколько запутались и затуманились. Это мучило его, особенно вечерами, когда мамы не было дома. В дороге дело обстояло проще, как и тогда, когда Женя попадал к маминым родным. И он крестился вслед за извозчиком и с наслаждением чувствовал, что он такой же, как все. Пролетка тряслась по булыжной мостовой, когда Мария Федоровна оживилась, показывая Жене кремлевские соборы и дворцы. Потом мама показала ему Царь-пушку, Царь-колокол, окружной суд. Одинаково отчетливо запомнились Жене трубы, церкви, булыжная мостовая, его сиденье поперек пролетки, перегруженный извозчик. А то, что он впервые в жизни ехал через очень большой город с высокими домами, в тот раз оказалось для него менее значимо и не отложилось в памяти. Когда они приехали в Жиздру, бабушка радостно приветствовала дочь и внуков. Она показалась Жене очень маленькой, была одета в черное и всё спрашивала: «А ты помнишь дедушку крапивного?»
Уклад жизни в Жиздре не был похож на майкопский, даже хлеб был совсем не такой. В Майкопе хлеб был белый, пшеничный, ржаного не продавали ни в известной в городе булочной Окумышева, ни на базаре. Жениной маме, скучавшей по своему рязанскому, северному хлебу, покупали его, при случае, в казармах у солдат, которым полагался по рациону именно черный хлеб. А в Жиздре белый хлеб носил незнакомое Жене название ситного, а черный звался просто хлебом и пекли его дома. Яблоки в саду рвать не разрешалось, хотя многие сорта уже поспели – ждали Яблочного Спаса. Можно было собирать только упавшие яблоки, что привело к игре – кто первый найдет яблоко в траве. Как вспоминал Евгений Львович, в Майкопе он был майкопским мальчиком, старался букву «г» произносить как немецкое «h» и стеснялся, что у него светлые глаза, тогда как у всех вокруг карие. В Жиздре же он был рязанским, как все Шелковы, и обижался, когда тетка Зина дразнила его черкесом. Женя не приспосабливался к новой обстановке, не подражал, не поддавался влияниям, а просто менялся весь и сразу, как меняется речка утром, днем и вечером. И вероятно, как и все дети, он жадно впитывал новые впечатления, которые вызывали новые сильные чувства, иногда по глубине своей несоразмерные вызвавшему их явлению.
Уклад жизни в Жиздре был очень русским рядом с майкопским, окраинным, казачьим. Женя в последний раз в жизни повидал бабушку, в последний раз погрузился в особую атмосферу шелковской семьи, одновременно веселую, насмешливую и печальную, с предчувствиями, приметами, недоверием к счастью, беспечную, дружную и обидчивую…
Когда они вернулись в Майкоп, то местные мальчишки быстро переучили Женю говорить букву «г» на великорусский манер, и он снова стал стыдиться своих зеленых глаз. Рязанская семья уже навсегда стала воспоминанием.
Глава пятая
Решение стать писателем
Осенью 1903 года Жене исполнилось семь лет. Он пережил тогда новое увлечение – мама рассказала ему о своем посещении Третьяковской галереи, и это почему-то поразило мальчика. Слова «картинная галерея» теперь повергали его в такой же священный трепет, как недавно «нарты», «ездовые собаки», «северные олени», о которых рассказывал ему знакомый, побывавший на Крайнем Севере. Все стены детской Женя оклеил приложениями к «Светлячку» с репродукциями картин.
К этому возрасту Женя стал гораздо самостоятельнее. Он один ходил в библиотеку – в это время началась его долгая любовь к правому крылу Пушкинского дома. Часто он даже видел во сне, что меняет книжку, стоя у перил перед столом библиотекарши, за которым высятся ряды книжных полок. Он передавал библиотекарше прочитанную книгу и красную абонементную книжку, она отмечала день, в который Женя должен вернуть книгу, и часто выговаривала ему за то, что читает слишком быстро. Затем Женя сообщал ей, какую книжку хочу взять, или она сама уходила вглубь библиотеки и начинала искать подходящую для него книгу. Это был захватывающий миг. Какую книгу вынесет и даст ему Маргарита Ефимовна? Женя ненавидел тоненькие книги и обожал толстые, но спорить с библиотекаршей не приходилось. Суровая, решительная Маргарита Ефимовна Грум-Гржимайло внушала Жене уважение и страх.
Отношения между родителями Жени всё больше усложнялись, и Мария Федоровна в какой-то момент решила, что зависеть материально от мужа унизительно. Работать по специальности – акушеркой – она не могла, поскольку это отнимало бы у нее слишком много времени. Однажды, прочтя объявление о краткосрочных курсах массажа, которые были основаны каким-то доктором в Одессе, Мария Федоровна решила ехать туда учиться. Массажем она могла бы заниматься и дома, не оставляя детей и не поступая на службу.
И вот весной 1904 года Шварцы поехали в Одессу. Поездка эта сыграла в жизни Жени не меньшую роль, чем поездка в Жиздру. С Жиздрой была у него связана любовь к церкви, колокольному звону, садам, сосновому бору. А в Одессе он полюбил корабли, лодки, порт, запах смолы и научился мечтать. Улицы в Одессе были такие оживленные, что Жене всё чудилась впереди толпа, которая смотрит на происшествие. Отдел происшествий он читал в газете и мечтал своими глазами увидеть пожар, столкновение конки с извозчиком, поимку известного вора или нечто подобное. Но, увы, толпа впереди вечно оказывалась кажущейся по мере приближения к ней.
В фургонах развозили искусственный лед – таскали его куда-то белыми длинными брусками. Лошади в Одессе носили шляпы с прорезами для ушей. Для собак были устроены под деревьями железные корытца с водой. Веселые, оживленные одесские улицы, деревья, коричневая мостовая на Дерибасовской, которую Женя с маминых слов считал шоколадной и всё боялся спросить – не пошутила ли она, – и свет, солнце, жара, которая не мучила его, а только веселила. И фруктовые лавочки, то в подвалах, то в ларьках, сначала с черешнями, которые мама, к удивлению Жени, считала безвкусными, а потом с вишнями, которые Женя, к маминому удивлению, считал кислыми, и, наконец, с яблоками, грушами, дынями, арбузами. Иногда над толпой показывались синие и красные воздушные шары, их великолепная гроздь двигалась, покачиваясь и сияя на солнце. Это всегда вызывало у Жени радостное ощущение.
И за садом в конце улицы, на которой они жили, и за Приморским бульваром внизу кипела морская, портовая, пароходная, канатная, лодочная, пахнущая смолой, бесконечно привлекательная для Жени жизнь. Любовь, но не к морю, а к приморской жизни – вот сильное и новое чувство, вспыхнувшее в Одессе и далеко отодвинувшее страсть Жени к картинным галереям. Это чувство не проходило у него впоследствии много лет и усилилось после отъезда из Одессы.
Однажды Женя с мамой проходили мимо мореходного училища с флагштоком на башне, и он заявил, что хочет поступить в это училище. Но она не могла себе представить никакого другого образования, кроме университетского, и поэтому ответила решительным отказом. «Сюда идут только недоучки», – сказала она, но страсть к морю была у Жени настолько сильна, что на этот раз мамины слова не произвели на него ни малейшего действия. Он по-прежнему смотрел на моряков как на людей особенной, избранной породы, причем в данном случае не делил их на благородных и простых. И офицеры, и матросы, и рыбаки, и грузчики в порту были им любимы благоговейно.
После получения Марией Федоровной сертификата массажиста они вернулись домой, и этим начался последний период до поступления Жени в школу.
Сразу после возвращения в Майкоп Женя стал учиться у крестного его брата – внушительных размеров бородатого Константина Карповича Шапошникова[13], который всегда носил черкеску. Постукивая деревянной своей ногой, входил он в комнату с окнами в сад, и урок начинался. Занятия эти давались Жене легко. «Я уже учился, но еще не попал в мощные лапы школы, еще не вступил в темное средневековье моей жизни, продолжавшееся с приготовительного до четвертого класса, – вспоминал Евгений Львович об этом периоде своей жизни. – Потом медленно-медленно вступало в свои права возрождение».
В октябре 1904 года Жене исполнилось восемь лет. Доктор Островский подарил ему книгу Алексея Свирского «Рыжик», а папа – «Капитана Гаттераса» Жюля Верна. Обе эти книги надолго стали его любимыми. В день своего рождения Женя испытал острое чувство жалости, запомнившееся ему на всю жизнь. Он играл на улице с мальчиками. Среди них были два брата из многочисленного еврейского семейства. Со старшим братом Женя был в дружеских отношениях, а младшего, семилетнего заморыша, терпеть не мог. Женю раздражали его бледное лицо, синие губы, голубоватые веки. Казалось, что он долго купался и замерз навсегда. Когда Женина мама позвала всех пить чай, то старшего мальчика Женя пригласил с собой, а младшему сказал брезгливо: «А ты ступай вон, не лезь к старшим». Когда они поднялись наверх, Женя выглянул в окно и увидел, как внизу на улице, оставшись в полном одиночестве, сгибаясь так, будто у него болит живот, плачет синегубый заморыш. И тут Женю с неведомой ему до сих пор силой пронзила жалость. Он бросился вниз утешать и звать к себе обиженного, на что заморыш поддался немедленно, без всяких попреков, без признака обиды. Это еще более потрясло Женю – вот как, значит, хотелось бедняге пойти в гости! И за чаем Женя кормил его пирогами и конфетами, а потом давал ему стрелять из только что подаренного пистолета чаще, чем другим гостям. Тот принимал всё это без улыбки, еще вздыхая иногда прерывисто, медленно приходя в себя после пережитого горя.
Вскоре к девочкам Соловьевым Вера Константиновна выписала молодую учительницу, с которой у Жени было связано сильное поэтическое переживание, – она прочла детям вслух «Бежин луг» Тургенева. Впервые Женя был покорен не занимательностью рассказа, а его красотой. Как, влюбившись, он сразу понял, что с ним происходит, так и тут он сразу угадал поэтичность рассказа и отдался ей с восторгом. Он не выслушал, а пережил «Бежин луг».
Итак, в это время Женя учился, бывал у Соловьевых, дружил с Ильей Шиманом, ставшим впоследствии его товарищем и по реальному училищу, был влюблен, мечтал и тосковал по приморской, корабельной, одесской жизни, как в свое время по Жиздре. По дороге в библиотеку или на прогулках он старался ступать только на то, что могло бы находиться и на корабле: на камни (балласт), на ветки (деревянные палубы) и так далее – в мыслях это приближало его к так полюбившейся ему морской стихии. К тому времени стала развиваться замкнутость Жени, малозаметная посторонним и самым близким людям. Он был несдержан, нетерпелив, обидчив, легко плакал, лез в драку, был говорлив – казалось, что он весь как на ладони. Но была граница, за которую переступать он не умел. Женя успел отдалиться от мамы, с которой еще недавно делился всем подряд, но никто не занял ее места. Ни один человек не знал о его первой любви, никто не догадывался и о его тоске по приморской жизни.
Верным другом Жени, о котором он никому не рассказывал, был придуманный им конь, живущий в песчаной котловине, в обрывистой части городского сада. Женя звал его особым свистом сквозь зубы и отпускал губным девятикратным свистом. В свободное от службы время Женин конь мог превращаться в человека, путешествовать, где ему захочется, особенно по Африке и по Индии, есть колбасу, каштаны, конфеты и наслаждаться жизнью. Но по условному свистку он мгновенно переносился в песчаную котловину, а оттуда летел к Жене, который садился на него верхом и ехал в библиотеку, в лавочку, в булочную и другие места, куда его посылали, соблюдая осторожность, чтобы встречные не угадали по походке, что Женя едет верхом.
В противовес различным злым духам, присутствие которых Женя явственно ощущал, он создал армию маленьких человечков. Они жили у него под одеялом, и Женя нарочно оставлял им место, закутываясь на ночь. Жили они так же счастливо, как и его друг-конь, – ели колбасу, пирожные, шоколад, апельсины, читая за едой сколько им вздумается, имели двухколесные велосипеды и путешествовали. Но при малейшей опасности они выстраивались на Женином одеяле и на постели и отражали врага.
В тот период Женя часто обижался неведомо на кого, сердился, плакал – но, увы, это не помогало ему. Он очень любил рисовать – но все утверждали, что рисует он неважно. Почерк у Жени, несмотря на все старания его и Константина Карповича, был из рук вон плох. Математические задачи он решал средне, скорее плоховато. Когда писал под диктовку, то делал одни и те же ошибки: вечно пропускал буквы. «Я был неловок, рассеян, но, должен признаться, вспоминая пристально и тщательно то время, в течение дня весел, – вспоминал Евгений Львович. – Дневные обиды я легко забывал, а в сумерки начинал тревожиться. Приближался главный ужас моего детства, вытеснивший на долгое время все остальные страхи: боязнь за жизнь матери».
В то время предполагалось, будто у Марии Федоровны порок сердца. Страх за маму был самым сильным чувством Жени того времени. Он никогда не покидал его. Бывало, что он засыпал, потому что жил Женя весело, как и положено жить в восемь лет, но снова просыпался, едва он оставался наедине с собой. К этому времени отношения Жени с мамой усложнились и испортились до того, что она не приходила прощаться с ним на ночь, кроме тех случаев, когда он был болен. Их ссоры иногда доходили до полного разрыва. Женя запомнил день, приведший к тому, что по маминой жалобе он в последний раз в жизни попал отцу под мышку, взлетел высоко вверх и был отшлепан. Это его до того оскорбило, что он, зная свою отходчивость и умение забывать обиды, сделал из бумаги книжечку и покрыл ее условными знаками, нарисованными красным карандашом. Эти знаки должны были вечно напоминать ему о нанесенном оскорблении, но они не помогли: уже через два дня Женя перестал сердиться на отца.
У Марии Федоровны было редкое умение угадывать Женину точку зрения при любых несогласиях с ним, и она принималась спорить с сыном как равная, вместо того чтобы приказывать, как это делал отец. Угадывая Женину точку зрения и весь ход его мыслей, она чувствовала, что логикой его не убедить, раздражалась от этого и всё-таки пробовала спорить там, где надо было холодно запрещать или наказывать. «Эту несчастную жажду переубеждать дураков и злиться от сознания, что это воистину немыслимо, я, к сожалению, унаследовал от нее», – писал об этом впоследствии Евгений Львович. В результате по тем или иным причинам Женя и его мама в то время ссорились и отдалялись друг от друга, но он по-прежнему безумно ее любил. Он не мог уснуть, если мамы не было дома, не находил себе места, если она задерживалась, уйдя в магазин или на практику. Мамины слова о том, что она может сразу упасть и умереть, только теперь были поняты Женей во всем их ужасном значении. Он твердо решил, что немедленно покончит с собой, если мама умрет. Это его утешало, но не слишком. Просыпаясь ночью, он прислушивался, дышит она или нет, старался разглядеть в полумраке, шевелится ли одеяло у нее на груди.
При всей неподдельности своих мучений, Женя в то время довольно часто актерствовал – не только перед другими, но и перед самим собой. Он слишком много читал и любил «отбросить непокорные локоны со лба», «сверкнуть глазами», научился перед зеркалом раздувать ноздри. Лев Борисович, которого он раздражал всё больше и больше, обвинял Женю в том, что он неестественно смеется. Вероятно, так оно и было. «Я в те времена старался смеяться звонко, что ни к чему хорошему не приводило», – вспоминал Евгений Львович этот период своего взросления.
Кроме детских книг, Женя читал и перечитывал хрестоматии и учебники Закона Божьего. В хрестоматии он прочел отрывки из «Детства. Отрочества. Юности» Льва Толстого, где его удивило и обрадовало описание утра Николеньки Иртеньева. Значит, не он один просыпался иной раз с ощущением обиды, которая так легко переходила в слезы. Бесконечно перечитывал он и «Кавказского пленника» Толстого. Жилин и Костылин, яма, в которой они сидели, черкесская девочка, куколки из глины – всё это очень его трогало. В это же время, к своему удивлению, Женя выяснил, что «Робинзонов Крузо» было несколько. От коротенького, страниц в полтораста, которого он прочел первым, до длинного, в двух толстых книжках, который принадлежал Илюше Шиману. Этот «Робинзон» Жене не нравился – в нем убивали Пятницу, поэтому он не признавал Илюшиного «Робинзона» настоящим, несмотря на свою любовь к толстым книгам.
Рядом с домом, где жили Шварцы, был дом Лянгертов, где Женя пил кефир. Когда он входил к ним во двор, чисто подметенный, с белым столиком под тенистым деревом, его встречала приветливая бабушка Лянгерт. Она кричала по-еврейски: «Феня! Гиб Жене кефиру». Молчаливая полная Феня приносила из погреба бутылку, и бабушка учила Женю пить целебный напиток по правилам: маленькими глотками и заедая булочкой. Женя подолгу беседовал с ней по душам, рассказывал и о книгах, которые прочел. После одного из таких разговоров бабушка задумалась и, улыбнувшись доброй улыбкой, призналась, что у нее есть целый шкафчик очень интересных книг, которые читал ее сын, когда был мальчиком. Если Женя обещает обращаться с ними со всей осторожностью, она даст ему их почитать. И вот они вошли в прохладный дом Лянгертов. В комнатах стоял полумрак от закрытых ставен. На мебели белели чехлы, на картинах кисея, всё блестело чистотой. Возле пышной бабушкиной кровати желтела тумбочка, и в самом деле наполненная книгами. К огромной Жениной радости, бабушка дала ему одну из них. Книга оказалась толстой, с картинками, какие бывают именно в интересных книгах. Она заключала в себе два романа Майна Рида – «Охотники за скальпами» и «Квартеронка». Когда, уже учеником третьего класса, Женя взял в библиотеке реального училища те же самые романы, они показались ему сокращенными по сравнению с лянгертовскими. Так прочел он всё, что хранилось в тумбочке.
Итак, Женя много читал, и книги начинали заполнять ту пустоту, которая образовалась в его жизни после рождения брата. На вопрос: «Кем ты будешь?» – мама обычно отвечала за него: «Инженером, инженером! Самое лучшее дело». Трудно сказать, что именно привлекало Марию Федоровну к этой профессии, но Женя выбрал себе другую. Однажды мама с сыном прогуливались и разговаривали менее отчужденно, чем обычно, и Женя вдруг признался, что не хочет идти в инженеры. «А кем же ты будешь?» Он от застенчивости улегся на ковер, повалялся у маминых ног и ответил полушепотом: «Романистом». В смятении своем он забыл, что существует более простое слово «писатель». Услышав такой ответ, Мария Федоровна нахмурилась и сказала, что для этого нужен талант.
Строгий тон мамы огорчил Женю, но никак не отразился на его решении. Почему он пришел к мысли стать писателем, не сочинив еще ни строчки, не написавши ни слова по причине ужасного почерка? Его всегда привлекали и радовали чистые листы нелинованной писчей бумаги, но в те дни он брал лист бумаги и просто проводил по нему волнистые линии. И всё-таки решение его было непоколебимо. Однажды его послали на почту. На обратном пути, думая о своей будущей профессии, Женя встретил ничем не примечательного парня в картузе. «Захочу и его опишу», – подумал Женя, и чувство восторга перед собственным могуществом вспыхнуло в его душе. Об этом решении своем Женя проговорился только раз маме, после чего оно было спрятано на дне его души рядом с влюбленностью и тоской по приморской жизни. Но он уже не сомневался в том, что будет писателем.
Глава шестая
Реальное училище
Тем временем началась Русско-японская война, которая вскоре вошла в жизнь Жени Шварца и его окружения. Дети стали следить за газетами и собирать картинки с броненосцами. Появился страстный интерес к Японии. Что за люди японцы? Где они живут? Как осмелились они напасть на нас? Женя не сомневался в победе российской армии и удивлялся японскому безрассудству. Взрослые тогда часто говорили о войне и особенно о флоте, у них даже возникла игра. Учителя Жени Константина Карповича Шапошникова они прозвали за его рост и могучие плечи «Броненосец “Ретвизан”», городского архитектора Леонида Ивановича Смирнова называли «Миноносцем» и так далее. В разговорах старших о военных действиях Женя начал замечать оттенок непонятной ему насмешки, хотя не понимал еще ее причину. Однажды он услышал разговор, который задел его. Беатриса Яковлевна призналась Жениной маме, что ей всё же приятно читать редкие сообщения о наших удачах, на что Мария Федоровна резко возразила ей, и Женя вдруг осознал, что его мама радуется поражениям российской армии. Он ужаснулся и постепенно понял, что мама и все взрослые в его окружении были против царя и генералов, а солдат всячески жалели и сочувствовали им.
У Шварцев стало бывать много народа. В отцовском кабинете происходили какие-то собрания, о которых Жене строго-настрого приказано было молчать. Людей, приходящих ко Льву Борисовичу, называли кратко, только по имени: Данило, например. Иногда у Шварцев ночевали проезжающие куда-то незнакомцы. Напротив их дома снимал квартиру отставной генерал Добротин. Седобородый, добродушный, он не спеша шествовал по городскому саду, заходил в магазины. Вечерами генерал сидел на крыльце в кресле и заговаривал иной раз с детьми. Однажды дети показывали друг другу картинки, потом открытки, и генерал рассматривал их вместе с детьми. Женя принес домашний альбом с открытками и, среди прочих, показал всем Карла Маркса, уверенно повторив слова Валиной няньки, сказавшей, что это – еврейский святой. Но генерал поморщился и ответил: «Ничего подобного. Это портрет одного политического деятеля». И тут Женю позвали домой. Он очень удивился тому, что мама с огорченным и строгим лицом напала вдруг на него за то, что он показывал альбом генералу Добротину, не желая ничего объяснять более подробно. Женин отец также был расстроен, и мальчик почувствовал, что та мирная обстановка, в которой они жили в Ахтырях, умерла навеки. Там они бывали в гостях у полицеймейстера, а тут отставной генерал стал врагом.
И вот приблизилась весна 1905 года. Женя пошел держать экзамены в реальное училище. На экзамене по математике Женя не ответил на последний вопрос задачи – не отнял прибыль из общей выручки купца и не узнал, сколько было заплачено за сукно. Поэтому ответ у всех был «девяносто», а у Жени получилось сто. Листы поступающим раздавал и вел экзамен красивый мрачный грузин Чкония. Узнав, что ответ у него неверный, Женя мгновенно упал духом до слабости и замирания внизу живота. До сих пор он не сомневался, что выдержит экзамен, провалиться было слишком страшно – и этот ужас вдруг встал перед Женей. Мама ушла домой, и он остался один, без поддержки и помощи. И Женя решился, несмотря на свой страх перед Чконией, подойти к нему, когда он, в учительской фуражке с кокардой и белым полотняным верхом, шел домой. Женя спросил, сколько ему поставили. Чкония буркнул неразборчиво что-то вроде «четыре», и Женя разом утешился. Он готов был поверить во что угодно, только бы не стоять лицом к лицу со страшной действительностью. Все остальные экзамены прошли отлично. Как объяснили Жене, после осенних испытаний должно состояться заседание педагогического совета и всех, кто сдал экзамены, должны принять в приготовительный класс.
Тем временем он продолжал много читать, и его новым увлечением стала эпоха первобытных людей. Он всегда испытывал одинаковое беспокойство, видя картинки или читая рассказы о тех временах. Беспокойство это было близко к восторгу – Жене казалось, что он как-то родственно связан с тем временем. Поэтому, в частности, он полюбил книгу немецкого писателя Давида Вейнланда «Руламан», которая познакомила Женю с каменным веком, временем, когда пещерный человек вел непрерывную борьбу с хищными зверями. Впоследствии так же полюбил он «Путешествие к центру земли» Жюля Верна.
Как рассказывал Евгений Львович, у них дома никогда не было налаженного удобного быта: Мария Федоровна не умела, да, вероятно, и не хотела его создать. В доме стояла дешевая мебель. На стенах висели открытки. Стол в столовой был накрыт клеенкой. Библиотеки не накопилось, только в кабинете стоял книжный шкаф с медицинскими книжками Льва Борисовича. «У старших, которые попали в Майкоп поневоле, не было, видимо, ощущения, что жизнь уже определилась окончательно, – писал впоследствии Шварц. – Им всё казалось, что живут они тут пока. Отчасти этим объясняется неуютность нашего дома. Но кроме того, слой интеллигенции, к которому принадлежали мы, считал как бы зазорным жить удобно. У Соловьевых жизнь шла налаженнее, хозяйственнее, уютнее, но и у них она была подчеркнуто проста и ненарядна».
К моменту поступления в школу, то есть к девяти годам, Женя был слаб, неловок, часто хворал, но при этом весел, общителен, ненавидел одиночество, искал друзей. Но ни одному другу не выдавал он свои тайные мечты, не жаловался на тайные мучения. Он бегал, и дрался, и мирился, и играл, и читал с невидимым грузом за плечами – и никто не подозревал об этом. Мария Федоровна всё чаще и чаще говорила в присутствии Жени о том, что все матери, пока дети малы, считают их какими-то особенными, а когда дети вырастают, то матери разочаровываются. И Женя беспрекословно соглашался с ней, считал себя никем и ничем, сохраняя при этом несокрушимую уверенность в том, что из него непременно выйдет толк, что он станет писателем. Как он соединял и примирял два этих противоположных убеждения? «А никак, – отвечал Евгений Львович на этот вопрос. – Если я научился чувствовать и воображать, то думать и рассуждать – совсем не научился. Было ли что-нибудь отличное от других в том, что я носил за плечами невидимый груз? Не знаю. Возможно, что все переживают в детстве то же самое, но забывают это впоследствии, после окончательного изгнания из рая. Во всяком случае, повторяю, ни признака таланта литературного я не проявлял. Двух нот не мог спеть правильно. Был ничуть не умнее своих сверстников. Безобразно рисовал. Всё болел. Было отчего маме огорчаться». Родителям хотелось, чтобы Женя был талантлив и успешен, а сам он в то время чувствовал себя только трудным мальчиком.
И вот когда список принятых вывесили на доске возле канцелярии училища, Женя впервые в жизни надел длинные темно-серые брюки и того же цвета форменную рубашку и отправился вместе с мамой покупать учебники. «Мне купили и учебники, и тетради, и деревянный пенал, верхняя крышка которого отодвигалась с писком, и, чтобы носить всё это в училище, – ранец, – вспоминал Евгений Львович. – Серая телячья шерсть серебрилась на ранце, он похрустывал и поскрипывал, как и подобает кожаной вещи, и я был счастлив, когда надел его впервые на спину».
Женя пошел в реальное училище, не понимая и не предчувствуя, что начал новую жизнь. Русский язык давался ему сравнительно легко, хотя первое же задание – выучить наизусть алфавит – он оказался не в состоянии выполнить. Его память схватывала только то, что производило на него впечатление. Алфавит же никакого впечатления на Женю не произвел. И грамматические правила он заучивал механически, не веря в них в глубине души, как не верил ни в падежи, ни в приставки, ни в какие части речи. Женя не мог признать, что полные ловушек и трудностей сведения, преподносимые недружелюбным Чконией, могут иметь какое бы то ни было отношение к языку, которым он говорит и которым написаны его любимые книги. Язык сам по себе, а грамматика сама по себе. Да и все школьные сведения связаны с враждебным ему миром, со звонком, классом, уроками, толпой учеников – словом, никакого отношения не имеют к настоящей жизни.
Как бы то ни было, домашнее задание по русскому языку Женя выполнял самостоятельно. Но вот наступала очередь арифметики. Он открывал задачник, читал задачу раз, другой, третий и принимался решать ее наугад. Тут и начинались беды. Рубли и копейки не делились на число аршин проданного сукна, хотя Женя даже помолился, прежде чем приступить к этому последнему действию. Значит, решал он задачу неправильно. Но в чем ошибка? И он вновь принимался думать и думал о чем угодно, только не о задаче. Женя никак не мог сосредоточиться и направить внимание на ее решение. Темнело, перед ним на столе появлялась свеча, которая еще дальше уводила его от арифметики. Женя раскалял перо и вонзал в белый стеариновый столбик, и он шипел и трещал пока Женя проделывал каналы для стока стеарина от фитиля до низа подсвечника. Словом, в столовой уже звенели посудой, накрывали к ужину, а задача всё не была решена. А ему предстояло еще учить Закон Божий!
«Женя, ужинать!» – звала мама. И Женя появлялся за столом до того мрачный и виноватый, что мама сразу догадывалась, в чем дело. Хорошо, если она могла решить задачу самостоятельно, но, увы, это случалось не так часто. К математике она была столь же мало склонна, как и Женя. Обычно дело кончалось тем, что они обращались за помощью к отцу. Не проходило и пяти минут, как Женя переставал понимать и то немногое, что понимал до сих пор. Его тупость приводила вспыльчивого Льва Борисовича в состояние полного бешенства. Он исступленно выкрикивал несложные истины, с помощью которых очень просто решалась злополучная задача. И Женя бы понял их, вероятно, говори он тихо и спокойно. Только после долгих мучений и слез его ответ сходился наконец с ответом учебника.
