100 лучших песен о любви. Сборник рассказов. Часть 1 бесплатное чтение
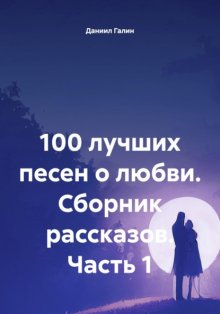
Последний вальс
Уважаемые друзья! Сегодня я представляю на ваш суд рассказ «Последний вальс», написанный мной ассоциациям от прослушивания одной из лучших песен о любви. Какой именно –я сообщу вам в следующую нашу встречу.
Анна Сергеевна Васильева проснулась от того, что часы на комоде пробили семь раз. Ленинградское июльское утро 1975 года просачивалось золотистыми лучами сквозь щели старых штор. Она поднялась с кровати, её кости болезненно хрустнули – возраст давал о себе знать каждым движением.
На трюмо стояла дубовая шкатулка с инкрустацией. Открыв шкатулку, Анна Сергеевна осторожно провела пальцами по её содержимому, будто перебирая струны забытого инструмента. Стекло карманных часов, подаренных ей шестьдесят один год назад, отразило её морщинистое лицо. Часы стояли, их стрелки показывали без пяти двенадцать.
Анна Сергеевна закрыла глаза, и перед ней возник бальный зал – трепет свечей в хрустальных люстрах, волнующий аромат пудры и духов и смутное предчувствие беды, затаившееся за звуками вальса…
В комнату вошла её дочь Лидия. Анна Сергеевна вздрогнула, услышав голос дочери:
– Мама, ты опять копаешься в своих воспоминаниях? Доктор сказал…
– Лидочка, часы остановились! А ведь сегодня двадцать третье июля….
***
Бульвар вдоль Большого проспекта в этот час был особенно тихим. Старинные липы, посаженные ещё при царе, роняли свои душистые лепестки на дорожки, вымощенные брусчаткой, которая помнила и каблуки барышень, и сапоги красноармейцев. Тени становились длиннее, лениво сползая по фасадам старых особняков, будто нехотя уступая место вечеру. Воздух был густым и сладким – пахло цветущей липой, нагретым камнем мостовой и чем-то неуловимо знакомым, тем, что Анна Сергеевна всегда называла «запахом русского лета».
Анна Сергеевна шла медленно, её трость с резным набалдашником осторожно постукивала по камням. Семьдесят шесть лет – возраст, когда каждый шаг требует обдуманности, каждое движение становится осознанным. Но сегодня она шла быстрее обычного – сердце, этот вечный предатель, стучало чаще, будто снова было пятнадцатилетним.
Анна Сергеевна повернула по Соловьевскому переулку и вышла к Румянцевскому саду. Где-то впереди, на летней эстраде, стоящей на высоком гранитном цоколе, музыканты настраивали инструменты. Скрипка вздохнула одинокой нотой, аккордеон пробормотал что-то в ответ, а рояль – старый, с потёртой полировкой – отозвался глухим аккордом. Анна Сергеевна присела на скамейку возле старого дуба, закрыла глаза.
***
Родилась она в далеком 1899 году. Своих родителей она не помнила. Анне было четыре года, когда они погибли в железнодорожной аварии, возвращаясь по Финляндской дороге с дачи бабушки – матери мамы. Анна не поехала с ними – она простудилась, поэтому бабушка оставила ее «еще на недельку» у себя. После смерти родителей Анна стала жить с бабушкой, воспитанием девочки в основном занималась гувернантка-француженка мадам Жюли. Со слов бабушки Анна знала, что отец Анны преподавал «Законоведение» в юнкерском училище, а ее мама занималась домашними делами.
***
Июльский вечер 1914 года дышал цветущей липой и тревогой. Пятнадцатилетняя Анна, под присмотром гувернантки мадам Жюли приехала на ежегодный бал во Владимирское юнкерское училище. Приглашения на выпускные балы после смерти отца Анны им присылали ежегодно, но только теперь, когда Анне исполнилось уже 15 лет, бабушка посчитала возможным посещение Анной этого мероприятия. Конечно, вместе с бабушкой и гувернанткой. Но бабушкина подагра внесла свои коррективы в их планы – бабушка осталась дома, а Анна в сопровождении мадам Жюли отправилась на бал. Они вызвали извозчика и к шести вечера подъехали к главному корпусу училища на Большой Гребецкой улице.
***
…Мадам Жюли на минуточку отошла «припудрить носик», Анна, неловко чувствующая себя от множества взглядов, осталась одна между колоннами недалеко от входа в бальный зал.
– Вы потерялись, мадемуазель?
Она обернулась. Перед ней стоял высокий юнкер с пронзительными серыми глазами. В петлице его мундира алела гвоздика.
– Я.… я жду свою гувернантку, – смущаясь, ответила Анна.
Юнкер улыбнулся:
– Николай Орлов. Разрешите предложить вам лимонад, пока вы ждёте?
– Благодарю вас, Николай Орлов. А я – Анна Фомина. Мой отец преподавал в этом училище.
– Я слышал о нем, говорят, что он был очень грамотным юристом и справедливым преподавателем… Соболезную Вам…
***
Бальный зал пылал золотым светом сотен свечей, отражавшихся в хрустальных люстрах. В воздухе витал тонкий аромат воска, духов и свежих цветов, смешиваясь со звонким смехом и перезвоном бокалов. Молодые офицеры в парадных мундирах сверкали позолотой эполет, скрипки пели страстную мелодию, а тяжелые штофные занавеси у высоких окон колыхались от легкого ветерка, будто вторя ритму танца. В этом сияющем водовороте Анна чувствовала себя одновременно потерянной и счастливой, как будто попала в волшебную сказку, которая вот-вот должна закончиться.
Забыв о правилах этикета, бабушкиных наставлениях и запретах, юная Анна весь вечер танцевала с Николаем.
– Вы рискуете, мадемуазель, – шептал Николай, – ваша гувернантка будет недовольна.
– Пускай, – смеялась она.
Подошла мадам Жюли.
– Анна, нам пора, бабушка будет волноваться…
– Но мадам…
– Анна, я обещала бабушке…. Нам пора…
В разговор вмешался Николай.
– Простите. Мадам, как вы будете добираться до своего дома? На извозчике? А можно, я вас провожу? Только подождите минутку, я сейчас…
Николай куда-то стремительно убежал. Он вернулся через несколько минут.
– Мадмуазель Анна, мадам, я доставлю вас домой на автомобиле! Мой дядя – заместитель начальника нашего училища генерал Орлов, разрешил воспользоваться его авто!
У парадного входа училища стояло несколько автомобилей. Они подошли к черному «Паккарду» с блестящими латунными фарами. Шофер помог им рассесться – мадам Жюли села спереди – рядом с ним, Анна и Николай разместились на заднем сиденье.
– Анна, куда ехать? – спросил Николай.
– Мы живьём на Большом проспекте, угол с Восьмой линией.
– Это же совсем недалеко… а давайте объедем весь Санкт-Петербург?
– Я, право, не знаю … – сказала Анна. – Мадам Жюли, как Вы считаете…?
Мадам Жюли неожиданно согласилась. Шофер внимательно управлял автомобилем, мадам Жюли, прикрыв глаза кружевным веером, сделала вид, что дремлет. Николай и Анна сидели рядом, их пальцы едва соприкасались. Они молчали, но в этом молчании было так много чувств, что никакие слова были не нужны.
Так прошло около часа. Они медленно объехали почти весь город.
Мадам Жюли сделала вид, что проснулась.
– Мадмуазель Анна, господин Орлов! Нам пора домой! По-моему…
– Мадам, давайте еще немного покатаемся – взмолилась Анна.
– Довольно, Анна! Не компрометируйте себя… Я и так …
Через несколько минут они подъехали к их дому.
– До свидания, Николай Орлов, – громко сказала Анна, как полагалось правилами приличия.
– Мадмуазель Анна, позвольте завтра пригласить Вас…
– Господин Орлов! Вы ведете себя… – начала говорить мадам Жюли Николаю, но Анна прервала ее.
– Я почти каждый день после обеда гуляю в Академическом или Румянцевском саду… Когда хорошая погода…
Действительно, Анна с бабушкой или только с гувернанткой часто выходили после обеда на прогулку. Иногда они гуляли в Академическом саду, но больше Анне нравилось в Румянцевском саду – в выходные дни после обеда там играл оркестр, а еще два раза в неделю в будние дни оркестр репетировал.
Мадам Жюли все рассказала бабушке. Та очень строго поговорила с Анной, указав ей на ее недопустимое поведение на балу и после него. И хотя Анна не имела дворянского звания, как ее мать – поскольку та вышла замуж за выходца из духовенства, выучившегося на юриста и ставшего преподавателем в юнкерском училище – а дети от такого брака наследовали сословную принадлежность отца, Анна обязана соблюдать правила приличия, а уж тем более – на светских мероприятиях.
На следующий день Анна гулять не пошла. Заболела. То ли от впечатлений от вчерашнего бала, то ли от строгого разговора с бабушкой, но у нее поднялась температура, она лежала в своей кровати – бледная, без сил. Бабушка вызвала их семейного доктора, тот не нашел признаков какой-либо болезни, предположил, что у Анны – нервное истощение. Прописал постельный режим, выдал какие-то пилюли. Через два дня Анна поправилась и 23 июля они пошли с мадам Жюли гулять в Румянцевский сад. В воздухе витал сладкий запах цветущей липы, смешанный с тревогой надвигающейся грозы.
***
– Мадмуазель Анна… – голос мадам Жюли прервал её мысли. – У меня разболелась голова. Я схожу в аптеку, а вы посидите здесь. Только, ради Бога, никуда не уходите.
Анна сидела на скамейке, рассеянно следя за игрой солнечных зайчиков на подоле своего платья.
Внезапно в аллее мелькнула знакомая фигура. Николай бежал к ней, срывая с головы фуражку.
– Анна! – он тяжело дышал, словно бежал без остановки через весь город. – Я молился, чтобы застать вас здесь.
– Николай? Что случилось? – она вскочила навстречу, инстинктивно протянув ему руки.
Он схватил ее ладони, сжимая так, что костяшки пальцев побелели.
– Нас отправляют сегодня вечером. В Сербию. Австрия предъявила ультиматум… – голос его сорвался. – Я два дня дежурил у вашего дома, но вы не выходили!
Анна почувствовала, как земля уходит из-под ног. Сербия. Это же так далеко…
– Как надолго? – едва слышно выдохнула она.
Николай горько усмехнулся:
– Пока не разобьем австрияков. Или они нас.
Вдалеке мелькнуло знакомое кружевное жабо мадам Жюли. Не раздумывая, Николай рванул Анну за могучий дуб, чьи корни столетиями вросли в эту землю.
– Слушайте внимательно, – он говорил быстро, горячим шепотом. – Я не могу обещать писать. Но обещаю вернуться. Вот вам залог.
Из кармана мундира он извлек карманные серебряные часы на тонкой цепочке. В крышке была выгравирована одна буква – «А».
– Заводите их один раз в неделю. Пока они идут –я жив.
Его губы коснулись ее пальцев, потом – внезапно, дерзко – уголка ее губ.
Когда мадам Жюли обошла дуб, она застала Анну одну, будто окаменевшую. В руках девушки блестели новенькие часики.
– Что это у тебя, дитя? – спросила гувернантка, притворно удивляясь.
– Подарок… на память, – прошептала Анна.
Мадам Жюли вздохнула, поправила кружевной воротник и, взяв воспитанницу под руку, повела к выходу. Она слишком хорошо знала жизнь, чтобы не понимать – эти часы для Анны теперь важнее всех приличий на свете.
28 июля 1914 года в газетах вышло сообщение: Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Часы в тот день Анна подзаводила трижды – она очень боялась, что они остановятся.
***
– Здравствуй, Аннушка!
Анна Сергеевна открыла глаза.
– Николай Орлов, я так рада видеть тебя, я так боялась, что в этом году мы уже не встретимся. – Анна Сергеевна встала и протянула руки ему навстречу.
Николай Петрович подошел к ней. Его восемьдесят пять лет сгорбили некогда стройную фигуру юнкера, но, когда он подходил к ней, спина невольно выпрямилась, будто время на мгновение отпустило свои тиски.
– Ты все еще помнишь, как мы прятались за этим дубом? – спросил он, помогая ей сесть на скамью. Его пальцы, изуродованные лагерными работами на Колыме, дрожали, но он помог есть сесть, поддержав ее за локоть.
Она кивнула, чувствуя, как по щеке скатывается слеза.
Анна Сергеевна достала из сумочки карманные часы.
– Ты тогда подарил мне эти часы. Они с тех пор ни разу не останавливались. Я очень следила за этим. Я знала – пока часы идут, с тобой ничего не случится. А сегодня они … остановились… Голос её дрогнул.
А далее – нахлынули воспоминания. Николай уехал. Революция. Бабушка умерла, так и не поняв, что происходит. Анна осталась с мадам Жюли, которая умерла от страшной простуды в 1918-м. Вышла замуж за нелюбимого человека, лишь бы выжить – дворянское происхождение, хоть и не совсем полноценное, шансы на выживание в те годы существенно уменьшало. Двое детей. Война. Муж, призванный на фронт и погибший в первые дни войны. Потом – голод, блокада, страх. Сын – Николай – умер, дочь – Лида – чудом осталась жива.
А Николай Орлов… он прошёл две войны, лагеря, вернулся в пятьдесят третьем седым и надломленным. И только в 60-м, случайно, в этом самом саду они встретились снова. Уже другие. Но всё ещё помнившие…
Тогда они узнали друг друга. Обрадовались этой встрече. Они долго разговаривали, рассказывали друг другу о своей жизни.
– В 55-м я женился, – прошептал тогда Николай Петрович, и в его голосе звучала вся горечь прожитых лет. – Думал, ты погибла в блокаду… Когда вернулся в пятьдесят третьем, искал тебя год. Дом, где ты жила, расселён… В справке мне сказали, что Фомина Анна в Ленинграде не числится. Теперь я понимаю, что ты уже была под другой фамилией…
Потом они несколько раз встречались, Николай даже хотел развестись… но Анна не позволила ему сделать это… И они, не договариваясь, стали ежегодно двадцать третьего июля приходить после обеда в Румянцевский сад увидеться… Не более того… Просто увидеться… Его жена умерла полтора года назад, но менять они ничего не стали. Слишком поздно…
***
Музыка заиграла сама собой – тот самый вальс, под который они танцевали в последний раз на выпускном балу юнкерского училища. Мелодия лилась из ниоткуда, наполняя воздух дрожащими нотами. Они поднялись со скамьи, превозмогая боль в суставах, забывая о докторских запретах. Его руки обняли её осторожно. Но когда они закружились, время отсчитало шесть десятилетий назад, и они снова были теми юными созданиями, для которых целая жизнь была ещё впереди.
Вокруг них мелькали тени – дамы в кринолинах, офицеры в парадной форме, смеющиеся юноши и девушки, не знающие, что их ждёт. Кружились в вальсе тени ее отца и матери, шептались его родители, расстрелянные как «враги народа» в тридцать седьмом, внимательно наблюдали за соблюдением правил приличия бабушка и мадам Жюли… Все они были здесь, в этом странном пространстве между прошлым и настоящим.
– Сегодня мы здесь последний раз, – сказала она, чувствуя, как слабеет сердце. Врачи предупреждали – ещё одна такая встреча может быть… Она не договорила.
– Я знаю, – ответил он, гладя её седые волосы – когда-то золотистые, как спелая рожь. – Но мы всё равно будем приходить сюда. Просто… по-другому.
***
Тени вокруг них сгущались, и вдруг – знакомое урчание мотора, тот самый звук, который она слышала в последний раз в далёком четырнадцатом. Из вечернего тумана выплыл «Паккард» – точь-в-точь такой, каким он увозил их с того бала. Сквозь тюль занавесок на заднем сидении они увидели себя – её, пятнадцатилетнюю в голубом платье, сжимающую в руках веер, его, двадцатилетнего юнкера, с гордо поднятой головой и блестящими от счастья глазами.
Вдруг зажглись фонари, освещая пустую аллею. «Паккард» растворился в тумане, унося с собой призраки прошлого.
А на следующий день в газетах напишут о двух пожилых людях, найденных в Румянцевском саду на скамейке возле старого дуба – они ушли вместе, держась за руки, с улыбками на морщинистых лицах.
Свидетели скажут, что перед рассветом слышали музыку и смех, доносившиеся из сада.
А старый сторож поклянётся, что видел, как по аллее проехал чёрный «Паккард» с молодыми пассажирами – девушкой в голубом платье и юнкером, который что-то шептал ей на ухо, заставляя её смеяться.
Когда зеркала помнят
Уважаемые друзья! Ранее вы прочитали мой рассказ «Последний вальс», который родился под впечатлением от песни «Как упоительны в России вечера» (слова – Виктор Пеленягрэ, музыка – Александр Добронравов). А сегодня я с радостью представляю вам новую работу –«Когда зеркала помнят».
30 октября 2012 года. Полдень. Молодой архитектор Лера Соколова стояла перед зданием ДК «Красный Октябрь», сжимая в руках папку с чертежами. Утреннее солнце золотило облупившуюся лепнину фасада, выхватывая из полумрака уцелевшие детали – резные пилястры, чугунные решётки, едва различимый герб СССР над входом.
– Ещё месяц – и снесут, – пробормотала она, проводя пальцем по трещине в стене. Вчера в краеведческом музее ей сказали, что здание собираются сносить через месяц – слишком ветхое. И как архитектор, она хотела успеть сделать замеры, сохранить хотя бы чертежи этого памятника сталинского ампира.
Ветер донёс запах прелой листвы и чего-то ещё – сладкого, пряного. «Красная Москва». Бабушкины духи.
Лера замерла. Откуда здесь этот запах? Она толкнула тяжёлую дубовую дверь.
***
Внутри царила тишина, нарушаемая только шорохом осыпающейся штукатурки. Пахло пылью, древесиной и… неожиданно – рояльной гарью.
Лучи света, пробиваясь через заколоченные окна, выхватывали из темноты блеклые, но ещё различимые росписи на потолке – колхозники и рабочие, ликующие на фоне заводов; частично уцелевший паркет, провалившийся в нескольких местах; в самом углу – рояль, накрытый пыльным чехлом; на стенах – чудом уцелевшие старые зеркала в массивных рамах.
Лера подошла к старому инструменту. Что-то заставило её снять чехол. Под ним оказалась несколько старых нотных страниц – вальс «Осенний сон». Между страниц торчал конверт. В конверте находился пригласительный билет «30 октября 1965. Бал Золотая осень», на обратной стороне которого было написано: «Дотанцуем после бала? А. Шилов», а также старая фотография – молодой мужчина и девушка у рояля. На обороте фотографии уже другим почерком выведены дрожащие строки: «Нина и Артем. 30.10.1965. Не дотанцевали».
Лера вздрогнула. Это же её бабушка на фотографии! А молодой мужчина…? Неужели это тот самый Артем Шилов, о котором однажды рассказывала бабушка? И надпись на фотографии – почерк похож на бабушкин! «Не дотанцевали…». Лера сфотографировала находки и отправила снимки в музей со своими комментариями.
***
На следующий день Лера вернулась в ДК. Она не ожидала встретить здесь кого-либо и продолжила делать замеры, эскизы и фотографии.
Через полчаса к полуразрушенному входу ДК тихо подкатила «Нива» с медицинскими наклейками на заднем стекле.
Из машины вышел высокий мужчина лет тридцати с немного усталым, но очень живым взглядом.
– Лера? – его голос, привыкший к тихим разговорам у постели больных, прозвучал в утренней тишине особенно чётко.
– Да, это я. Вы из музея? Или вы с администрации?
– Нет. – Он достал из кармана потрёпанный блокнот. –Меня зовут Артём Шилов. Я…
Он запнулся, словно подбирал слова.
– Я реаниматолог в городской больнице.
На той фотографии, что Вы прислали вчера в музей –мой двоюродный дед –Артём Шилов. Отец назвал меня в его честь.
– Ему было 28, когда он погиб. – Артём достал потрёпанный блокнот. – Он был старшим братом моего деда Александра. Талантливый хирург, подавал большие надежды.
– После его гибели, – продолжил Артём, – мой дед сохранил эту память – дневник своего брата. А когда у отца родился я…
– …тебя назвали в честь героя семьи, – закончила Лера.
Лера заметила, как его пальцы слегка дрогнули, когда она произнесла эти слова. Он убрал блокнот в карман.
– Директор краеведческого музея, мой хороший знакомый, сказал, что Вы интересуетесь историей этого здания. И что нашли какие-то документы…
– Вот. – Лера протянула ему конверт.
Артём взял его осторожно, как берут исторические артефакты. Его пальцы –длинные, с коротко подстриженными ногтями дрогнули, когда он увидел надпись на обратной стороне пригласительного билета.
– Это… его почерк. Точь-в-точь как в его блокноте-дневнике …
Он поднял глаза на Леру. В них читалось что-то большее, чем просто профессиональный интерес.
***
Он рассказал историю, которую знал со слов отца: Артем-старший работал хирургом в соседней больнице. Однажды зайдя к старому другу в ДК, он услышал, как молодая девушка – концертмейстер ДК – репетирует на рояле. С тех пор приходил слушать её каждую свободную минуту, просто приходил, садился в углу зала и слушал.
– А 30 октября 1965 года здесь должен был быть осенний бал, – сказал Артём.
– После бала дед Артем собирался сделать ей предложение…
– Я знаю эту историю, – ответила Артему Лера.
– Откуда? Вам рассказал директор музея? Или кто-то еще?
– Нет. Моя бабушка, Нина Соколова, работала здесь концертмейстером.
Артём резко вдохнул:
– Нина Васильевна?
Теперь дрогнули уже её пальцы.
– Вы… знали мою бабушку?
Он покачал головой:
– Только по записям деда в дневнике. Они должны были встретиться здесь 30 октября 1965 года. Но…
Он не договорил. Лера кивнула – она слышала эту историю от бабушки.
– Его сбила машина по дороге сюда.
Тишина повисла между ними, нарушаемая только шорохом опавших листьев за дверью. Они стояли молча, пока где-то в глубине здания не скрипнула старая доска, будто вздохнув за всех, кто так и не успел сказать самое важное.
Они переглянулись, и что-то щёлкнуло между ними – как замок старинного альбома, наконец-то открывшийся после многих лет.
– Пойдёмте, – сказала Лера, – я покажу вам, где она работала.
И когда они вошли в полумрак здания, их тени на стенах слились в одну – как когда-то должны были слиться другие тени, сорок семь лет назад.
– Вы верите в привидения? – неожиданно спросила Лера.
Артём усмехнулся:
– Я реаниматолог. Верю только в то, что можно потрогать.
– Тогда… потрогайте это.
Она взяла его за руку и подвела к одному из зеркал.
***
Сначала ничего. Потом…
Отражение сдвинулось.
Вместо разрухи – блеск люстр, запах духов, звуки оркестра.
– Что за…
– Смотрите, – прошептала Лера.
В зеркале молодой врач в строгом костюме со значком ВЛКСМ на лацкане нервно поглядывал на часы.
– Вы видите?
Артём кивнул.
В зеркале промелькнула девушка в красном платье.
Они не замечали друг друга.
Артём-старший опять посмотрел на часы. Бабушка Нина поправляла причёску у другого зеркала.
– Почему они…
– Они не видят друг друга, – сказал Артём. – Он опаздывает, она ждёт…
– Они не встретились тогда, – сказала Лера. – Он погиб по дороге. Она прождала до утра.
Все происходило беззвучно, но Лера и Артем увидели, что в зеркале начался бал и пары закружились в вальсе. А те двое так и не видели друг друга.
– Рай – это момент, который должен был случиться, – прошептала Лера. – Но не случился.
Артём сжал её руку.
– Тогда давайте доделаем это за них.
Он достал телефон, нашёл ту самую мелодию – и поставил на repeat.
Они закружились под мелодию «Осеннего сна» из динамика.
– Вы знаете, что это безумие?
– Знаю.
– И что никто нам не поверит?
– Неважно.
На мгновение Лере показалось, что в зале стало теплее, а из динамика телефона зазвучал настоящий оркестр.
Артем вдруг резко остановился, подошёл к зеркалу и прижал фотографию к стеклу.
– Смотрите…
Отражение в зеркале медленно менялось. Те двое подошли друг к другу и закружились в вальсе, молодые, счастливые, танцующие под звуки невидимого оркестра…
Лера прижалась к его плечу.
Две пары танцевали в унисон…
А когда после вальса Лера и Артем подошли к роялю, то увидели на его крышке засушенный кленовый лист, на обороте которого кто-то вывел чернилами: «Спасибо. Теперь мы дотанцевали.» И две подписи –«Н. и А.»
***
Они просидели в ДК до вечера, разговаривая обо всем.
Артем узнал, что бабушка Леры после той трагедии больше никогда не играла на рояле.
Он опять достал из кармана потрёпанный блокнот в кожаном переплёте.
– Вот. Последняя запись.
Лера прочитала:
«30.10.76. Сегодня скажу Нине самое главное. Купил кольцо… Как же я ее…»
Запись обрывалась.
– Он не успел дописать, – прошептал Артём. – Но я всегда знал, что предложение заканчивалось бы этим словом.
– «…люблю», –договорила Лера.
– Он хотел подарить ей это, – Артём достал маленькую коробочку. Внутри лежало золотое кольцо с сапфиром. Мой дед передал мне это, как память о своем погибшем брате…
***
Прошло три года. ДК «Красный Октябрь» не снесли. После долгих споров с администрацией города Лере удалось доказать его историческую ценность. Теперь в отреставрированном здании располагался культурный центр, где по вечерам звучала живая музыка, проходили литературные вечера и каждый год 30 октября вечером проводился осенний бал. В этот вечер зал всегда полон. Говорят, если в этот день присмотреться к старым зеркалам, которые почти все остались на своих местах, можно увидеть отражения тех, кто когда-то не успел дотанцевать свой танец.
***
В прошлом году Лера и Артём поженились. Свадьбу играли здесь же, в бальном зале. Когда они кружились в первом танце, многие гости заметили –в зеркалах отражались четыре человека, а не двое.
После свадьбы они стали жить в квартире, которую Лера получила в наследство от бабушки. В их гостиной висело то самое зеркало из ДК – Артём уговорил комиссию по сохранению культурного наследия разрешить им его забрать.
Иногда, особенно осенними вечерами, они замечали, как в глубине стекла мелькают два силуэта – мужской и женский.
Но это, конечно, просто игра света.
Хотя…
P.S. Если вдруг увидите незнакомый отблеск в старом зеркале – не пугайтесь. Это просто кто-то дотанцовывает свой вальс…
Ноктюрн в каплях дождя
Уважаемые друзья! Ранее Вы прочитали мой рассказ «Когда зеркала помнят», написанный под впечатлением от песни «После бала» (музыка и слова – Николай Шипилов). А сегодня я с радостью представляю вам новую работу – «Ноктюрн в каплях дождя».
Ноктюрн в каплях дождя
Июнь 2010 года.
Зал филармонии был полон до отказа, хотя официально билеты не продавались – люди проходили по спискам, как на закрытый правительственный прием. Все знали: это прощание. Последний концерт Марка Соловьева. Врачи вынесли приговор еще полгода назад, отведя три месяца, но Марк продолжал жить вопреки прогнозам, словно сама музыка держала его на этом свете.
Анна сидела в первом ряду, сжимая в руках программку с той самой фотографией – молодой, улыбающийся Марк с гитарой через плечо, каким он был в их лучшие годы. Сейчас, глядя на сцену, она видела другого человека: исхудавшего, с глубокими морщинами у глаз, но… все того же Марка. В уголках его глаз по-прежнему прятались те самые озорные искорки, которые она впервые заметила двадцать лет назад в консерваторском дворе.
Когда он вышел на сцену, зал замер. Марк шел медленно, опираясь на гитару как на костыль, но держался прямо, с достоинством. Врачи категорически запретили ему выступать, но кто мог запретить музыканту проститься со своей публикой?
Первые аккорды «Баллады о порванной струне» прозвучали неожиданно мощно. Голос Марка, хоть и потерявший былую силу, сохранил свою пронзительность. Зал взорвался аплодисментами уже после первого куплета. Анна видела, как на глазах у сурового критика из «Музыкального обозрения» выступили слезы.
Он пел «Осенний вальс» – ту самую песню, что принесла первое место на известном музыкальном конкурсе и открыла путь в большую эстраду. Его пальцы скользили по струнам с какой-то особенной нежностью, будто прощаясь со старым другом. В середине песни голос вдруг сорвался, но зал, вместо того чтобы замереть, подхватил мелодию – тысяча голосов звучала как один.
Особенно потрясла всех «Колыбельная для взрослых». Марк пел ее, глядя прямо на Анну, и в зале воцарилась такая тишина, что было слышно, как скрипят кресла. На последнем куплете его голос почти исчез, превратившись в шепот, но каждый слово было отчетливо слышно до самого последнего ряда.
«Северный ветер», «Блюз для двоих», «Письмо с дороги» – каждая песня была как глава из их общей жизни. Зал то замирал, то взрывался овациями, люди не скрывали слез. Молодая девушка в третьем ряду все выступление держала руки у рта, как будто боялась вскрикнуть. Пожилой мужчина с седой бородой сидел, закрыв лицо ладонями.
– И в завершение я спою для вас одну песню, – его голос звучал тихо, но каждый в зале слышал отчетливо. – Ту, с которой все началось … и которой все заканчивается…
Его пальцы, некогда быстрые и точные, теперь двигались с трудом. Первые аккорды прозвучали неуверенно, но уже через мгновение музыка ожила. Это была та самая песня, которую они написали с Анной в съемной квартире на окраине города, когда им было по двадцать. Анна закрыла глаза.
***
Сентябрь 1990 года.
Анна Захарова, дочь профессора теории музыки, в сотый раз отрабатывала этюд Шопена, когда в открытое окно аудитории влетел камешек – нет, не камешек – гитарный медиатор.
За стеклом, на газоне, сидел парень в кожаном пиджаке и беззастенчиво ухмылялся. Его гитара лежала на коленях, а пальцы перебирали струны с какой-то кощунственной легкостью.
– Эй, пианистка! – он крикнул так, что с верхних этажей высунулись студенты. – Ты играешь как робот!
Анна вспыхнула. Она прекрасно играла – все педагоги это подтверждали.
– А ты вообще не по нотам играешь! – выпалила она в форточку.
Парень рассмеялся, вскочил и подошел ближе к окну. Теперь она разглядела его лицо: острые скулы, веснушки на носу, глаза цвета мокрого асфальта.
– Музыка – не про ноты, золотко. Она про вот это. – Он прижал ладонь к груди, прямо к сердцу. – Марк. А ты?
– Убирайся! – Анна захлопнула окно.
Но через пять минут снова открыла. Он все еще стоял там. Играл что-то свое – дикое, необработанное, как гром среди ясного неба.
– Я – Анна! Второй этаж, кабинет 211! Жду!
Когда Марк вошел в аудиторию, запахло ветром, сигаретами и свободой.
– Докажи, что ты не бездарь, – бросила она, указывая на рояль. – Сыграй что-нибудь… настоящее.
Марк сел за инструмент – и мир перевернулся.
Его пальцы, казалось, ломали все правила: он бил по клавишам кулаками, гладил их ладонями, извлекал звуки, о которых Анна не подозревала. Это было кощунство. Это было гениально.
– Ну что, профессорша? – он обернулся, и в его глазах танцевали черти. – Я прошел проверку?
Анна не ответила. Вместо этого она села рядом – и их руки случайно столкнулись на клавишах. В этот момент начался дождь. Теплый, внезапный, как все в нем.
***
Октябрь 1992 года.
Квартира, которую они снимали в старом доме на окраине города, дышала историей. Скрипучие половицы хранили следы прежних жильцов, а облупившиеся подоконники помнили ещё довоенные времена. Здесь пахло пылью старых книг, масляной краской с лестничной клетки и той особой смесью дерзости и надежды, что бывает только в двадцать лет.
Анна возвращалась с подработки – сегодня она аккомпанировала ученикам в музыкальной школе. Пальцы ныли от детских этюдов, но, когда она открывала дверь и видела Марка, сидящего среди разбросанных нотных листов, усталость улетучивалась. Он поднимал голову, и в его глазах вспыхивали искорки: «Слушай, что придумал!»
Подвал перехода, где он играл днём, оставил следы на его гитаре – царапины, следы дождя на деке. Но вечером инструмент оживал в его руках по-новому. Они сидели на полу, окружённые чашками с остывшим чаем, и ловили музыку, которая рождалась между ними – то ли в спорах, то ли в случайно совпавших взглядах. И вот однажды, среди десятков набросков, они нашли То Самое. Даже не обсуждая, просто переглянулись и поняли – получилось.
***
Ноябрь 1992 года.
Частная студия «Рекорд» располагалась в подвале пятиэтажки. Чтобы войти, нужно было дернуть ржавую дверь на себя и вверх. Внутри пахло старыми проводами, табачным дымом и чем-то сладковатым – возможно, воспоминаниями о всех, кто здесь записывался.
Звукорежиссёр Аркадий, уже немолодой мужчина со скрипичным ключом на шее и сигаретой в уголке рта, встретил их кивком:
– У вас три часа. Больше не могу – после вас группа «Шанс» записывается.
Марк бережно достал гитару из чехла, Анна села за пианино в углу.
– Готова? – он поправил микрофон, и его голос зазвучал в наушниках Анны тёплым шёпотом.
Она отрицательно покачала головой:
– Я же не умею петь.
– А кто-то умеет? – Марк улыбнулся, и в этот момент Аркадий дал сигнал.
Первые аккорды прозвучали неуверенно – помехи, фальшь, дрожь в голосе. Но к середине первого куплета произошло чудо. Их голоса нашли друг друга, как два потока, сливающиеся в реку.
Аркадий замер, забыв про сигарету. Пепел осыпался на пульт, но он не заметил. В его глазах отражались десятки таких же парней и девчонок, приходивших сюда за тридцать лет работы. Но таких… таких не было давно.
Когда последний звук растворился в тишине, Марк снял наушники дрожащими руками. Кассета в магнитофоне казалась теперь не просто плёнкой – капсулой времени.
– Это… – Марк обернулся к Анне … наша жизнь. Даже если нас не станет, она останется.
Анна рассмеялась, но в уголках её глаз блеснули слёзы:
– Перестань! Я не хочу без тебя…
– Не беспокойся… – перебил Марк. – Если что-то случится … – я вернусь. Хоть дождем, хоть ветром. Обещаю.
Аркадий молча протянул им кассету. На наклейке он уже написал дату и два имени – их имена. А на студийном экземпляре поставил три звёздочки – так он отмечал только особенные записи.
За окном студии, в ночи, зашуршали листья, подхваченные ветром. Где-то вдали проехала машина, и на секунду её фары осветили их лица – молодые, прекрасные, полные веры.
А дальше – конкурсы, известность, постоянные изматывающие гастроли, корпоративы, правительственные концерты, серьезные гонорары, большая двухуровневая квартира и … неумолимый приговор врачей, перечёркивающий всё…
***
Июнь 2010 года
В зале кто-то громко всхлипнул. Анна открыла глаза и увидела, как по щекам соседки катятся слезы. Но сама она не плакала. Она смотрела на Марка, пытаясь запечатлеть в памяти каждый его жест, каждый вздох, каждый взгляд.
Когда последний аккорд затих, наступила тишина. Затем зал взорвался аплодисментами. Марк медленно поднялся, сделал неуклюжий поклон и… улыбнулся Анне. Так же, как тогда, в их первый день знакомства.
А за окном филармонии, будто в ответ, начался дождь. Не просто дождь, а теплый летний ливень, который стучал по крыше и стеклам, словно пытался достучаться до каждого в этом зале.
Он умер через неделю. После похорон Анна закрыла крышку рояля на ключ. Не просто так – повернула его в замке дважды, будто запирая не инструмент, а собственную боль. Теперь черный «Бехштейн» стоял в гостиной как гроб – величественный, полированный, мертвый. Иногда, проходя мимо, она останавливалась и клала ладонь на полированную поверхность, будто проверяя, не согрелось ли дерево от чьего-то невидимого прикосновения…
***
Август 2011 года
Прошел год. Анна научилась жить в новой реальности: преподавала в консерватории, ходила в магазин, улыбалась друзьям. Но по вечерам, проходя мимо рояля, она невольно замедляла шаг. Иногда – совсем ненадолго – ей казалось, что дерево под ладонью теплое, будто кто-то только что играл…
Однажды ночью ее разбудил звук. Не громкий, не резкий – будто кто-то осторожно взял одну-единственную ноту «ля» в нижнем регистре. Она замерла, боясь пошевелиться.
Второй аккорд прозвучал отчетливее. Ми-бемоль мажор – его любимая тональность.
Анна спустилась вниз босиком. Лунный свет лился через окно, превращая гостиную в черно-белую фотографию. Крышка рояля была поднята. На клавишах – капли воды, хотя окно закрыто. А за стеклом, нарушая все законы природы, стучал дождь, хотя синоптики весь день обещали ясную погоду. Она медленно провела пальцами по клавишам. Влажным. Теплым. Живым.
***
– Вы верите, что люди могут… становиться стихиями? – спросила Анна у старого звукорежиссера Аркадия.
Тот сидел в своей студии, чистя контакты на микшере 90-х годов. Именно он записывал их первую песню.
Аркадий задумался, затем отложил отвертку и вытер руки о ветхий свитер.
– Вода – сказал он наконец, – она ведь не исчезает. Падает с неба, впитывается в землю, испаряется, снова становится облаком. Круговорот. – Он сделал паузу. – Как мелодия. Ее можно переписать, аранжировать по-новому, но суть останется.
Анна вышла из студии. На улице было солнечно, но на ее ладонь упало несколько капель. Теплых. Как поцелуй.
Она подняла лицо к небу. Ни тучки. Только голубая бесконечность.
Это ты… – прошептала она.
Где-то вдали, за горизонтом, ответно прогремел гром.
***
Теперь, когда Анна садится дома за рояль и начинает играть ту самую мелодию, происходят странные вещи.
Весной, едва её пальцы касаются клавиш, в приоткрытое окно залетает порыв тёплого ветра. Осенью залетевший сухой лист, кружась, опускается прямо на клавиши – всегда на ту самую октаву, где начинался его партия.
Зимой, когда за окном трещат морозы, на стекле проступают узоры, похожие на нотный стан. А летом, в знойный полдень, по крыше внезапно пробегает шум дождя.
Особенно явственно это чувствуется в день их годовщины. Старый метроном, давно стоящий без дела, вдруг начинает тикать ровно в такт, хотя никто его не заводил…
Потому что обещания, данные от всего сердца, не умирают. Они просто… возвращаются. Иногда – проливным дождем. Иногда – в капле, упавшей с чистого неба. Иногда – зимней вьюгой или мягким снегопадом…
Ведь любовь, как и музыка, бесконечна.
Главное – не закрывать рояль на ключ.
История одной любви
Уважаемые друзья! Ранее вы прочитали мой рассказ «Ноктюрн в каплях дождя», написанный под впечатлением от песни «По небу босиком» (слова – Михаил Гуцериев, музыка – Леонид Молочник и Алексей Золотарёв). А сегодня я с радостью представляю вам новую работу – «История одной любви».
Донецк. Январь 2015 года. Ледяной ветер гулял по разбитым улицам. Он нёс с собой колючую снежную пыль, которая оседала на обгоревших каркасах машин, на обломках кирпичей, на ржавых оградах школьного двора, где ещё полгода назад смеялись дети. Город казался вымершим – лишь изредка вдалеке слышался рёв грузовиков, везущих подкрепление на передовую, да треск случайных выстрелов, эхом отражавшийся от почерневших стен.
В полуразрушенной квартире пятиэтажки в Петровском районе Донецка, где уцелела лишь одна комната, холодное зимнее солнце пробивалось сквозь окно, затянутое полиэтиленом. Плёнка вздувалась от сквозняка, шуршала, как последний лист на мёртвом дереве. Луч света, бледный и жидкий, скользил по стенам, освещая следы от пуль и осколков – шрамы, оставленные войной в их доме и падал на лицо спящей Маши.
Алексей Кузнецов, бывший учитель истории, а теперь – боец ополчения, осторожно приподнялся на локте, стараясь не разбудить её. Каждое движение отзывалось тупой болью – вчера его накрыло взрывной волной, когда он тащил в укрытие раненого товарища. Ребра ныли, в висках стучало, но это было ничто по сравнению с тем, что он чувствовал, глядя на спящую жену. Она свернулась калачиком под тонким одеялом, подтянув колени к груди – так было теплее.
Сегодня было редкое утро без тревог. Без воя сирен, без грохота «Градов», без криков «В укрытие!». Просто тишина и багряный рассвет, заливающий комнату кроваво-красным светом. Алексей знал, что это ненадолго – война не прощает передышек. Но пока он позволял себе эту маленькую ложь: может, сегодня её не будет? Может, всё кончилось?
Он смотрел, как солнечный луч играет в каштановых волосах Маши, выбившихся из-под старого вязаного шарфа – в квартире было не больше десяти градусов. Её лицо, обычно такое живое, сейчас казалось почти прозрачным от усталости. Тонкие синяки под глазами, пересохшие губы, резче обозначившиеся скулы – война высасывала из неё жизнь по капле.
«Как хочется жить…» – прошептал он, осторожно проводя пальцами по её щеке.
На мгновение он позволил себе забыть. Забыть, что за окном – война. Забыть, что школа, где он когда-то преподавал, теперь – груда кирпичей, а его лучший ученик, Витя, лежит в могиле где-то на окраине города. Забыть, что детская поликлиника, где работала Маша, разбомблена в первые же недели боёв, а её маленькие пациенты – кто погиб под обстрелами, кто уехал, бросив всё, кто теперь боится даже выйти на улицу, потому что снайперы стреляют по теням в окнах.
Он закрыл глаза и представил, как должно было быть: утро, запах кофе, Маша смеётся на кухне, за окном – голоса детей, спешащих в школу. Но когда он открыл их снова, перед ним была лишь разбитая комната, холод, тишина и её лицо, на которое уже ложилась тень войны.
Где-то далеко раздался глухой удар. Земля дрогнула, и с потолка посыпалась пыль. Война напоминала о себе.
***
Их история началась в Донецке – городе, где они родились, выросли и полюбили друг друга. Они познакомились случайно. В январе 2010 года Алексей, тогда уже учитель истории 57 донецкой школы, идя на работу, случайно поскользнулся на ледяном тротуаре и подвернул ногу. Подумал – да так все пройдет, но нога болела, даже немного распухла. После уроков он решил обратиться в городской травмпункт.
А Маша, студентка последнего курса интернатуры по направлению «педиатрия», в этот день решила зайти к своей однокурснице Ирине, которая проходила практику в травмпункте. Они собирались вместе сходить в кинотеатр – вышел фильм «Елки» и подружки хотели пойти посмеяться над незамысловатым, но веселом сюжетом.
В кинотеатр они пошли втроем – Маша, Ирина и прихрамывающий Алексей. После просмотра у всех было веселое настроение, они сначала проводили Ирину до ее дома, потом Алексей вызвался проводить Машу. Маша после этого шутя говорила, что она оценила все страдания Алексея с больной ногой.
Алексей и Маша стали встречаться, через год поженились.
Маша работала педиатром в детской поликлинике, Алексей преподавал историю в школе. Они строили планы, мечтали о детях, о путешествиях. В марте 2014 года Маша забеременела.
***
Но очень скоро все изменилось. Когда украинские националисты начали обстреливать город, когда на улицах стали гибнуть мирные жители – старики, женщины, дети – они оба сделали выбор. Алексей ушел в ополчение, встал на защиту родных улиц, своих учеников, соседей. Маша не могла остаться в стороне – она перешла на работу в госпиталь.
Их будущего ребёнка они потеряли в первые же месяцы войны. В тот день бои были очень интенсивными, националисты рвались в аэропорт, ополченцы противостояли им, но несли большие потери. Было очень много раненых. Когда Маша перетаскивала раненых бойцов, ее скрутила резкая боль внизу живота, – началось кровотечение, случился выкидыш. Маша выжила, но ребенка спасти не удалось. Маша попросилась из госпиталя, где было все-таки относительно спокойно, на передовую, в медицинскую роту.
Прошло почти шесть месяцев. Встречались с Алексеем они теперь нечасто. Иногда им удавалось получить день-два для отдыха, и, если это совпадало, они это время проводили в своей частично уцелевшей квартире.
– Ты же можешь уехать, – сказал он ей однажды, когда город ненадолго затих.
Она посмотрела на него так, будто вопрос был бессмысленным.
– Куда? Это мой дом.
Они не были героями. Они просто защищали то, что любили.
***
Алексей осторожно поднялся, стараясь не скрипнуть разбитым паркетом. В углу комнаты стояла походная газовая горелка – их главное сокровище. Он достал из ящика комода маленький пакетик с молотым кофе, бережно хранимый для особого случая.
«Сегодня именно тот случай», – подумал он.
Пока вода закипала, подошёл к окну. Их квартал ещё относительно уцелел, но в полукилометре начиналась «серая зона» – дома с выбитыми окнами, разрушенными фасадами. А дальше – передовая, где уже неделю шли бои.
Грохот разрыва где-то близко заставил его вздрогнуть. Привычный рефлекс – оценить расстояние, направление. Но сегодня утро было их. Сегодня они имели право на этот маленький кусочек нормальной жизни.
– Ты уже проснулся? – Маша потянулась, укутанная в одеяло. – Пахнет кофе… Как в мирной жизни…
Алексей кивнул, наливая ароматную жидкость в две жестяные кружки:
– Сегодня годовщина. Пять лет, как мы познакомились…
– Спасибо, милый, давай сегодня весь день будем дома…
– Да, у нас еще целых семь часов… Мне к шести вечера на блок-пост, а у тебя еще сутки гражданской жизни…
***
Но у войны свои планы. Она не спрашивает, не предупреждает – она просто приходит и безжалостно забирает свое.
Тишина, которая еще несколько минут назад казалась такой хрупкой и драгоценной, была разорвана резким стуком в дверь. Звук, как выстрел, прозвучал в опустевшей квартире. Алексей вздрогнул – в этом городе стук в дверь давно перестал означать что-то хорошее.
На пороге стояла Катя, сослуживица Маши по санитарной роте. Ее лицо было бледным, губы подрагивали, а пальцы судорожно сжимали края пропитанной грязью куртки. В глазах – та пустота, которая появляется после того, как видишь слишком много боли.
– Час назад разбомбили школу в Старомихайловке… – ее голос сорвался, будто слова застревали в горле. – Детей… детей много. Под завалами. Те, кто выжил – раненые. Нам приказали готовиться к эвакуации тяжелых. Всех медиков бросили туда. Колонна выходит через час. Я… я за тобой.
Алексей почувствовал, как у него похолодело внутри. Старомихайловка. Пригород, который уже неделю переходил из рук в руки. Дорога туда – открытая, простреливаемая снайперами и минометами. Последняя попытка эвакуации закончилась тем, что «скорая» вернулась с пробоинами в бортах и мертвым водителем.
– Я поеду с тобой, – сказал он твердо, уже мысленно проверяя магазин автомата.
Маша резко подняла голову. В ее глазах вспыхнуло что-то – страх? злость? – и тут же погасло, уступив место холодной решимости.
– Тебе через три часа на службу, – отрезала она. – Ты сегодня заступаешь на блок-пост.
– Черт с ним, с блок-постом! Ты же понимаешь, что это…
– Я понимаю, – перебила она. Ее пальцы сжали его запястье так сильно, что стало больно. – Но если ты сорвешься, кого поставят вместо тебя? Ваньку-салагу, который вчера первый раз автомат в руки взял? А если они прорвутся именно там?
Он хотел возражать, но слова застряли в горле. Она была права. Всегда была права.
Катя стояла в дверях, беспомощно переминаясь с ноги на ногу.
– Маш… – начал Алексей, но она уже повернулась к шкафу, доставая сумку с красным крестом.
– Я успею, – сказала она, не глядя на него. – Колонна возвращается к вечеру. К твоей смене я буду здесь.
Он знал, что это ложь. Они оба знали. Но иногда ложь – единственное, что остается.
За окном завыл ветер, и полиэтилен на окне затрепетал, как предсмертный вздох.
***
Когда через полчаса Маша уходила, Алексей стоял на крыльце, и ледяной ветер рвал дыхание из груди. Он не мог оторвать глаз от её фигуры – такой хрупкой в военной форме, слишком большой для её худых плеч. Она шагала по снежной каше, оставляя чёткие следы, которые тут же затягивало позёмкой. Январский снегопад становился всё плотнее, превращая её силуэт в размытое пятно.
В последний момент она обернулась. Сквозь пелену снега он едва разглядел её лицо – бледное, с тёмными впадинами на месте улыбки. Она что-то крикнула, но слова утонули в рёве проезжающих мимо грузовиков с ранеными.
– Не забывай, я вернусь! Даже если…
Гул моторов, скрежет гусениц по обледенелому асфальту – последние слова жены растворились в этом адском хоре. Алексей стиснул зубы так, что заболела челюсть, и крикнул в спину уходящей жене:
– Вернись! Даже если убьют!
Но она уже не слышала. Её фигура окончательно исчезла в снежной мгле, будто её и не было.
***
Через полчаса после начала дежурства на блок-посту рация вдруг ожила. Обычно скупые на слова радисты сегодня говорили быстро, сбивчиво. Алексей ловил обрывки фраз: колонна… обстрел… Старомихайловка…
Потом голос командира, всегда такого уверенного, вдруг дрогнул:
– Медицинская колонна, возвращавшаяся со Старомихайловки, попала под обстрел. Трое убитых, семеро раненых… – Доктор Мария Кузнецова… Она прикрыла собой детей, когда нацисты начали расстреливать колонну…
Алексей не помнил, как оказался на месте обстрела. Ноги несли его сами, мимо оцепеневших сослуживцев, мимо пытавшегося остановить его комбата. Он бежал, пока не упёрся в жуткую картину: растерзанная «скорая» с дырами от крупнокалиберных пуль, алые пятна на снегу, растёкшиеся в причудливые узоры. Санитары молча разгружали тела.
Среди этого хаоса лежала она. Кто-то из товарищей уже накрыл её плащ-палаткой, но ветер поднял край, и Алексей увидел её руку. Кто-то вложил в эти окоченевшие пальцы маленькую иконку Божией Матери – ту самую, что Маша всегда носила в кармане.
Снег падал на её лицо, но не таял. Алексей опустился на колени, не чувствуя ледяного холода. Он протянул руку, чтобы смахнуть снежинку с её ресниц, но вдруг осознал, что больше никогда не увидит, как эти ресницы дрожат во сне.
Ветер выл, как живое существо, разнося по округе запах гари и крови. Где-то рядом стонал раненый, но Алексей уже ничего не слышал. В его мире теперь была только тишина – глухая, беспросветная, как этот январский вечер.
***
Прошла зима. Снега растаяли, обнажив страшные шрамы войны – ржавые осколки снарядов, обугленные деревья, безымянные могилы с самодельными крестами. Алексей теперь командовал взводом. Его солдаты шептались, что командир словно ищет смерти – всегда первый поднимался в атаку, последним уходил с позиций. Домой он почти не ходил. Там, в полуразрушенной квартире, на подоконнике всё ещё стояла её засохшая герань, на вешалке висел пропитанный лекарствами Машин медицинский халат, а в шкафу лежал пакетик кофе – там всё дышало Машей, её смехом, её теплом, которое теперь лишь разрывало сердце.
В тот апрельский день, когда земля уже начала оттаивать, пахнуть сыростью и первой травой, их отправили на задание. В соседнем посёлке, на самой нейтральной полосе, в подвале разрушенного детсада застряли дети – двенадцать малышей и две воспитательницы, не успевшие эвакуироваться перед наступлением.
Они шли ночью, пробираясь по полуразрушенным улицам, где каждый тень мог оказаться снайпером, каждый хруст под ногами – растяжкой. Алексей шёл первым, прислушиваясь к тишине, которая в этой войне всегда была обманчивой.
Детей нашли в подвале – грязных, перепуганных, но живых. Самому младшему, белоголовому Сереже, было всего три года – он крепко сжимал в руках истрепанного плюшевого медвежонка и не плакал, словно понимал, что плач может их всех выдать.
Когда возвращались назад, Алексей почувствовал неладное. Тишина стала слишком звенящей, слишком неестественной. Они почти дошли до своих, когда из-за угла разрушенного магазина брызнули огненные языки автоматных очередей.
– Вперёд! Спасайте детей! – крикнул Алексей, толкая в спину первого бойца. – Я прикрою!
Он дал очередь в сторону вспышек выстрелов, услышал крики. Пуля прожгла его плечо, но он даже не дрогнул. Второй очередью ему разворотило бедро – он упал на колено, но продолжал стрелять, зная, что каждая секунда его сопротивления – это ещё несколько метров, которые успеют преодолеть его ребята с детьми.
Последнее, что он увидел перед тем, как оглушительный взрыв накрыл его волной горячего воздуха – как один из бойцов, здоровенный сибиряк Витька, бежал, прижимая к груди маленького Сережу, а за ним, держась за подол его шинели, шли остальные дети.
И тогда Алексей улыбнулся. А взрыв, превративший всё в кромешную тьму, был уже не страшен.
***
Когда к нему на несколько минут вернулось сознание, он увидел белые потолки госпиталя и едва услышал приглушенные голоса: «Шок третьей степени… Кровопотеря…Весь… Как он выжил…».
На третий день он пришел в себя достаточно, чтобы разобрать слова медсестры:
– Детей спасли. Все двенадцать.
Он хотел улыбнуться и что-то сказать, но вместо этого из его пересохших губ вырвался лишь хрип. Где-то там продолжались двенадцать маленьких жизней. Они будут расти, смеяться, любить. Возможно, когда-нибудь они даже вспомнят того бойца, который прикрыл их отход.
Алексей закрыл глаза.
Перед ним снова была их квартира. Январское утро. Луч солнца на подушке, где лежали каштановые волосы Маши. Аромат кофе, который он варил на походной горелке.
«Так хочется жить…»
Но теперь он понимал эти слова иначе. Жить – это не просто дышать. Это помнить каждый ее смех, каждую морщинку у глаз, когда она сердилась. Это любить так сильно, что даже смерть не может разорвать эту связь. Это спасать. Даже когда знаешь, что сам уже не спасешься…
«Даже если убьют…»
За окном госпиталя цвела вишня. Ветер обрывал лепестки, и они кружились в воздухе, как снежинки в январский день, когда Маша в последний раз обернулась к нему.
Он чувствовал, как жизнь медленно уходит из его израненного тела. Но это было не страшно. Потому что где-то там, в мирном будущем, которое они защищали, двенадцать спасенных детей ловили лепестки цветущей вишни.
А впереди его ждала она. С кружкой кофе в руках и улыбкой, какой он запомнил ее в тот январский день.
Мосты
Уважаемые друзья! Ранее вы прочитали мой рассказ «История одной любви», написанный под впечатлением от песни «Так хочется жить» (слова и музыка Геннадий Селезнёв). А сегодня я с радостью представляю вам но
