Я все равно буду счастлива, мама… бесплатное чтение
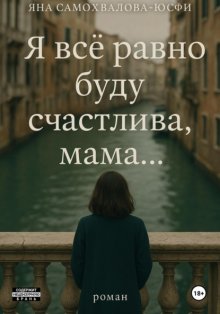
ПРОЛОГ
Она так и не вернулась. Всё произошло внезапно. Никто тогда ничего не понял – и до сих пор не знает, что случилось. Хотя с тех пор прошло уже несколько лет.
Я лечу рейсом Киев–Париж и безуспешно пытаюсь выудить из памяти какое-то воспоминание. Но оно постоянно ускользает. Это раздражает до зуда в теле.
Обычно я могу положиться на свою память: она, как старый добрый «Зенит», одним щелчком схватывает детали и бережно складывает их в архив. Даже десятилетия спустя кадры остаются почти нетронутыми. Особенно те, на которых она – Алиса. Эти снимки не выцветают. Бумага у них хорошая, плотная.
Замечаю, что ерзаю на сиденье: нервный зуд поднимается вверх по позвоночнику и сдавливает грудную клетку. Нет, только не это.
Я бросаю встревоженный взгляд на соседа слева – добродушного француза с усиками, – и на молодую женщину справа. Пытаюсь справиться с внезапной влагой в глазах. Какая глупость. Как будто можно смириться с утратой любимого человека.
Эта история – о ней. О моей троюродной сестре, к которой я испытывал…
«Гусь, почему говоришь в прошедшем времени?!» – одёргивает меня внутренний голос. Или это возмущается она, Алиса? Ведь только ей дозволено звать меня Гусём – моя фамилия Гусев.
Испытываю.
Я мысленно поправляю себя: о моей сестре, к которой я испытываю нежные чувства, как к родной.
Мы по-настоящему сблизились в подростковом возрасте: ей было пятнадцать, мне – одиннадцать. Почти сразу между нами установились доверительные отношения, и с тех пор наша дружба только крепла.
Правда, когда Алиса уехала во Францию – это было в начале двухтысячных, – мы на какое-то время потерялись. Но потом, благодаря Скайпу и соцсетям, наши беседы по душам возобновились.
– Мадам Алиса, – подшучивал я.
– Да-да, шерше ля фам, – смеялась она в ответ.
Нам всегда было весело вместе. Наверняка у вас такое бывало: один скажет какую-нибудь глупость, в которой нет ничего смешного, но вдруг на вас обоих накатывает безудержное веселье, будто вы слегка под хмельком.
Жжение в глазах не утихает. Дьявол! Уже подали бы, что ли, выпить? Почти час в воздухе.
Я вытягиваю шею, выискивая глазами стюардессу. Никого. Ну как тут не заругаться? Украинские авиалинии, чтоб их… Летели бы с Air France – уже, наверное, предложили бы Бордо. Ну, в худшем случае – Божоле.
Около месяца назад мне позвонили дети Алисы по скайпу. Я сильно удивился: скайпом я не пользуюсь уже несколько лет, предпочитая ему вайбер и ватсап. Но с компьютера программу не убрал – мало ли что. И, как оказалось, правильно сделал.
Когда на экране всплыла надпись «Алиса», я подпрыгнул на месте. Сердце ухнуло куда-то в пятки. За какие-то доли секунды я успел почувствовать всё сразу – изумление, радость и… страх. Боязнь снова услышать плохую новость. Как в тот день…
Я быстрым движением нажал на зелёную трубку. На экране – трое. Мои троюродные племянники. Они жались друг к другу и смущённо улыбались. Как же они повзрослели!
Старшему, Юре, почти тридцать, Денису – двадцать восемь. Статные, широкоплечие шатены: один посветлее, другой потемнее. У обоих – правильные, как у матери, черты лица, приятные улыбки, красивые зубы, зелёные глаза.
Я невольно залюбовался ими – и поймал себя на том, что в голосе прозвучала дрожь, когда сказал «привет». Они переглянулись и ободряюще улыбнулись мне. Каждый на свой лад.
Кареглазой, с густой шевелюрой Надюше недавно исполнилось девятнадцать. Её, рождённую во Франции, я знал хуже всех. Ничего «сестрёнкиного» я в ней не нашёл – разве что этот всепонимающий, открытый взгляд с прыгающим в нём озорным огоньком. Всё остальное – от отца: не наш типаж, но красивый. Алиса смеялась: «Это всё его гены, североафриканские!»
Сестра гордилась своими детьми, души в них не чаяла. Они были не единственным её достижением и радостью. Она любила – и была любима. Имела работу, которая ей нравилась, и друзей, которые дорожили ею.
А ещё – с удовольствием писала роман, основанный на реальных событиях своей жизни.
К его написанию её подтолкнул поступок моей троюродной тётушки: Алисе нужно было выплеснуть на бумагу всё накопленное – эмоции, боль, горечь. Но об этом она сама расскажет на этих страницах.
Книга – исповедь в жанре автофикшн, как она её называла, – давалась ей нелегко. Алиса часто сомневалась в себе, придиралась, называла себя «хреновым писателем», злилась на собственную неуверенность. Забрасывала работу, говоря, что устала бороться со своим несовершенством. Но потом возвращалась. Обязательно. Всегда.
Она объясняла это так:
– Понимаешь, мною уже проделана большая работа. Не бросать же на полпути! Это было бы несерьёзно.
Помню, как, узнав об этой её задумке, я спросил:
– А тебе это зачем? Выставлять свою мать в неприглядном свете – даже если всё написанное правда – понравится не каждому. Это у вас там, в Европе, особое… – не удержался я от иронии, – отношение к родителям. А у нас – по-другому. Смотри, сестра, как бы тебя не заклевали. Я-то тебя знаю: твоя откровенность порой шокирует. Я это качество люблю, ценю. А вот другие…
На что Алиса ответила:
«Зачем мне это?.. Хм. Чтобы разобраться в случившемся. А для этого, как мне кажется, нужно сначала разобраться в себе. Но есть и другая причина. Даже важнее. Я хочу, чтобы через мою историю все матери – настоящие и будущие – поняли, как не надо обращаться со своим ребёнком. Сегодня все учат, как надо: как воспитывать – бррр, ненавижу это слово! – как разговаривать, как мотивировать, и тэдэ, и тэпэ.
Но никто не говорит, чего делать не нужно, чтобы не навредить. Не сломать ему жизнь. Если у меня получится хорошо написать, то, дай бог, исполнится моя мечта: чтобы как можно больше родителей осознали, какой вред своими словами и поступками они могут иногда причинить своим детям. Понимаешь?
И, Гусёнок, не переживай – я изменила все имена, даты и места действия».
Да, Алиса не боялась пробовать жизнь на вкус, не зная, что ждёт её впереди: шоколад или уксус. И если попадался уксус, она почти всегда находила ложку соды, чтобы его нейтрализовать.
Её исчезновение до сих пор остаётся для всех загадкой. Алиса вышла из дома побродить по своему спальному району – как любила это делать, – и не вернулась.
Поиски ничего не дали. Никакой записки она не оставила. Из дома ничего не пропало. Сестра как в воду канула.
И это – самое тяжёлое. Когда не знаешь, что с человеком случилось, а потому не можешь по-настоящему погоревать, оплакать, примириться с потерей. Потому что в глубине души живёт крохотная надежда: а вдруг пропавший всё-таки жив.
… По скайпу говорил в основном Денис. Из них троих он был единственным, кто хоть немного говорит и понимает по-русски. Изъясняется коряво, но понять можно. Юра вставлял время от времени по паре простеньких слов. Надя молчала, морщась от напряжения – было видно, что она тоже хотела бы участвовать в разговоре, но просто не может. «Привет, дядя Серёжа» и «Спасибо, пока» – вот и весь её словарный запас.
– Серёжа, у нас к тебе большая просьба, – начал Денис, когда затянувшиеся приветствия исчерпали себя. – Мы хотим перевести мамину рукопись на французский. Ведь мы почти ничего не знаем о ней – ни о её жизни до эмиграции, ни о наших корнях. А на её компьютере и флешках – куча файлов. Всё на русском. Плюс ещё тетради, листки, блокноты, какие-то записки от руки… Мы в этом не разберёмся.
Итак, мне было поручено найти основной файл рукописи Алисы.
– Братишка, ура! Два года мучений и сомнений – и вот я наконец его закончила! – сообщила как-то она радостную новость. Сестра вся сияла.
Она открыла шампанское по ту сторону экрана. Мне пришлось довольствоваться пивом. Мы «подняли бокалы» и чокнулись через монитор.
…И вот теперь, сидя в самолёте, я поймал себя на мысли, что рассказываю эту историю соседке. Она слушает с неподдельным интересом. Задумалась.
Прислушивается и француз (видимо, понимает по-русски), чуть подавшись в мою сторону – насколько позволяют правила приличия. Но виду не подаёт: уткнулся в журнал La Revue.
Объявили посадку. Я замолчал.
Мужчина вытащил из кармана визитку и, извинившись за то, что подслушивал, робко протянул её мне. Попросил связаться, если книга выйдет на французском. Сказал, что купит её – и оплатит все расходы.
Женщина спохватилась и последовала его примеру, продиктовав мне свои контакты.
Признаться, я был приятно удивлён проявленным интересом к истории сестры.
Но ещё большее удивление ждало меня впереди.
Вот история Алисы.
Я, как и обещал, отправил её тем, кто тогда, в небе, первыми заинтересовались ею.
А теперь – передаю её вам.
ИСТОРИЯ АЛИСЫ, РАССКАЗАННАЯ ЕЮ САМОЙ
Я сижу в парке Барбье на лавочке, наблюдая за прохожими: влюблённые пары, родители с детьми, велосипедисты, пожилые люди, владельцы собак. Жизнь вокруг течёт своим чередом. Люди прогуливаются, торопятся, смеются, ссорятся, беседуют по телефону. Мир живёт своей жизнью, не замечая моей боли. За полчаса он ни на секунду не остановился.
Я нащупываю в сумке блокнот, провожу пальцем по рельефной обложке – алая кожа, по которой грациозно бегут позолоченные жирафы. Я купила его по дороге сюда, в магазине канцелярских товаров. Просто зашла, просто взяла с полки, просто рассчиталась на кассе.
Просто.
Как будто можно просто взять и написать, что делать дальше.
Как будто можно просто вычеркнуть этот день.
Как будто можно просто отмахнуться от мечты.
«Пиши, бумага всё стерпит», – сказала мама.
Я сжимаю блокнот в руках. Бумага, может, и стерпит. Я – нет.
Открываю блокнот и достаю ручку. Смотрю на чистую страницу. Писать про дом? Ведь все началось с него… Нет. Дом стал лишь поводом. Всё началось задолго до него. Так давно, что моя память уже не различает очертания прошлого. Так давно, что уже невозможно разобрать, где именно пролегает первая трещина.
Лихорадочно набрасываю то, что просится наружу.
Итак, я проиграла… На этом можно было бы поставить жирную точку. Вернее, даже не начинать этот рассказ. Кого интересуют истории поражения? Людям нужны лишь истории успеха.
Но всё же я расскажу. Расскажу потому, что до моего «успеха» – того, каким я его себе представляла, того, о котором долго мечтала, – оставался всего один шаг. Передо мной, как перед бегуном на длинной дистанции, уже замаячила финишная прямая, украшенная развевающимися разноцветными флажками, с толпой, готовой встретить победителя аплодисментами. Борьба была изнуряющей и долгой, но спортсмен, измождённый, с пересохшим ртом, истерзанными ступнями, упорно сражался за каждый метр.
Вдруг, за несколько шагов до финиша, бегун о что-то спотыкается и падает. Толпа продолжает двигаться, как ни в чём не бывало. Спортсмен смотрит на неё и понимает – его падение не было случайностью. Кто-то из толпы сыграл в этом свою роль.
Перечитываю. Нет, не нравится. Зачеркиваю написанное по диагонали. Закрываю глаза, вдыхаю глубже. В носу щекочет терпкий запах смоченной дождём земли. Я пытаюсь совладать с эмоциями. Сосредоточиться.
А если начать с этого?
Я всегда верила в сны, знаки и Бога. А ещё в то, что мать – это святое, и она никогда не предаст. Мне это твердил папа всякий раз, когда я, вся в слезах, жаловалась ему на маму. И добавлял:
«Как бы я хотел, чтобы у меня она была… хоть какая. Даже пьяница. Лишь бы рядом».
Он брал мою руку в свою и произносил эти слова мягким, но при этом твёрдым голосом. Повторял их мне столько, сколько я себя помню. Словно заклинание.
Догадывался ли он, что его дочурка, его Алиса-джан, кивая и подтирая слёзы ладошкой, в этот момент видит перед собой тёмноволосого мальчика, глядящего в окно детского дома в ожидании, что вот-вот появится его мама? Или, может быть, он представляется девочке уже не малышом, а подростком, её ровесником? Ведь он растёт вместе с ней.
Она вглядывается в его карие глаза, в тоску, скрытую в их глубине. Ее сердце сжимается от боли. Ей так хочется согреть его своей любовью, чтобы он перестал предаваться мечте, которой не суждено сбыться. Ища спасения от собственного одиночества, она пытается спасти и его.
Она тянет к мальчику руки, ей хочется увести его прочь от окна, к которому он прильнул лбом. Потому что она знает: по эту сторону стекла никакой мамы нет. Есть только она. Алиса. Его дочь.
Но образ мальчика ускользает. Не даётся в руки. И от этого на сердце становится еще тяжелее. Она ведь к нему со всей душой…
Слёзы снова текут по её щекам, но уже не за себя – ее личная боль отошла на второй план. Ей обидно за этого одинокого ребёнка, которым когда-то был её любимый папа.
Она прижимается к нему, настоящему, взрослому, сильному. Он крепко обнимает её в ответ, нежно прижимает к себе, и не двигается, пока она сама, успокоившись, не захочет отпустить его.
Едва различаю строки сквозь толстые линзы слез. Они падают на бумагу, расползаются мокрыми пятнами, превращая чернила в размытые тени. Маленькая девочка во мне всхлипывает и вытирает мокрое лицо ладонью. Говорят, время лечит, но ко мне, видимо, это не относится: прошло уже двадцать пять лет с тех пор, как умер папа, а воспоминания о нём каждый раз вызывают у меня боль. Тоску. Печаль. Горечь утраты. Вину. Этот жар в груди, он невыносим.
Такое начало истории о… Даже не знаю, о чем она будет. И о ком. Но такое начало почему-то меня тоже не устраивает.
С чего же тогда начать?.. Может, с этого?
Месяц назад я назначила маме встречу в Макдональдсе в городе Рубе – когда-то крупном текстильном центре, а теперь самом бедном городе Франции, который местные жители называют „французским Алжиром“.
Поставив точку, наклоняюсь ближе к странице, позволяя глазам с подрагивающими на нижнем веке слезами привыкнуть к этим нескольким строкам. Может быть, теперь? Может быть, с этого места получится рассказать все, что я чувствую? Рассказать правду? Мою правду.
***
Мы с мамой сидели в кафе на центральной площади города Рубе. Вдалеке скрипел колесами трамвай, официант беседовал с клиентом, недалеко вопил ребенок.
Она пришла на встречу с опозданием: «я не хотела приезжать», призналась она. В примятом пальто, со съехавшей на бок косынкой, с прибитой прической. Поразили ее глаза – уставшие, тоскливые, с темными кругами под глазами.
– Купи мне кофе! – приказала она, и я услышала в её голосе некоторую нервозность.
Мама тяжело опустилась на стул, запустила пальцы в свои тонкие волосы и начала делать ими круговые движения, пытаясь «взбить» свою прическу, светлые локоны а ля 70-е. А после уставилась в окно. Сидела прямо и была похожа на неприступную скалу. Ни единого движения. Ни звука.
Мы обе были напряжены и не осмеливались даже открыто посмотреть друг другу в глаза. «Докатились…, – с грустью подумалось мне. – Мать и дочь, сидим напротив друг друга и молчим, словно чужие друг другу люди».
Официант принес две чашки латте. Пока он ставил их на стол, я исподволь бросила на маму взгляд, пытаясь понять ее настрой по выражению ее лица, по малейшему движению ее тела.
Мое внимание к деталям было на пределе.
– Ну, что еще ты хочешь мне сказать? – тяжело вздохнув, спросила она, как только официант исчез за лестницей. Тон голоса резкий, речь торопливая, как будто мама решила покончить с разговором еще до того, как он начался.
Мое сердце билось от волнения. Мама, она прекрасно знала, зачем я ее позвала. Я нервничала, не зная, с чего начать. А нужно ли вообще что-то говорить? Может, молча отдать письмо, которое я ей написала, поблагодарить за все, что она для меня сделала, сказать, что я люблю ее, и уйти?..
– Я знаю, о чем ты думаешь… Что я – воровка.
От удивления, что она разоблачает саму себя, говорит то, что мне самой хотелось много раз выкрикнуть ей в лицо, я согласно киваю. И, глядя на меняющееся выражение ее лица, тут же понимаю, что этот жест, в других обстоятельствах невинный – жест согласия с собеседником – моя самая большая ошибка. Я снова все испортила. Мама снова меня поимела.
Кровь застучала в висках, голова слегка закружилась. Мама, украдкой скользя взглядом по сидящим за соседним столиком, начала злобно шипеть на меня сквозь зубы, произнося все то, что уже говорила множество раз: что я – бессердечная, если требую от нее выгнать ее сына, моего брата, на улицу; что я должна понять ее, ведь я тоже мать; что хотела бы она посмотреть на меня, окажись я на ее месте… Ее оранжевые губы исказились в страдальческой гримасе, скрученные артритом пальцы вцепились в сумку, а глаза то метались, то колко, даже злобно, впивались в меня.
Я в ужасе смотрела на сидящую напротив незнакомку, женщину, которая дала мне жизнь, и мне стало очень тоскливо, прямо таки паршиво, как будто мне плюнули в душу. Ну почему мама так поступает? Отворачивается от меня, когда я пытаюсь найти с ней какие-то точки соприкосновения? В наших перебранках мы словно следуем заранее написанному сценарию, где после определенной реплики одного следует заранее приготовленный ответ, конкретная реакция другого, как на светофоре после зеленого включается красный. И никак иначе.
Прошлые обиды, взаимные упреки. Из нового:
Она: «Ты выставила меня за дверь!»
Я: «Ты меня вынудила… Я ведь тебя просила не настраивать против меня детей и мужа. К тому же ты тоже когда-то выгоняла меня из дома: беременную и с младенцем на руках… Яблочко от яблоньки недалеко падает».
От возмущения я лепечу ещё что-то бессвязное. Она кидает на меня испепеляющий взгляд, в котором сошлись Содом и Гоморра. Слёзы, блеснувшие в уголках глаз. Хлопание дверей. … Никакой надежды переписать этот сценарий!
Я вытаскиваю из сумки конверт и протягиваю его ей.
– Что это? – удивленно спрашивает она.
– Я написала тебе письмо.
– Письмо? – Она удивленно склонила голову. – Ты же здесь. Зачем мне письмо?
– Я хочу, чтобы ты его прочитала.
Она закатила глаза – «опять что-то выдумала!», но конверт взяла: —Ладно, раз уж это так важно для тебя…
Она собралась было развернуть бумагу, но я остановила ее: «Пожалуйста, прочитай потом».
– Ну, хорошо… – протянула она в недоумении. – Так что, ты меня позвала только за этим – чтобы вручить мне письмо?
Я качаю головой. Куда делись все слова, которые я так тщательно подбирала? Заучивала наизусть? Слова под стать дождю за окном – тихие, ровные, словно просеянные через сито. Без надрыва, без обвинений. Во мне еще таится надежда, что мама услышит. Поймет. Наконец признает, что поступает со мной несправедливо.
– Мама…
Молчание.
– Знай, что я… Я этого не переживу.
В ее глазах проскользнуло беспокойство. Или мне просто хотелось увидеть именно это, а потому, потакая моему желанию, разыгралось собственное воображение?
Мама тяжело вздохнула, провела рукой по лбу, как будто её что-то мучило. Её пальцы сжались на ручке сумки, побелели костяшки. Она открыла рот, словно хотела что-то сказать, но передумала. Посмотрела на меня с усталой обречённостью и сдержанно произнесла:
– Ничего, доченька. Ты – сильная. Молодая еще. Что такое сорок четыре года? Вся жизнь впереди. Как нибудь выкрутишься.
Несмотря на тяжелый вздох, она попыталась придать голосу бодрящие нотки. Сказала это так, будто речь шла о пустяке. А после уныло добавила:
– А у нас с Павлом никакой надежды.
Я не верила своим ушам. Выкручусь?.. У меня пересохло в горле.
«Нет, мама, я не справлюсь. Начинать все заново в сорок пять – это совсем не то же самое, что в тридцать».
Дыра, которая образовалась во мне с начала этой истории, и которая за год разраслась до устрашающе больших размеров, нависая надо мной, как великан.., эта дыра начала поглощать меня, захватывать всю мою сущность. Я почувствовала, что внезапно сдулась, как шарик: у меня не осталось больше ни сил, ни доводов, ни желания о чем-то спорить, что-то объяснять, пытаться ее переубедить. Осталось только глухое смирение с неизбежным. Как у стоящего на эшафоте, ожидающего прихода палача.
Мама начала завязывать косынку. Долгими, неторопливыми движениями. Как будто не было никаких слов. Не было целого года, который я провела в ожидании того, что она смилостивится, передумает.
Она взяла в руки конверт, лежащий на столе, и на мгновение её лицо смягчилось, словно она нашла возможность выбраться из тупика, в который мы обе угодили, получив шанс на примирение.
– Ты же любишь писать… – Мама опустила взгляд, будто стыдясь собственных слов, и тихо добавила: – Пиши, дочь, бумага все стерпит.
А потом, почти шёпотом, словно извиняясь, пробормотала:
– Потерпи. Я все улажу, дай мне только время. – И добавила: – Запомни, я – не воровка. Я отдам тебе твои деньги.
Её голос дрогнул, и я почувствовала, как в нём смешались надежда и бессилие, как будто она пыталась убедить себя, что ещё способна что-то исправить. Но в этих словах не было уверенности, а только усталая просьба, которую она, возможно, уже не могла выполнить. Она стала заложницей своих страхов, своей вины, своей неспособности выбрать между долгом и любовью, и в этом была драма. Драма ее жизни. А заодно и моей.
Я ничего не ответила, а просто кивнула, чувствуя, как в груди сжимается холодный ком. К сожалению, времени, которое она просила, у нас с ней не было. Но об этом знала только я.
В тот момент, глядя, как она удаляется, тяжело спускается по лестнице, я не могла не думать о виновнике возникшего между нами конфликта, не могла не возмущаться братом, который, воспользовавшись возрастом и чувством вины родной матери, манипулировал ею в свою пользу. Не считался ни с её чувствами, ни с её благополучием. С момента покупки дома он, как паук, плел свою паутину. И вот в её сети попалась жертва, причем не одна.
В этот миг мне показалось, что я потеряла маму навсегда. Кажется, я опоздала…
***
Я шла по мокрым плиткам, слушая, как под подошвами хлюпает вода. Льняная сумка с купленной тетрадью в твердом переплете билась о мою ногу. Ветер растрепал волосы, но мне было всё равно.
Выбрала лавку под огромным деревом с роскошной кроной и ветками, спускающими почти до земли. Подальше от глаз. Долго глядела перед собой на искусственный пруд, в котором весело плескались утки и гуси. Смотрела, но не видела ни их, ни людей. В голове глухо стучало: «ничего, как-нибудь выкрутишься».
«Как же так, папа? Как же так?.. Всю жизнь я слушалась тебя, училась у тебя, верила всему, что ты мне говорил…»
Над головой треснула ветка – на неё вспрыгнул воробей, встряхнулся, сбрасывая капли лужи, в которой только что плескался, вымывая из перьев дорожную пыль. Пригладил крылышком мокрую головку и уставился на меня маленькими, настороженными глазками. Я машинально достала из сумки кусочек печенья, поломала его, бросила крошки на землю. Птица подлетела ближе, но не решилась схватить угощение. Она боится или чувствует что-то?
Внезапно в голову приходит странная мысль: а что, если бы я могла поменяться с ней местами? Просто расправить крылья и улететь? Желание из детства – то самое, что возникало каждый раз, когда я, напуганная миром взрослых – их ссорами, драками, пьяными голосами, – хотела исчезнуть, раствориться в воздухе. Просто не быть среди них. Раз я ничего не могу изменить, не могу ни повлиять на родных, ни примирить их, значит, хотя бы убежать, не видеть и не слышать всего этого.
Вдруг воробей вспорхнул, напуганный бежавшей на него собакой. Я проследила за ним взглядом, ощущая странное сходство с этим крошечным существом, которое всё время должно быть настороже, чтобы не дать себя проглотить. Лети, крошка, лети! Спасайся.
Блокнот лежал на коленях. Я открыла его. На первой странице вывела крупными буквами: «Моя жизнь и борьба».
Затем перевернула страницу и дрожащей рукой написала:
«Папа, ты ошибался....»
Чернильная линия вышла жирной, тёмной, как глубокая трещина. Я призадумалась. А ошибался ли папа?.. Или он всё же… врал?
Я стиснула зубы, чувствуя, как пальцы всё крепче сжимают ручку, будто та была виновником моей боли. И вдруг поняла: всю жизнь я несла внутри себя папин голос, его убеждения, его веру в мать – и теперь этот голос звучал фальшиво, как потрёпанная временем лента с затёртой записью. Впервые в жизни.
Я резко вырвала лист, достала зажигалку и, не раздумывая, чиркнула колесиком. Пламя вспыхнуло быстро, жадно охватив бумагу, и в этот момент во мне вспыхнуло странное, непонятное даже мне самой наслаждение. С меня довольно!
Огонь пожирал слова, превращая их в пепел, а вместе с ними исчезало всё, за что я цеплялась. Может, это была иллюзия, но именно в этот миг меня охватила уверенность: всё уже предрешено.
И все же во мне еще теплилась малюсенькая надежда, что не все потеряно. Я не желала её хоронить. Не хотела отказываться от мечты о доме, от своего места, от последнего, что могло мне дать ощущение опоры. Я не хотела отпускать её – но пламя делало свое дело, не оставляя мне выбора.
Прячась под широкой, щедрой кроной дерева, я закрыла лицо руками. Слёзы прорвались внезапно, обжигая кожу, мешая дышать.
Дома я пересказала наш с мамой разговор мужу. Мой голос дрожал, слезы скатывались по лицу. Муж внимательно выслушал, а затем мягко произнес:
– Дорогая, я не могу видеть тебя в таком состоянии. – Он обнял меня. – Послушай, я думаю, что надо называть вещи своими именами. Для твоего же блага. Я знаю, это очень больно, но, уверен, ты справишься.
– Я не понимаю. Что ты имеешь в виду?..
Он помолчал немного.
– Все, что ты рассказывала о твоем детстве, о юности… О твоих взаимоотношениях с матерью. С отцом.
Он снова помолчал.
– Ведь это было так очевидно…
– Но что, – в нетерпении спросила я, – что было очевидно?..
Муж молчал, не решаясь, видимо, сказать то, что должна была озвучить я сама. Он просто смотрел на меня и ждал. Внутри меня уже зрел ответ, но я отчаянно сопротивлялась, не желая признавать правды – так же, как когда-то заблуждался папа, утверждая, что мать не может предать..
Ах да, конечно же. Вот оно.
Пре-да-тель-ство.
– Ты в самом деле считаешь, что мама?..
Если мама не сделает того, о чем я прошу в письме… Она предаст не меня. Она предаст папу. Сведет на нет все его старания. Перечеркнет всё, за что он боролся, всё, что он для нас создавал, все его мечты о моем счастье и благополучии.
Это внезапное осознание резануло по сердцу так, что я вскрикнула и закрыла рот рукой. Не моргая, я долго смотрела на мужа, но не видела его. В этот миг во мне что-то оборвалось. Возникло странное, болезненное ощущение – как будто невидимая нить, которая связывала меня с отцом через мать, лопнула, и я потеряла его окончательно.
Острое чувство обездоленности накрыло меня. Я выскользнула из мужниных объятий, упала на колени и зарыдала. Грудную клетку сдавило, я едва могла дышать. Меня всю трясло, обжигающие слёзы текли непрерывно. Муж попытался меня утешить, но его ласковые руки не успокаивали, а только раздражали. Мне нужно было побыть одной, и он это понял. Убедившись, что у меня нет истерики, он молча вышел.
С того дня мне пришлось пересмотреть всю свою жизнь. С каждым воспоминанием, с каждой семейной байкой, услышанной когда-то мною от матери или родственников, передо мной постепенно раскрывалась целостная картина моей семьи – кем мы были, какие роли исполняли, что действительно нас связывало. Признаться, картинка эта оказалась неутешительной, а в чем-то даже пугающей. А ещё во время работы над этой историей пришло понимание, что я унаследовала от матери многие пороки, и предательство – не самое страшное из них: то, что меня в ней так обижало и возмущало, таилось во мне самой.
Больше всего я боюсь, что, рассказывая эту историю, выставлю маму в неприглядном свете – холодной, равнодушной, эгоистичной. Возможно, в каких-то поступках она действительно такой казалась. А может, и была – мне трудно быть объективной. Но я знаю и другую Аннушку. Противоречивую. Щедрую. Добрую. Милосердную. Ту, которую ценят, которую хочется защитить, которая не оставляет равнодушным.
Именно такой я постараюсь показать её на этих страницах, хотя боль ещё слишком свежа, а обида не хочет отпускать. Но я уверена: обида пройдёт, и злость, и разочарование – как только мама сделает то, о чём я прошу её в письме.
P.S. Мама мне так и не позвонила.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПАПА. СССР
Глава 1. Особенная семья
Необычность.
Понятие, стоящее за этим словом, появилось в моей жизни рано, даже раньше самого слова. И красной нитью проходило через неё все эти годы.
С детства я ощущала: моя семья, её история, мои родители – они не такие, как все. Их характеры и судьбы меня удивляли, завораживали. Я росла с убеждением, что наша семья особенная, а в чем-то даже уникальная.
Сидя за письменным столом, я вчитывалась в страницы «Королевы Марго» Дюма и невольно представляла их героями романа. Но могла ли я тогда знать, что однажды мне придётся рассказать их историю не как приключение, а как свою боль?
Ты открываешь их свидетельства о рождении и читаешь: его место рождения – Баку, Азербайджанская ССР, её – Сант-Аман, Франция. Ищешь на карте, где это.
«Ух ты!» – думаю я, впервые осознавая, насколько это необычно. Особенно Франция. Спрашиваю у мамы: «Ты что, нерусская?» Она улыбается и качает головой. Потом, с лёгкой досадой, говорит, что бабушка с дедушкой могли бы остаться во Франции после окончания войны, но не захотели. И мечтательно добавляет: «Тогда я была бы француженкой…».
Ты идёшь с папой на рынок, а он вместо привычного «Здравствуйте» вдруг говорит горластому продавцу арбузов и дынь:
– Салям-аллейкум.
«Ну и ну!» – зачарованно смотрю, как он легко переходит на чужой язык, с видом знатока постукивая костяшками пальцев по полосатому боку огромного арбуза. Они долго беседуют, и я дергаю отца за руку. Продавец угощает меня какой-то сладостью, видимо, чтобы задобрить.
Ты смотришь в своё собственное свидетельство о рождении и удивляешься: Владивосток, Приморский край. Снова заглядываешь в огромный атлас – так проще искать, чем на карте.
«Ничего себе! Чуть ли не конец света». Ты-то живёшь в Донецке, куда родители переехали из Закарпатской области, чтобы быть ближе к маминым родителям. А тут, на тебе! Японское море, граница с Китаем.
А потом оказывается, что других людей это удивляет даже больше, чем тебя. «Твой отец что, военный?» – спрашивают они. Ведь если он не военный, зачем ехать с одного конца страны на другой? К тому же Владивосток – закрытый город, туда просто так, без разрешения КГБ, не попадешь. Я пожимаю плечами – откуда мне знать.
На самом деле, папа – работник общепита, и профессия у него вполне земная. Он – директор ресторана. Но это почему-то тоже кажется необычным для окружающих.
У всех детей – две бабушки и два дедушки. (Даже если кого-то из них уже нет в живых). А у меня – только одна бабушка и один дедушка: в папином свидетельстве о рождении в графах «отец» и «мать» стоят прочерки.
Мои бабушка и дедушка познакомились на каком-то заводе в Германии, куда их угнали немцы. Бабушку – из Запорожской области. Дедушку – из другого места, не помню, откуда именно. В конце 1944-го года они вместе с другими трудовыми узниками были освобождены американцами, которые переправили их в свой лагерь, находящийся в южной, «свободной», зоне Франции, в департаменте Шер. Там, в самом центре страны, и родилась моя мать.
Такие истории, наверное, были и у других, но я никогда не слышала подобного от своих сверстников. У многих из них дедушки воевали на фронте – кто-то вернулся, кто-то погиб. Бабушки обеспечивали тыл. Обычная судьба советских людей в годы войны.
А чего стоит знакомство моих родителей?
Мама обожала рассказывать эту историю, но делала это только при папе – с лукавой улыбкой, как будто чуть кокетничая.
Познакомились они на рыболовецком судне «Спасск». Отец работал там грузчиком и сортировщиком рыбы, мать – зубным врачом и по совместительству медсестрой. Он заметил её сразу. Невысокая, но эффектная блондинка с тонкой талией и аккуратно уложенными светлыми локонами. Одна из пяти женщин среди полусотни суровых рыбаков.
Мама тогда встречалась с первым заместителем капитана. Отец, который не привык проигрывать – послевоенные улицы Баку закалили его – был из тех, кто никогда не отступает, особенно если на кону стояла женщина, которую он выбрал. Добивался он её упрямо, с той самой бешеной хваткой, что помогала ему выживать. И однажды, вспыхнув от ревности, взял да и выкинул соперника за борт огромного судна. Поднял руку на старпома!
– Я и сам не знаю, почему меня тянуло к женщинам в белых халатах, – вставлял папа. – А если уж она была в мини, да ещё такая красивая и недоступная, как твоя мать…
Он щёлкал пальцами, закатывал глаза, а потом с гордостью и нотками ностальгии добавлял:
– Ой-ля-ля!
Этот поступок стоил ему работы. Но отец не жалел ни о чём. Он покидал судно с женщиной своей мечты.
– А капитанским уловом стала сельдь иваси за мокрым шиворотом, – смеялся он, обнимая маму за талию.
Она фыркала, слегка смущаясь:
– Да отстань ты, дурак!
Или сидишь на кухне, а мама, хлопоча у плиты, вдруг спокойно, даже с лёгкой усмешкой, говорит:
– Ты всегда была папиной дочкой. Даже твоё первое слово было не «мама», а «папа».
– И тебе не было обидно?
Она пожимает плечами.
– Честно? Нет.
Мне четырнадцать, и, может, другую дочь в этом возрасте такой ответ матери огорчил бы. Но не меня. Я – часть этой семьи, ее «продукт», и все, что делают или говорят родители (или почти все), воспринимаю как данность. Пока, по крайней мере. До некоторой поры.
Открытость мамы, её склонность говорить о вещах, которые другие считают слишком личными, даже запретными, – это тоже норма. Она легко признаётся в поступках, за которые большинству матерей было бы стыдно, и делится со мной женскими секретами так, словно мы подруги, а не мать и дочь. И поскольку так было всегда, с самого детства, у меня просто не возникло навыка оценивать – нормально это или нет. Я не задаюсь вопросом, есть ли границы, которые в таких разговорах лучше не пересекать. Секреты, которыми не стоит делиться. И есть ли слова, над которыми стоит призадуматься. Моя бдительность отключена.
И уникальность моей мамы не в том, что она хорошая рассказчица, а в том, что она не стесняется рассказывать такие семейные байки, которые в «нормальных» семьях, кажется, детям не рассказывают.
Она продолжает:
– Однажды – кажется, тебе не было еще и года – ты меня так довела своими воплями, что я не выдержала.
Мама встаёт из-за стола, ловко встряхивает сковородку, переворачивая оладьи, и, не оборачиваясь, продолжает:
– Я ворвалась на кухню, где обедал Юрик, усадила тебя к нему на колени и сказала: «На, возьми её! Что ей нужно, не понимаю… Мудохайся с ней сам. Мне надоело быть нянькой».
Она поворачивается, смеётся.
– Да, да, так и сказала. Ты меня достала тогда. – Она кладёт лопатку на край тарелки, наклоняется к плите. – Я уже не знала, куда от тебя деваться.
Она переворачивает последний оладушек и с нарочитой лёгкостью добавляет:
– Иногда мне хотелось просто сбежать. Закрыть за собой дверь и на час, на два забыть, что я мать.
Она резко встряхивает сковородку, бросает взгляд на меня.
– Так вот. Я спряталась за дверью. Ты, как уж, извивалась у отца на коленях и орала за мной. Он, обескураженный, отодвинул на середину стола бутылку Боржоми и тарелку с борщом, прижал тебя к себе и стал гладить по голове. Но ты продолжала орать.
Мама делает паузу.
– Тогда он вытащил из грудного кармана гребень, поднёс ребром к губам и стал насвистывать свою любимую песню.
Я уже знаю, какую.
– «Тбилисо».
Мама кивает и, тихо, почти про себя, тянет: «Какой лазурный небосвод, сияет только над тобой…»
Я улыбаюсь. Подпеваю ей. Этот мотив – из детства. Он всегда вплетался в наши семейные истории.
Мама продолжает:
– Ты притихла. Задрала голову, не спуская глаз с его губ. Потом ткнула пальчиком в шрам на его подбородке.
Она на секунду замирает, будто видит перед глазами эту картину. Я же вижу другую: острое лезвие перочинного ножа упирается в папин подбородок, холод металла впивается в кожу. Папе чудом удаётся вырваться из рук троих армян; он хватает раненого друга, перетаскивает его через забор и, взвалив на себя, мчится прочь. Потом – укрытие, удушливая темнота. Друг умирает прямо на Юркиных руках, и капли крови с раны на папином подбородке медленно падают на его бледное лицо. Эта рана станет вечной отметиной, горьким напоминанием о жестоких уличных боях между подростковыми бандами армян и азербайджанцев, вспыхнувших в послевоенном Баку.
– А через несколько минут, – выдергивает меня из задумчивости мама, – я услышала твой звонкий смех. Юрка, держа тебя на руках, прибежал ко мне в спальню, весь счастливый, и кричит: «Анька, она сказала “папа”! Она сказала “папа”!»
Мама усмехается, ставля тарелку с оладьями на стол и затягиваясь сигаретой.
– Для него этот день, как он потом говорил, стал самым счастливым в жизни. … И знаешь, что самое забавное в этой истории?
Я молчу, жду. Эту байку, как и многие другие, я слышу с детства, но каждый раз слушаю с заинтересованном видом, как будто не знаю, чем она закончится.
– После этого ты больше от отца не отлипала. Наконец я могла уделять себе больше времени.
Я смотрю, как она неторопливо разминает сигарету между пальцами. Делает глубокую затяжку. А потом, с надеждой на прощение:
– Понимаешь?
Я улыбаюсь. Да, понимаю. Показываю маме все своим видом, что не чувствую себя обделённой. Если бы тогда меня спросили, хотела бы я изменить что-либо, я бы, скорее всего, даже не поняла вопроса. Позже я осознаю, что мое чувство защищённости, моя беззаботность, моё детское спокойствие – всё это благодаря щедрости отцовской любви – той, что заполнила все пробелы, приглушила всё ненужное.
Но пока меня всё устраивает. Всё так, как должно быть. А если кому-то это кажется странным или неправильным… пусть. Мне нечего ему сказать.
Глава 2. Память
Память…
Она не просто хранит прошлое – она его изменяет, подмешивая вымысел к правде, стирая одни детали и дорисовывая другие, которых никогда не было. Я пишу эти строки и спрашиваю себя: где в моих воспоминаниях заканчивается папа, каким он был, и начинается папа, каким я его придумала? Что из того, что мне хочется о нём написать – правда, а что всего лишь попытка удержать его рядом? Выдумать идеального отца? Идеализировать обычного человека? Домыслить то, чего не было, и умолчать о том, что слишком больно помнить?
Когда-то я помнила его отчётливо: голос, движения, походку. Но с годами образы стали рассеиваться, как дым, оставляя после себя лишь размытые силуэты. И всё же порой мне чудится его голос – низкий, успокаивающий. Иногда словно чувствую прикосновение его рук – сильных и нежных, когда он гладил меня по голове. Я будто точно знаю, каким был бы его взгляд в той или иной ситуации, что бы он сказал, как улыбнулся бы. Но это всего лишь игра памяти, правда?
Как, наверное, и та сцена в нашей квартире во Владивостоке, когда мама, в который раз рассказав мне историю их знакомства на судне «Спасск», добавляет: «Из-за этого папу снова чуть не посадили в тюрьму». Я замечаю, как папа подаёт ей знаки глазами, как будто говорит: «Замолчи, не говори ничего!» Но мама его не слушается, и папа злится. Я смотрю на него и говорю: «Пожалуйста, пусть мама расскажет!» Пока папа колеблется, мама произносит что-то такое, от чего у меня внутри всё ёкает.
Оказывается, мой папа был в тюрьме.
Вначале я не понимаю. Папа – преступник? Это кажется мне таким странным, а на какой-то миг даже захватывающим: «Вот это да!» Я не знаю, что и думать. Папа ведь добрый, ласковый. А преступники – злые. Разве не поэтому их сажают в тюрьму?
Я с недоверием смотрю на родителей, сидящих на диване. Они пересчитывают деньги – медленно, по одной бумажке, аккуратно расправляя каждую. Мама складывает в стопку фиолетовые, папа – красные и голубые. На некоторых я узнаю дедушку Ленина. (У меня про него есть книжка). Их движения размеренные, спокойные, будто ничего важного не произошло.
Что такого мог сделать мой папа, чтобы оказаться в тюрьме? Убил кого-то? Я замираю. Вспоминаю, как он иногда смотрит на маму, когда они ругаются: глаза сверкают, кулаки сжимаются… Мне становится страшно, от волнения начинают дрожать руки, и не получается выловить удочкой ни одной игрушечной пластмассовой рыбки из крутящегося бассейна, хотя обычно я делаю это легко. Теперь я не понимаю: бояться его или продолжать считать самым добрым человеком на свете?
Папа замечает моё замешательство, берёт маму за локоть и уводит в коридор. Я слышу приглушённый разговор. Он выговаривает ей, она раздражённо огрызается.
Когда они возвращаются, папа – уже сдержанный, мама – упрямая, но оба делают вид, что ничего не случилось.
– Это было давно, ещё до того, как я встретил маму, – мягко начинает папа, – и как родилась ты. Дали девять месяцев за драку в общественном месте. Судья посчитал это хулиганством и причинением материального ущерба госучреждению. Есть такая статья.
Я почти ничего не понимаю из того, что он говорит – какие-то непонятные слова. Но не подаю вида. Не хочу, чтобы папа объяснял и оправдывался.
– На самом деле, ничего особенного! – заверяет он, махнув рукой. – Просто какие-то нехорошие мужики приставали к беззащитной женщине, а я за неё вступился. С моими друзьями.
Позже, когда я подрасту, мы еще поговорим с отцом об этом случае. А пока он добавляет еще несколько слов – «Я не преступник, доченька, меня посадили по ошибке» – и замолкает. Голос у него добрый и спокойный, и я сразу чувствую, что он говорит правду. К тому же мама совсем не боится. Она даже улыбается и добавляет, что они с папой – два сапога пара: каждый из них не может оставаться равнодушным, когда обижают слабых. Так и здесь: папа не мог спокойно сидеть и смотреть, как один мужик оскорбляет при всех свою то ли подружку, то ли жену.
Уф! Я выдыхаю и смотрю на папу с восхищением. Теперь он стал в моем сознании ещё лучше, чем раньше! Оказывается, он защищает не только меня. Не только маму. Мой папа – храбрый, сильный и добрый. Самый лучший.
Папа не любил говорить о своём детстве и юности, словно хотел оставить прошлое там, где оно было. Похоронить его. Если бы я знала, что он уйдет так рано (ему было всего сорок девять), я бы в те редкие моменты, когда он всё же решался поделиться воспоминаниями, ловила каждое его слово, стараясь сохранить в памяти каждую деталь. А, может быть (и скорее всего), даже записывала бы. Но, увы. Я была то слишком маленькой, то слишком молодой, чтобы задумываться об этом или придавать нашим беседам особое значение. К тому же природа обделила меня памятью на детали. Единственное, что я хорошо запоминаю, – это чувства, оттенки эмоций, которые испытывала сама или которые считывала у окружающих.
И теперь меня удивляет, как иногда память становится поразительно чёткой – словно невидимый прожектор вдруг высвечивает эпизоды, спрятанные в самых укромных уголках сознания. Так однажды я совершенно неожиданно вспомнила редкий разговор по душам – тот самый, когда папа рассказал о тюрьме и о том, как он туда попал…
Я, уже почти взрослая, но в душе всё ещё наивная девчонка, решила рассказать отцу о проблемах моей лучшей подруги с её парнем, уверенная, что папа легко решит ее непростую ситуацию. Я попросила его вмешаться, поговорить с тем парнем по-мужски, а если понадобится – даже пригрозить ему, ведь у подруги не было никого, кто мог бы за нее заступиться – ни отца, ни старшего брата.
Папа слушал меня молча, с привычной терпеливой серьёзностью, задумчиво постукивая пухлыми пальцами по столу. Потом медленно поднял на меня глаза и, слегка нахмурив свои кустистые брови, спросил:
– Это ведь ты сама так решила? Или твоя подруга попросила тебя о помощи?
От этого простого вопроса я неожиданно почувствовала неловкость и даже замешательство. Я не знала, что ответить. Отец понял моё молчание без слов.
– Доченька, мы не будем этого делать, – тихо и с мягкой грустью сказал он. – И вот почему. Тюрьма научила меня многому, гораздо большему, чем я хотел бы знать. Она заставила меня понять, что добро не всегда выглядит так просто, как кажется на первый взгляд. Иногда оно оборачивается против тебя самого, как бы чисты ни были твои намерения.
Он сделал паузу, словно перебирая в уме болезненные воспоминания, затем посмотрел на меня с нежностью и горькой серьёзностью в глазах:
– Главное, чему я там научился, – это не вмешиваться в чужие отношения. Ты ведь слышала поговорку: «муж и жена – одна сатана»? Так вот, это верно для любых пар, даже если они не женаты.
Он замолчал ненадолго, словно взвешивая каждое следующее слово.
– Алиса-джан, запомни одну важную вещь. Прежде чем бросаться на чью-то защиту, обязательно спроси себя: а этот человек точно нуждается в твоей помощи? Он сам попросил тебя об этом?.. Если нет – лучше не вмешиваться. Иначе всё может закончиться плохо именно для тебя. Ты ведь помнишь, как я оказался за решёткой?
– Кажется, да.., – неуверенно произнесла я.
Несколько секунд между нами висело молчание, наполненное тяжестью воспоминаний, а потом папа снова заговорил:
– Это было давно, еще до твоего рождения. Я зашёл с двумя своими друзьями в один ресторанчик посидеть, поговорить по душам, вспомнить старые времена. С этими ребятами мы ещё в детдоме прошли огонь, воду и медные трубы, а позже отслужили в армии и оставались вместе, словно братья…
Его голос звучал тихо и спокойно, и я невольно притихла, стараясь не спугнуть момент редкой откровенности, возникшей между нами. Папа продолжил свой рассказ, который я перескажу здесь так, как помню.
За соседним столиком расположились трое мужчин и молоденькая женщина. Внезапно один из мужчин начал громко и грубо оскорблять свою подругу. Папа с друзьями переглянулись и поняли друг друга без слов. Отец сделал мужчине замечание, тот вскипел и поднял на него руку. Завязалась драка.
В отделении милиции девушка неожиданно дала показания против своего защитника, обвинив его в том, что он тайком приставал к ней, и что её друг отреагировал на подобное безобразие, как и полагается настоящему и любящему мужчине.
Так отец оказался за решёткой.
Там, за высокими тюремными стенами, ему пришлось ежедневно не только отстаивать свой авторитет, но и вести невидимую битву за собственную душу. Вокруг него были люди, ценившие силу и жестокость выше всего на свете. Папе было не привыкать к общению с подобными людьми, и все же это стало настоящим испытанием. Каждый день он словно ходил по лезвию ножа, балансируя между необходимостью быть жёстким и стремлением сохранить в себе хоть что-то от прежнего человека, способного на сострадание и милосердие. Спасением, по его собственным словам, стали лишь две вещи: огромный, почти небывалый для его двадцати трёх лет жизненный опыт и короткий срок заключения, который, хоть и казался ему вечностью, всё же оставлял надежду на возвращение к нормальной жизни.
Особенно невыносимыми были дни, когда кого-нибудь из его сокамерников навещали близкие. Они возвращались после свиданий с улыбками на лицах и блеском в глазах, который казался ему жестоким напоминанием о том, чего у него никогда не было. В долгие, бесконечные ночи он часами смотрел в потолок камеры, освещённой тусклой лампочкой, и пытался представить себе жизнь, новую жизнь, за этими стенами, когда наконец выйдет на свободу.
Переосмысление собственной жизни неизменно приводило его к болезненному вопросу, от которого сжималось сердце:
«А кому я вообще нужен? Кто будет ждать меня у тюремных ворот в марте 1969 года?»
Он отгонял от себя этот вопрос, но тот возвращался снова и снова, как назойливый ночной мотылёк, бьющийся о стекло в поисках несуществующего света.
Да, он жил среди людей, но одиночество его было безмерным, всепоглощающим. Иногда отчаяние накрывало его с такой силой, что он невольно застывал, уставившись в одну точку, словно ждал, что эта боль постепенно отпустит его сама. Он не сетовал на судьбу и не винил никого в своих бедах, но уверенность в собственной ненужности въелась в него так глубоко, что он не мог представить иной жизни, кроме той, которой жил – о жизни в одиночестве. Мысли о семье, о доме, о тепле и заботе любящего человека казались ему чем-то несбыточным, фантастическим, словно предназначенным для других, «нормальных» людей, к которым он никогда не сможет принадлежать.
И всё же, в глубине его души теплилась крохотная надежда, едва заметный огонёк мечты, к которому он боялся даже прикоснуться, чтобы не спугнуть. Мечты о том, что когда-нибудь и его жизнь наполнится смыслом и теплом, что и его однажды будет кто-то ждать, кто-то будет о нем думать…
В эти же долгие ночи отец мысленно играл с женскими образами, пытаясь представить лицо той, что дала ему жизнь и которую он никогда не знал. Ту, что могла бы его ждать. Какой она была, его мама? Ему, сироте, отчаянно хотелось верить, что его не бросили, а разлучили. Проклятая война разлучила… Он совершенно ничего не знал о своём прошлом: ни кем были его родители, ни какая его настоящая фамилия, ни как он оказался в детдоме. Единственное, в чём он был почти уверен – хотя иногда его и одолевали сомнения, что он мог придумать это в детстве, – что его мама была учительницей русского языка и литературы. Откуда возникла такая убеждённость, он не имел ни малейшего понятия.
Иногда я думаю, возможно, именно этот эпизод папиной жизни и сформировал моё отношение к нему – восхищение и сочувствие, смешанные с лёгкой, не до конца понятной грустью. Стоит лишь вспомнить об этом, и в груди поднимается то самое щемящее чувство тоски, которое всегда сопровождает воспоминания о нём.
Вне сомнения, папины надежды, страхи и одиночество словно передались мне по наследству, переплелись с моими собственными переживаниями. Может быть, именно поэтому я всегда так болезненно боялась, что он уйдёт и не вернётся, бросит меня одну, навсегда исчезнет из моей жизни. Только рядом с ним я чувствовала себя спокойно. В безопасности. Сколько себя помню. Не знаю, когда это началось – в тот день, когда я впервые сказала «папа»? Или ещё раньше, когда он впервые взял меня на руки? Может, это было всегда. Может, я с рождения знала: он – мой защитник.
Иногда мне казалось, что если я закрою глаза и открою их снова, папа исчезнет. И тогда мне становилось страшно. Как в один из тех вечеров, когда я, вцепившись в его крепкие ноги, не хотела отпускать его на работу; плакала и просила взять с собой. Это моё первое осознанное воспоминание, в котором я – действующее лицо; полноценная трёхмерная реальность. Всё, что было раньше, – лишь отдельные картинки, похожие на комиксы, которые моё воображение рисовало по чьим-то рассказам.
В комнате было сумрачно, только свет настольной лампы падал на тщательно выглаженную мамой рубашку, висящую на спинке стула. В углу потрескивало радио из радиолы на ножках – папин подарок маме. Я смотрю, как он медленно застегивает пуговицы. Затем, прежде чем застегнуть манжеты, поворачивается ко мне и спрашивает:
– Алисочка, какие запонки сегодня надеть?
Вот пишу эти строки и ощущаю сомнение… Я действительно была рядом и наблюдала за тем, как он одевается? Или все же это воспоминание – картинка, нарисованная временем и моим воображением?..
На столике лежали три пары запонок: серебристые с выгравированным рисунком, розоватые с крошечными камушками и золотые – с крупным камнем, переливающимся разными цветами. Мне льстило, что папа советуется со мной, и я с важным видом раздумывала, словно от моего выбора зависело что-то очень важное.
Я любила этот момент. И ненавидела. Потому что за ним, я знала, всегда следовал другой: папа вдевал в брюки кожаный пояс с железными заклёпками, брал ключи с тумбочки и… уходил. А я оставалась. С мамой и Павликом.
Мама, прислонившись к дверному косяку, скрестила руки на груди:
– Ну что ж, придётся тебе взять её с собой.
Отец попытался меня успокоить, но безуспешно: я продолжала хныкать, прилипнув к нему, как банный лист. Даже обещание моей любимой сахарной ваты и конфет Грильяж не помогло.
– … Анька, сделай же что–нибудь!
Папа всегда умел сказать нужное слово, но с мамой иногда терялся. Он мог легко справиться с пьяной компанией в ресторане, поставить на место грузчиков, но перед её холодной усмешкой иногда выглядел растерянным. «Я же тебе объяснял…» – говорил он, будто сам себя убеждая.
Мама пожала плечами, не меняя позы, а на папины слова, что он не успеет привезти меня к девяти вечера, сказала:
– Ну, ничего. Уложишь её в кабинете, на твоём фирменном диванчике. А потом только перенесёшь в такси. Делов–то!
Отец стиснул зубы и тихо выругался. Делал он это редко – только когда был по-настоящему зол.
Чем старше я становилась, тем осторожнее папа был в словах. Никто не смел ругаться при мне – ни он сам, ни родственники, ни соседи. Помню, как однажды я зашла к нему на работу. Мы уже жили в Крыму, и отец заведовал продовольственным складом. В его подчинении было несколько грузчиков, которых он ласково называл «бичами». У них, как и у него, было «тёмное» прошлое, и это их сближало. Отец защищал их, уважал, даже баловал, но взамен требовал: не воровать, не лениться и… не ругаться при мне матом.
Но в тот день работяги почему-то ослушались. Сидя на мешках с мукой и попыхивая «Примой» и «Беломором», они грубо бранились, явно провоцируя босса.
Я впервые видела отца растерянным. Он не знал, как поступить: ему нужно было их приструнить, но для этого требовалось крепкое словцо. Не мог же он делать то, что запрещал им!
– Алиса, иди домой, – вдруг грубо приказал он, резко поднимаясь и отталкивая стул в сторону.
Уже за воротами я услышала папин громкий голос. Признаться, я и не догадывалась, что он умеет так ругаться!
Почему-то это вызвало у меня улыбку…
Я не знала тогда, что детские впечатления остаются с нами навсегда, даже если со временем они меняют форму. Какие-то моменты стираются, какие-то всплывают неожиданно, но одно неизменно – ощущение, которое они оставляют. В тот день я лишний раз убедилась: я была центром вселенной, вокруг которого вращался весь мир. Стоило мне захотеть – и взрослые подчинялись, как будто это было в порядке вещей. Так во Владивостоке отец, не выдержав моих слез, взял меня с собой на работу в ресторан, что в дальнейшем стало обыденным делом.
Я, одетая в голубое японское платьице, белые туфельки с цветочками на малюсеньком каблучке и с пышным цветным бантом, с важным видом – «точь-в-точь как отец», говорили взрослые, – расхаживала по ресторану, разыскивая повсюду новые слова: на стенах, дверных табличках, в меню и чеках. Удивительно, но я до сих пор помню то ощущение радости, которое охватывало меня, когда я знакомилась с миром загадочных букв и складывала их в слова. Это была игра, которая увлекала меня больше, чем дорогие игрушки. Витающие в воздухе запахи, шум голосов, снующие официанты, громкая музыка и звон посуды на кухне и в зале только подогревали мой интерес к чтению. Мне нравилась эта охота за словами ещё и тем, что, блуждая в их поисках по лабиринтам загадочного мира, каким был для меня ресторан, я, как первооткрывательница, натыкалась на новые, ещё неизведанные территории. Выбрав самый укромный уголок, я пряталась, воображая, что ресторан – это лес, а взрослые – волки, которые хотят меня съесть. При шуме приближающихся шагов или голосов я, затаив дыхание, подглядывала в щель или дырочку, пытаясь понять намерения «дикого зверя». В то же время с нетерпением ждала того, кто непременно должен был меня спасти – моего папочку, который, как я уже знала, вскоре должен был броситься на мои поиски. Минуты казались мне вечностью. Не в силах усидеть на месте, я часто выходила из укрытия ещё до того, как папа успевал заметить моё отсутствие. Я была довольна, что меня не нашли «волки», но грустила, что папочка не пришёл меня спасти.
Когда мне хотелось спать, я просила папу сделать «массажик». Но сначала папу нужно было найти в большом и людном помещении. Несмотря на запрет, я выходила из папиного кабинета и бродила с потерянным видом по коридорам и подсобкам – до тех пор, пока на меня не натыкался кто-нибудь из сотрудников. Он брал меня за руку и отводил в шумный зал, к одному и тому же столику в укромном, слабо освещённом уголке около барной стойки. Там сидел отец в компании других мужчин и женщин. … После я уже сама, пошатываясь от усталости, направлялась прямиком в нужное место, пробираясь, как в лесной чаще, между танцующими и снующими взрослыми. Когда отец увидел меня, полусонную, бродящую среди пьяных ног, он бросился ко мне, ругаясь и грубо расталкивая ничего не соображающих посетителей. Подхватил на руки. Я не помню его слов, но хорошо представляю его лицо – напряженное, злое. А потом – его руки, мягкие и сильные, когда он в своем кабинете укладывал меня на тот самый «фирменный» диванчик, о котором говорила мама, и гладил по спине, пока я не засыпала. С тех пор я не давала папе покоя, и он делал мне «массажик» везде, где находились стулья и столы.
Окружающие улыбались про себя такому проявлению отцовской слабости. Одних это умиляло, других раздражало. Последние считали, что Юрий Александрович слишком балует свою дочь, но не решались ему об этом сказать: их чутье подсказывало им, что эту тему лучше не поднимать.
Глава 3. Ревность
Обычно на следующий день мама выкладывала передо мной какой-нибудь деликатес – банан (из Африки!) или клубничную жвачку в блестящей обложке (из Чехословакии!), и начинала расспросы:
– Доченька, расскажи, как у папы было?
Я деловито поджимала губы, поднося к ним указательный палец, и закатывала глаза. Мама терпеливо ждала. Потом я, пожимая плечами и с вожделением поглядывая на обещанные лакомства, начинала сбивчиво рассказывать:
– Ну-у-у, я играла в прятки. А потом папа делал мне массажик на столе, и играла музыка.
– На столе? – удивлялась мама. – На каком столе?
– Ну там, где играет музыка и тёти с дядями пьют водку и танцуют, – объясняла я. (С маминых слов, я говорила это с серьёзным видом, как учитель объясняет урок несмышлёному ученику).
Мама понимающе кивала и продолжала расспрашивать:
– А тёти с папой были?
– Ну да, тётя Света. И тётя Лариса… И ещё какая-то тётя… Она дала мне конфетки, а потом ушла с папой…
Я радовалась, что нужна ей, и с детской наивностью охотно рассказывала всё, что могла. В такие моменты я хотела только одного – чтобы мама улыбнулась и дала мне скорее жвачку или банан. Конечно, этим я невольно вредила отцу. Только спустя годы я поняла, что мамины вопросы и мои ответы были частью семейной драмы, в которой мне, ребёнку, была отведена роль, о которой никто меня не предупреждал. Как поняла и то, откуда в маме взялась эта болезненная ревность и стремление всё контролировать. У всего этого была своя история, корни которой уходили далеко в её прошлое.
Маме, несмотря на её привлекательность – у неё были утонченные и правильные черты лица, как у древнегреческих богинь, – не хватало уверенности в себе. В школе одноклассники, с присущей подростковому возрасту жестокостью, называли её кобылой из–за продолговатого лица с немного выступающими скулами. После окончания школы эта лёгкая диссимметрия исчезла, но комплекс остался, и ничто – ни искренние заверения окружающих, ни ухаживания молодых людей – не могло переубедить Анюту в обратном. Неудачный первый брак тоже внёс свою лепту в оценку собственных достоинств. Она, казалось, не верила, что её можно любить просто так – за то, какой она была. Поэтому она пыталась любовь купить. То же самое касалось и ощущения собственной значимости: оно будто измерялось суммой на сберегательной книжке, количеством хрусталя в серванте, ковров на полу, золота в шкатулке и книг на полках. Тогда она раздавала деньги, продукты, вещи – словно строила вокруг себя крепость благодарности, надеясь, что за её стенами наконец почувствует себя нужной и значимой… Свою неуверенность в себе мама маскировала маниакальной заботой о своей внешности и не в меру горделивой походкой, которая расценивалась другими, в особенности мужчинами, как неприступность; у нее был талант создать впечатление человека, знающего себе цену.
Выходя за Юрку Лебедева замуж, мама считала его не самой удачной партией: бывший беспризорник, выросший практически на улице, умел только кулаками махать. Гол, как сокол, да ещё и необразованный: правописание у жениха хромало, математические знания ограничивались простейшими арифметическими действиями, а о других науках и говорить нечего. «С другой стороны, – рассуждала мама, – какой ещё дурак взял бы меня с обузой?» При этом она прекрасно понимала, что Юрка не виноват в собственной безграмотности. Просто после войны советскому правительству было не до сирот: нужно было восстанавливать экономику страны, осваивать целину, бороться с инакомыслящими, перевооружать армию…
И тогда мать, с присущей ей женской прагматичностью, решила заняться образованием мужа самостоятельно. «Ведь он мужчина, а значит – добытчик». Но разве работяга с мизерной зарплатой способен обеспечить семье достойную жизнь? Конечно же, нет! Да и «жена рабочего» звучит унизительно. Она, выросшая в семье, где водились деньги – мой дед был мясником и умудрился сколотить неплохое состояние, – не могла допустить такого позора.
Выбор молодожёнов пал на Дальневосточный техникум советской торговли. Правда, было одно небольшое «но»: у отца не было диплома о среднем образовании. Для кого-то это стало бы серьёзной преградой, но только не для мамы. Через некоторое время на столе лежала доставленная почтальоном новенькая серенькая книжечка, ещё пахнущая типографской краской и бумагой. В ней аккуратным почерком были выписаны столбиком тройки, а завершала этот стройный ряд пятёрка по физкультуре.
Я так отчётливо представляю, как отец впервые берёт в руки этот новенький аттестат, как едва заметно дрожат его пальцы. Представляю, как он крепко сжимает документ, словно боится его уронить – будто вместе с ним может потерять новую, лучшую жизнь. Вижу, как он с благодарностью и благоговением смотрит на жену: своей Аннушке он был обязан тем, что впервые почувствовал себя полноценным человеком, когда она согласилась выйти за него замуж. А теперь, держа в руках эту серую книжицу, он ощущает свою новую значимость, новые возможности – и с радостью впитывает это непривычное, волнующее чувство. Мама, улыбаясь, смотрит на него чуть сверху вниз, воспринимая его успех как свою личную победу. Она и правда чувствовала себя победительницей, которая сделала из своего мужа человека, о чём в будущем не раз будет с гордостью вспоминать.
– Но с одними тройками тебя в техникум не примут, – сказала она решительно. – Теперь нужно найти человека оттуда и дать ему на лапу. А он уже пусть сам разбирается со своими коллегами из приёмной комиссии.
Немного поисков, несколько осторожных встреч, на которых передавался пакетик с бутылкой Советского шампанского и баночкой красной зернистой или даже чёрной икры, – и такой человек был найден.
Мамин расчёт оказался верным. Все эти инвестиции в просвещение отца оправдались в будущем с лихвой. Он оказался крайне способным «учеником», которому для успеха в жизни не хватало только «корочки», а природный ум, умение разбираться в людях, деловая хватка и врождённые лидерские качества с лихвой компенсировали недостаток сухой теории торгово-экономических дисциплин.
Тогда никто из родителей даже не догадывался, что за этой небольшой победой кроется не только будущее благополучие всей семьи, но и ее распад. А еще – начало медленного, почти незаметного отчуждения от них их подрастающей дочери – её постепенного отказа от их образа жизни и ценностей, который однажды окончательно разделит их.
Итак, именно тогда, когда отец, казалось бы, достиг стабильности и успеха, у мамы появились новые опасения – она осознала, что со вторым мужем ей стоит быть настороже. Он и до новой должности директора ресторана время от времени отлучался из дома, чтобы «посидеть с друзьями». Теперь же, по её мнению, вероятность измены, рискующей привести к разводу, возрастала в геометрической прогрессии.
Ранним утром, пока муж спал, она со знанием дела, как заправская сыщица, копалась в его вещах, и иногда ей удавалось найти улики присутствия в непосредственной близости с мужем другой женщины: одежда, слегка пропитанная сладкими духами, едва заметные следы губной помады на воротничке или чужой волос на пиджаке. Мама сразу представляла себе худшее, что только может придумать женщина, охваченная ревностью. Она начинала метаться по квартире и не находила себе места, пока не удавалось поругаться с отцом. Но для этого нужен был повод.
Предполагаю, что одним из таких поводов мог стать поход в ресторан без предупреждения – в надежде застать мужа врасплох. Мама сама рассказывала мне об этом эпизоде, который, с ее слов, не был единичным случаем – она «проверяла» отца несколько раз. Я не знаю, как все было на самом деле, но в моей голове эта сцена складывается так.
В тот вечер мама, наверное, долго собиралась: придирчиво выбирала платье, неторопливо накручивала бигуди, тщательно выводила подводкой тонкую чёрную линию на веках, словно шла на войну, а не на работу к собственному мужу. Она хотела выглядеть безупречно – так, чтобы любая другая женщина рядом с ней казалась жалкой и неуместной. И всё же, переступая порог ресторана, она наверняка чувствовала укол страха, прячущийся за маской уверенности: вдруг действительно увидит то, что так боялась увидеть?
Отец встретил ее с улыбкой, несмотря на бушующее внутри негодование: она ему не доверяла и мешала работать. А отношения выяснял уже после:
– Да пойми ты наконец, – заговорил он раздражённо, едва они сели в такси, – моё положение просто не позволяет заниматься такими вещами! Как я потом буду выглядеть в глазах своего персонала? Да и вообще, у меня нет на это ни времени, ни желания! Мне нужна только ты…
Он попытался успокоить её, положив руку на бедро, но мама отвернулась к окну и резко скинула её.
– А эти твои, как ты говоришь, «улики, которые все налицо», – продолжал он, – всего лишь издержки профессии. Когда жена начальника исполкома или санэпидемстанции вваливается пьяной в наш с бухгалтером кабинет, дверь которого, кстати, всегда остаётся открытой, – он многозначительно поднял палец вверх, – чтобы потом не было лишних сплетен… и она уже не контролирует себя, что я должен, по-твоему, делать? Вышвырнуть её из кабинета? Нахамить? Попросить мужа, чтобы он приструнил свою сучку? – Он развёл руками с досадой. – Конечно, приходится осторожно подыгрывать. Не могу же я сидеть истуканом с каменным лицом… Ты понимаешь это?! – спросил он с надеждой в голосе.
Но мама понимать не хотела. Ей было слишком трудно смириться с тем, что её, Аннушки, нет рядом с мужем там, где шумное веселье, халява и яркая, красивая жизнь.
– Это моя заслуга, что ты оказался там, где оказался, – холодно сказала она, вылавливая бигуди из миски с кипятком. Подув на обожжённые пальцы, она быстро накрутила бигуди на волосы, уже пропитанные пергидролем. Голова, усеянная бирюзовыми батончиками, была обмотана махровым шарфом, превратившись в элегантную чалму. С достоинством развернувшись, она удалилась, давая понять: разговор окончен.
Но однажды мама не ушла в спальню, как обычно, а осталась в гостиной. Она стояла, скрестив руки, с лицом напряжённым и бледным. Было в её позе что-то странное – словно она боролась с собой, не зная, говорить или нет. Отец сидел в кресле, уставившись в телевизор. Казалось, он старательно прятался в этом мерцающем экране, словно надеялся, что изображение сможет отгородить его от напряжённого взгляда жены. Но её молчание, её неподвижность – всё в ней кричало. Что-то должно было случиться. Она не просто злилась – внутри неё будто что-то копилось, поднималось, как набегающая волна. В воздухе повисло ощущение тревожного предчувствия, и даже я, ребёнок, чувствовала, как меня охватывает странное волнение, хотя я ещё не знала, почему. Папа делал вид, что не замечает её взгляда. Молчание между ними было густым, почти вязким.
– …Я видела, как эта стерва положила руку тебе на колено! И шарила ею выше… – вдруг выпалила она, голос её дрогнул, но тут же стал резким, как удар плётки.
– Всё это чушь собачья! И оправдываться я больше не собираюсь. Думай, что хочешь. Мне все равно. – Отец включил телевизор громче.
Мама подскочила, оттолкнула его руку от панели и демонстративно нажала на кнопку – экран вспыхнул и замер. Комната погрузилась в тишину.
Волосы ее были растрёпаны, лицо искажено злобой. Я впервые увидела в ней такую ярость. И отец, кажется, тоже.
– А, так тебе всё равно?.. – в её голосе звенела угроза. – Ты, кобель, даже не представляешь, до чего я дошла из-за тебя!
Она замолчала, словно испугавшись собственных слов. Сделала шаг назад, опустила руки. Лицо её дрожало. Несколько мгновений она смотрела в пустоту – как будто не могла решиться. Затем медленно подняла глаза на отца.
– В ноябре семьдесят второго… – Она запнулась, голос стал хриплым.
– Было два часа ночи, а тебя всё не было… – Она махнула рукой. В глазах блестели слёзы. – Я стояла у её кроватки. Ты уже довёл меня до безумия. А я…
Она выдохнула, и этот выдох был похож на стон.
– Я ведь могла…
В комнате повисла напряжённая тишина. Отец повернулся к ней, нахмурился.
– Что ты несёшь?! – спросил он, и в его голосе сквозила настороженность, будто он почуял нечто опасное, но ещё не мог понять, что именно.
– Забудь, – прошептала мама, и её голос был настолько тихим, что казалось, она говорит не с ним, а с кем-то внутри себя. – Всё равно ты не поймёшь.
Я тогда тоже ничего не поняла. Но запомнила, как папа смотрел на неё – не с ненавистью, нет. Скорее с испугом. Или недоумением. Будто впервые увидел в ней что-то… чужое. Что-то, что всегда было в ней, но скрывалось за привычной маской.
Запомнила, как она прошла мимо меня, словно не заметила. А потом – как ночью заглянула в мою комнату. Я уже почти спала. Она подошла, поправила одеяло, чуть коснулась моего лба. До этого я не помню, чтобы она когда-нибудь делала это. Прикоснуться с нежностью, сказать «я тебя люблю» – это было не в её духе. «Я не умею выражать своих чувств, ни говорить о них, но это не значит, что я вас не люблю», – иногда оправдывалась она.
Наверное, поэтому это ее прикосновение в тот странный вечер я помню до сих пор. Тогда я не знала, что оно значило. А теперь… – боюсь, что знаю.
И, оглядываясь назад, понимаю: все, о чем я пишу, это не просто детские воспоминания. Это – осколки, которые я собираю, как мозаику, пытаясь понять, что же на самом деле происходило тогда. Взрослая женщина, коей я являюсь, пытается пересобрать заново своё прошлое, словно пазл. И вот, спустя десятилетия, эти кусочки вдруг находятся – и картина меняется. Навсегда. Безвозвратно. Как будто кто-то перевернул страницу, и я увидела то, что было скрыто за текстом.
Иногда мне снится мишка. Мой старый плюшевый мишка с оторванным ухом, когда-то – самый любимый. Он лежит на полу, лицом в лужице чего-то красного. И впитывает это в себя. Как губка. Словно пьет.
Я просыпаюсь с бьющимся сердцем и не могу понять: это было на самом деле – или я сама когда-то разрешила себе поверить, что это всего лишь сон?..
Глава 4. Ростки будущей веры
Интересно, как во мне все устроено: всякий раз, когда мне начинает казаться, что я наконец-то всё поняла – о себе, о других, о мире, о близких, о родителях, – появляется новый осколок. Маленький, забытый, почти случайный. Иногда – воспоминание. Иногда – знание. Что-то едва уловимое, почти невидимое. И тогда внутри меня что-то сдвигается, мутирует, переворачивается. Отношение. Чувство. Мнение. Иллюзия. Состояние. Ощущение.
Так происходит и сейчас, во время работы над этой историей. Я собираю себя по кусочкам, как разбитое стекло. И вот – попадается один из них, на который падает особый свет. Он отражает не боль и не страх, а что-то другое. Тихое. Тёплое. Почти забытое. Например, папину руку у меня на плече. Или гномов, живущих под кроватью. И моё видение прошлого – хрупкое, зыбкое – вдруг начинает меняться: расплываются границы, проявляются новые смыслы, как на фотобумаге в проявителе. Что-то забытое становится важным, а неважное – наоборот, исчезает.
Именно в такие моменты я чувствую: я снова стою у истоков понимания. Себя. Мира. Тех, кого любила. И кого не смогла полюбить. Как будто всё только начинается.
Я перебираю свои вещи – пластмассовые коробки из прошлого века. Они не пахнут пылью, внутри нет пожелтевших от времени бумаг. Здесь, среди десятка альбомов разных размеров и толщины, среди нескольких пачек фотографий в целофанных пакетах, ждущих своей очереди для упорядочивания, я ищу ту, с помощью которой надеюсь продолжить застопорившийся рассказ. Уже несколько недель я не могу продвинуться ни на шаг – не знаю, о чём писать дальше, куда двигаться. Кажется, повествование рассыпается, как нить, которую слишком резко потянули и оборвали.
Вот она, фотография. Чёрно-белая, матовая, немного покоробленная по краям, как будто время медленно обгрызало её уголки. На ней – я, маленькая, сижу на санках с деревянными полозьями, в пушистой шубке, шапке с бубоном и аккуратно завязанным шарфом. Рядом – папа, в норковой меховой шапке и блестящей цигейковой дублёнке до колен – впоследствии неразлучимой от его образа, которая была куплена перед отъездом из Владивостока в Королево. На толкучке или в комиссионке. Одна рука у него в кармане, другая – лежит на моём плече. Тёплая, уверенная, как якорь.
Он смотрит в объектив прямо. Сдержанно, серьёзно. С чуть вздёрнутым подбородком. В этом взгляде – нечто устойчивое, почти неколебимое, как будто он удерживает не только моё плечо, но и саму ткань нашего бытия. И ещё – еле заметная, сдержанная гордость. Такая, что проступает только при внимательном рассмотрении. Я хорошо её помню. Этот взгляд был у папы всегда – каждый день, с утра до вечера. Он не менялся в зависимости от настроения. Он был скорее чертой характера, чем выражением чувств. В нём – внутренняя стойкость и привычка быть опорой, не терять равновесия. А еще гордость за семью – красавица-жена и умница-дочка, и за себя – работник общепита, уважаемый человек.
А вот теплоту – ту самую, которую он щедро дарил в разговоре, в движениях, в интонации, – фотография передать не может. Её снимок не уловил. На нём – только внешняя оболочка, сдержанная и строгая. А не тот свет, почти незаметный, но живой, который вспыхивал в папе, когда он улыбался или внимательно, по-настоящему, слушал собеседника. И от этого немного обидно – как будто часть его осталась за кадром, и мне не удаётся вернуть её полностью.
В этой дублёнке он встречал наш первый Новый год на Западной Украине. Единственный Новый год, когда не было ёлки, украшенной советскими игрушками. Они тогда плелись где-то в железнодорожных контейнерах, затерянных в бескрайней казахстанской степи. Зато был запах мандаринов, и мороз, который щипал щеки, едва мы выходили на улицу. Это было Королево – единственное место во всём Союзе, где родителям удалось обменять нашу просторную трёхкомнатную квартиру во Владивостоке на что-то хоть отдалённо равнозначное. Как именно это им удалось, я не знаю. Но знаю – почему. Мама больше не могла выносить папино окружение: его кавказских друзей, их шутки, их тосты, их бесконечные посиделки. И, как она подозревала, его любовниц. Она хотела, во что бы то ни стало, вырвать его оттуда – от них, от города, от воспоминаний, и, думаю, от себя прежней.
Наша пятиэтажка стояла на окраине Хуста, у подножия пологой горы, которую омывала река Тиса. На крутом склоне, поросшем кустарником, виднелись развалины старинного замка-крепости – темный, полуразрушенный силуэт, навсегда врезавшийся в моё воображение. Мне тогда казалось, что именно там, среди каменных обломков и засохшей травы, прячутся ведьмы, привидения и, конечно же, гномы.
О них шла местная легенда: будто бы и по сей день в подземельях крепости обитают карлики, охраняющие сокровища земли. В моём воображении они были крошечными, с колючими бородами, в зелёных кафтанах, в остроконечных колпаках и сапогах, расшитых блестящими камешками. Существами, способными наградить послушных детей, и наказать непослушных – строго, но справедливо. Первым они дарили силу земли – защиту от всего дурного. Согласно легенде, делали это выборочно и незаметно, так, что ребенок даже не догадывался о происходящем. Нужно было очень постараться, чтобы привлечь их внимание и заслужить их милость. Но я почему-то была уверена, что могу их понять. Или, по крайней мере, услышать.
Эти гномы мерещелись мне повсюду – под кроватью, на балконе, во дворе. Шорох за кустом, колыхание ветки, норка в земле или едва заметный бугорок становились поводом для трепетного, почти радостного страха. Постепенно я не то чтобы привыкла к их «присутствию», но научилась с ним сосуществовать. Я мысленно разговаривала с ними, будто вела внутреннюю переписку, и была уверена, что они меня слышат. И даже отвечают – просто по-своему.
Иногда я просила их о чём-то – всерьёз, с отчаянной детской верой, – и потом выискивала в окружающем мире знаки: случайную находку на улице, неожиданную радость, подарок, о котором мечтала, внезапный порыв ветра. Любое совпадение я принимала за знак, за весть от них. И благодарила. Искренне, со всей полнотой детского восторга.
Думаю, именно так, и тогда, я впервые соприкоснулась с мистикой – в её самой простой, почти наивной форме. Сама того не зная, училась слышать тишину, искать смысл в случайностях, верить в существование чего-то большого, невидимого, но заботливого. Такие вещи, однажды войдя в твою жизнь, остаются с тобой навсегда, становятся частью внутреннего мира, дарят веру в то, что позже я назову Богом. Но тогда, в детстве, это были просто гномы.
Глава 5. Куклы
Легенду о гномах рассказала мне Руслана, моя соседка и первая настоящая подруга. Мы сдружились вскоре после одной новогодней истории – той самой, что папа с годами рассказывал всё охотнее, хотя я тогда ещё не понимала, что именно ему в ней так нравилось.
«…Ну и думаю: вот ведь, Новый год, курица в духовке, семья в ожидании чуда, а я – без майонеза. Вернулся из магазина с пустыми руками. А оливье без него – ну, вы же понимаете, это просто какой-то нарезанный…, короче, позор. Надо спасать ситуацию. Пошёл стучаться по соседям. А там, значит, дверь открывает девочка-снежинка, а за ней неожиданно выплывает из темноты глыба, и, щелкнув выключателем, такая: “Доця, який гарний хлопець прийшов подивитися на тебе?..” Голос – как гром. Я от неожиданности аж отступил, чуть на ступеньку не сел…»
Когда он доходил до этого места, мы с мамой уже катались со смеху.
Руслана была весёлой, смышлёной девочкой – с пшеничными волосами, голубыми глазами и курносым носом. Хотя она была старше меня на четыре года, мы почти сразу стали неразлучны. Она знала десятки игр, а когда те надоедали – без труда выдумывала новые. Мы шили куклам наряды, лепили из пластилина, вырезали снежинки, играли в дочки-матери. Но чаще всего – в «школу»: она была строгой учительницей, я – старательной ученицей. Я подыгрывала с азартом, и в какой-то мере действительно многому у неё училась. А придя домой пересказывала всё моим игрушкам – куклам, мишке и заводной обезьянке.
Елена, незамужняя, шумная, с внезапными вспышками нежности, боготворила Руслану. Называла её «плодом настоящей страсти» и исполняла каждую прихоть дочери. Когда кто-то пытался её урезонить – мол, ребёнка нельзя так баловать, – она оскаливалась, демонстрируя крупные зубы, и огрызалась:
– Не ваше свинячье дело. Моё дитятко – что хочу, то и делаю.
После той реплики отец зауважал её ещё больше. Мама тоже прониклась симпатией к соседке – она не видела в Елене соперницы, зная, что папе всегда нравились блондинки, а не шатенки. А Руслану мама полюбила сразу. Не уставала ею восхищаться. Я, конечно, ревновала, но мама, казалось, не замечала моей боли. Или делала вид, что не замечает. Иногда мне казалось, что она делает это нарочно – чтобы исподволь разрушить мою дружбу с Русланой. Не специально, а просто потому, что не умела останавливаться, когда начинала кого-то хвалить. Но тогда я ещё слишком любила Руслану, чтобы обида затмила всё остальное.
Хотя… однажды маме всё-таки удалось вбить клин между нами. Я поняла это не сразу, но в тот момент – по-детски, искренне – я возненавидела свою подругу.
Это случилось весной, незадолго до Пасхи. У Русланы был день рождения – ей исполнялось десять. Мы с мамой сидели в гостиной, рядом на диване. Она листала журнал, кажется, моды, а я раскрашивала карандашами книжку-раскраску. Мы решали, что подарить.
– А давай купим ей портфель, – предложила я. – Руслана говорила, что в четвёртом классе будет больше тетрадей и учебников, а в старый всё не влезет.
– Можно и портфель, – кивнула мама. И вдруг, будто между прочим, спросила:
– Она ведь тебе самая любимая подружка, да?
Я радостно закивала.
– Тогда нужно подарить что-то, что дорого тебе самой. Если вещь тебе самой не нужна – нечего и идти на день рождения.
Я задумалась. Попыталась припомнить, что же мне действительно дорого. В голове всплывали книжки, игрушки, фломастеры, цветные карандаши. Даже мои лаковые туфельки – красные, с пряжками. Но потом я подумала: а как она их наденет, если у неё нога больше моей?..
– Мамочка… может, я подарю ей мою разукрашку?
Мама покачала головой:
– Старое не дарят. Это неприлично.
От этих слов мне стало тоскливо. Я не понимала, как можно подарить кому-то что-то по-настоящему дорогое и при этом – новое. Чтобы не было «БУ», как говорили взрослые. Я попробовала объяснить это, как могла, вслух. Мама не ответила. Только прищурилась и улыбнулась. Той самой своей улыбкой, от которой у меня всегда сжималось внутри, потому что я уже знала: ничего хорошего она, эта улыбка, не предвещает.
Я смотрела на неё с тревогой. И ждала.
Мама отвела взгляд и уставилась на двух кукол, стоящих в коробках на верхней полке мебельной стенки. Больших, необыкновенно красивых. Когда у неё было хорошее настроение, она иногда позволяла мне взять их в руки – просто полюбоваться, но ни в коем случае не играть! – я замирала с ними перед зеркалом, едва дыша, зачарованная их великолепием. Их недосягаемым совершенством.
Одну мы назвали Беляночкой. У неё было лазурное платье с белоснежными кружевами, золотистые кудри, голубые глаза с длинными ресницами и курносый носик – ну вылитая Руслана.
Вторая – Смугляночка. Миниатюрная цыганка в пёстром платье с множеством юбок, с бусами, браслетами и длинными серьгами из блестящих монеток. Она казалась дикой, свободной, и потому особенно притягательной.
Вот на этих двух кукол теперь и смотрела мама. А я смотрела на неё, затаив дыхание. В такие моменты она становилась почти как богиня – недоступная, непредсказуемая. И я заранее боялась её приговора, её настроения, её жеста – потому что от него зависело, будет ли день счастливым или нет.
– Ну что, Алисочка? – сказала она вдруг. – Какая кукла твоя любимая?
Я не сразу поняла ее вопроса. Замерла. Неужели она говорит всерьёз? Неужели… мама хочет подарить Руслане одну из этих кукол? Её, маминых, кукол?..
Мне всегда так хотелось, чтобы она отдала мне хотя бы одну. Отдала навсегда.
– Они и так твои, – говорила она.
– Какие же они мои, если ты не разрешаешь мне с ними играть?..
– Эти куклы не для игр.
– А для чего тогда?..
– Для красоты.
Я едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. В душе жила надежда: может, если Руслане достанется одна кукла, то вторая – моя любимая Смуглянка – останется мне. Ведь мама сама учила меня со всеми делиться, особенно с Павликом. «Справедливость, – говорила она, – превыше всего».
Значит, одна кукла – Руслане. Одна – мне. Всё честно.
Мама ждала. Я решила схитрить. По-детски.
– Ну… они обе мои любимые…
– Нет. Надо выбрать одну.
– Ну, пусть будет Беляночка. Она ведь так похожа на Руслану. И ей она тоже больше нравится.
Мама усмехнулась. Взяла мои ладони в свои – они были тёплые, липковатые от крема и пахли лавандой.
– Не ври, Алиса. Ты любишь Смуглянку, я знаю. – Она встала с дивана и направилась к шифоньеру. – Поэтому подаришь её.
«Поэтому подаришь её».
Приговор.
Даже спустя годы эти слова обжигают. Всего три коротких слова, сказанных с лёгкой усмешкой, – а какая в них сила! Я сжимаю кулаки – и будто снова чувствую на ладонях липкий лавандовый крем. Внутри поднимается детская обида: словно меня опять заставляют отдать самое дорогое – не спрашивая, не считаясь с моим мнением, зная лучше меня, что я люблю, а что – нет. Не «отдай, если хочешь», а «отдай именно потому, что любишь». И в этом – вся мать.
В тот момент во мне что-то оборвалось. Тот хрупкий, почти невидимый мир – тот, что жил где-то внутри, между игрушками, книгами и мамиными запахами, – в тот день он треснул – как будто кто-то без звука, без предупреждения, просто взял и выключил свет.
Я попыталась возразить. Пробормотала, что Смуглянка… она нравилась мне раньше, а теперь – нет. Что теперь мне ближе Беляночка.
Но мама мне не верила. Она смотрела на меня с лёгкой, снисходительной улыбкой – той самой, которую в будущем я начну ненавидеть, потому что она никогда не сулила мне ничего хорошего. Тогда я попросила маму хотя бы вторую куклу оставить мне. Ведь так было бы по-честному. По её же правилам. Но она лишь покачала головой.
Обида подступила – густая, душная. Я почувствовала, как в груди стало тесно, как будто меня сжало изнутри. Пока мама возилась с куклой, я молча выскользнула в свою комнату, заперлась, забралась на кровать и уткнулась в подушку. Плакала тихо, почти неслышно – чтобы она не догадалась. Я знала: нельзя, чтобы она увидела мои слезы. Нельзя, чтобы услышала всхлипывания. Уже тогда я понимала – если она почувствует, что задела меня по-настоящему, она не остановится. Будет искать поводы сделать мне больно. Моё молчание казалось мне единственным, чем я могла себя защитить.
В тот вечер мне хотелось исчезнуть. Раствориться в воздухе. Стать птицей и выпорхнуть из окна. Признаюсь, я ненавидела день рождения Русланы. И не понимала, почему мама любит её больше, чем меня. Ведь это я была её дочкой…
Лёжа на кровати, я мечтала уехать. С папой. Куда-нибудь далеко. Туда, где он купит мне другую куклу, еще красивее. Туда, где никто не отберёт её у меня, потому что там не будет ни мамы, ни Русланы.
От этой мысли стало немного легче, и я заснула.
Разбудил меня голос папы. Он доносился из коридора – громкий, напряжённый:
– Видимо, хорошо ты ей насолила, раз она заперлась и не открывает! Ну что ты за мать?! Я не понимаю…
– А тебе и не понять! – взорвалась мама. – Ты же детдомовец! Что ты знаешь о семье? О детях? У тебя не было никакого примера перед глазами! А у меня был. Знаешь, как мать лупила меня тростинкой по ногам, когда Люська с воплями бежала жаловаться? Я ещё сама сыкухой была, но мать ничего не хотела знать. Не разбиралась. Только ремень. Только наказание. Я по комнате скакала, в штаны писалась. Но зато выросла нормальной. Не эгоисткой.
Папа молчал. Так он всегда молчал, когда было по-настоящему больно. Потом всё же произнёс, уже тише:
– Ну… всё же… Надо бы… как-то по-другому.
– Как именно? – спросила она. Он не ответил.
На следующий день я ходила по квартире угрюмая. Не разговаривала. Всё ещё надеялась, что мама передумает. Или хотя бы подойдёт, обнимет, прижмёт к себе и скажет: «Алисочка, я люблю тебя, а не Руслану». Но она молчала. Делала вид, будто ничего не произошло. Или ей и правда было всё равно?.. Даже сейчас затрудняюсь ответить на этот вопрос. Знаю только одно: в тот день мне ужасно хотелось, чтобы мои мама и кукла принадлежали мне. Только мне.
Папа приехал на обеденный перерыв. Он заглянул ко мне в комнату, и тихо, чтобы не услышала мама, сказал:
– Пойдём, прогуляемся.
Я закивала, едва сдерживая восторг. Он всё понял без слов. Я уже представляла, как мы выйдем, сядем в такси и уедем далеко-далеко. Туда, где нет никого, кто делает больно. А мама пойдёт на день рождения одна.
– Папочка, я так сильно тебя люблю, – сказала я, когда мы вышли из подъезда.
– И я тебя, доченька. Очень.
Мы шли молча. Его рука в моей – тёплая, крепкая, знакомая. Я чувствовала: он не врёт. Он любит меня – не как мама, не скрыто и прерывисто, не в полголоса, не наугад. А по-настоящему. Открыто. Спокойно. Глубоко. Безоговорочно. Мне казалось, что он – часть меня, а я – часть его. Всё остальное – Руслана, мама, даже эти глупые куклы – будто отступило в тень. В этом свете дня остался только он. Мой папа. Самый лучший. Который рядом. Всегда. Особенно тогда, когда всё плохо. Именно тогда.
Я не хотела ничего говорить. Только идти рядом. Слушать, как он дышит. Чувствовать, как его ладонь слегка сжимает мою. И отмечать про себя ритм его шагов – тяжеловатых, небыстрых, но до боли знакомых. Он был как утро после долгой зимы. Как воробей на тротуаре. Как запах весны.
Иногда мне кажется, что в тот день произошло что-то важное. Как будто на небе две потерянные звезды наконец нашли друг друга. Две души, которые долго ждали, вдруг оказались рядом, и ничто уже не могло их разлучить. И больше ничего не хотелось. Только идти. Только быть рядом.
Мы зашли в кавярню. На тяжёлых столах стояли глиняные кувшины, под лавками лежали полосатые половики. Побелённые стены были увешаны тарелками, а в углах висели рушники.
Папа купил мой любимый пломбир: три рыхлых шарика в алюминиевой вазочке на тонкой пластмассовой ножке, с двойной порцией шоколада. Я начала есть, а он заговорил:
– Алиса-джан, ты маму слушайся, ладно? Не обижайся на неё. Мне сейчас нелегко… Работы всё нет.
В его голосе была тревога, которую он не мог скрыть. Он сказал, что мама тоже переживает. Что она старается ради нас – меня и Павлика. Чтобы у нас всё было.
Я вспомнила про кукол и нахмурилась. Наверное, он заметил это, потому что поспешил добавить:
– Она тебя очень любит. Ты это поймёшь, когда подрастёшь.
Он говорил убеждённо, но выглядел уставшим. Мне стало его жалко. Я не спорила. Надеялась, что он правда знает, о чём говорит. Ведь папа не может ошибаться.
– А почему ты не можешь найти работу?
– Иногда так бывает… Не всегда получается то, что хочешь. Но всё наладится. Я найду ее. А ты можешь мне помочь.
Я удивлённо подняла глаза:
– Помочь? Я? Как?
Он слабо улыбнулся и снова заговорил о маме. О том, что ей трудно. Что характер у неё такой – непростой. Ей нелегко показывать, что она чувствует. Но он уверен: она меня любит. Потому что мать не может не любить своего ребёнка.
Он сказал это спокойно, с лёгкой грустью.
– Я знаю.
Позже я ещё не раз услышу от него эти слова – с разной интонацией, в других обстоятельствах, в чуть изменённой форме. Но тогда, в кафе с рушниками на стенах и шоколадом, стекающим по краям пломбира, я услышала их впервые. По крайне мере, так мне всегда казалось. И в тот момент я решила: если он так говорит – значит, это правда. Он ведь папа. А папы не ошибаются. Мой папа не ошибается.
Годы спустя я пойму: он защищал нас обеих. Её – от моих детских обвинений. Меня – от правды, которая могла бы обжечь.
Папа вздохнул, провёл ладонью по лбу – в кафе было душно.
– Договорились?
Я так и не поняла, как моё хорошее поведение может ему помочь, но очень хотела, чтобы он не грустил. Чтобы у него всё получилось. Я кивнула.
– Если вы с мамой не будете ссориться, – продолжил отец, – я смогу не волноваться и быстрее найти работу. Тогда у нас всё наладится. А у тебя будет любая кукла. Какая захочешь.
Если бы он сказал это дома, я бы, наверное, обрадовалась. Но здесь, за столом в пустом кафе, всё звучало по-другому. Как заклинание. Как попытка спасти нас обоих – от грусти, от одиночества, от чего-то невидимого. И мне вдруг стало очень важно, чтобы это сработало. Поэтому я была готова пообещать всё, что угодно. Что я и сделала.
Мне тогда было семь. Многое забылось. Но одно я помню, и знаю наверняка: как это – быть искренне любимой. Без страха. Без условий. И когда это чувство снова случилось в моей жизни – я узнала его сразу, как узнают родного человека в толпе, спустя годы молчания и забвения. Узнала – и вцепилась в него, как утопающий за соломинку.
Глава 6. Дом на 8 Марта
Я решила записать всё по порядку – чтобы, наконец, понять. Расставить всё по местам. Найти опору. Но стоило только начать – и сразу, будто удар в живот: я внезапно понимаю – в моей памяти нет ни одного воспоминания о маме, которое бы согревало. Которое наполняло бы душу нежностью и любовью – так, как это делают воспоминания об отце. Но как же так? Это кажется невозможным.
О маме есть воспоминания приятные, лёгкие, как вечерний тёплый ветер. Она рассказывает что-то из своего прошлого, с теплотой, даже вдохновлённо. Учит, объясняет, как быть женщиной, как держать себя с мужчинами. Эти её разговоры я не выдумываю – они были.
Есть и другие воспоминания – спокойные, ровные. Как безмятежное море, когда рядом есть кто-то близкий, и ты не испытываешь ни боли, ни радости – просто ощущаешь чьё-то присутствие.
А потом – резкий удар. Внезапный, ниоткуда. Маятник, качавшийся ровно, вдруг срывается – и бьёт в край, как молот. От взрыва ты испытываешь шок. Страх. Растерянность. Не понимаешь, откуда пришла буря, ведь ещё миг назад море казалось безмятежным. Оно вздымается, вода смывает берег с его травой и ракушками. Всё, что было светлым – исчезает. Остаётся пустое место.
Но этот свет – материнский – мне, девочке, жизненно необходим. Без него я не могу. И вот я начинаю искать его, упрямо, как кладоискатель. Разгребаю толстые слои песка – память, образы, намёки. Старательно ищу. С надеждой. Но… не нахожу. И начинаю верить, что со мной что-то не так. Что я… не такая, как все. Неправильная. Как чашка с едва заметной трещиной – вроде целая, но пить из неё никто не решается. Почему у других есть тёплые воспоминания о маме, а у меня – нет? Душа моя плачет. Я никому об этом не говорю. Молчу. Душа ребёнка, она боится. Стыдится. Прячется.
Однажды я всё-таки решаюсь. Признаюсь в своих чувствах тому единственному, кому доверяю полностью. Перед кем не испытываю страха. Перед кем мне не стыдно быть собой. Быть слабой. Глупой. Любой.
Папа слушает, не перебивает. Жует спичку, как обычно. А потом говорит, и эти слова я запоминаю навсегда:
– Доченька, я понимаю, что мама тебя чем-то обидела. Но так бывает. Мы все – люди. Можем сказать или сделать что-то, что ранит. Но мама не может умышленно причинить вред своему ребёнку.
И я верю ему. Да, я ему верю.
И, возможно, продолжаю верить до сих пор. Потому что иначе пришлось бы признать слишком многое. А я не могу. Не хочу. Это было бы слишком больно. Я к этому не готова.
Со временем страх говорить о своих чувствах уходит. Не потому, что преодолён – он просто становится тенью. Запретом. Невидимым, но реальным. О матери нельзя говорить плохо. Даже думать нельзя. Это – табу. Плохих матерей не бывает – бывают только плохие дети. Эгоистичные. Злые. Жестокие. «Неблагодарная дочь». Сколько раз я слышала это от мамы.
Так вот откуда растёт моя ущербность! Вот где её корни. Я – неправильная девочка. Я – женщина без сердца, потому что не могу вспомнить ни одного тёплого воспоминания о маме. Но если не могу ничего припомнить – может, их просто нет? Может там, где должен быть свет, – пустота? Именно это пугает больше всего.
Я могла бы потонуть в этой тишине. В одиночестве. В равнодушии. Но мне повезло. У меня был отец.
А потом он уехал. Вместе с мамой. И тогда всё началось.
Это случилось в Донецке, куда мы вскоре переехали из Западной Украины. Там жили бабушка с дедушкой. Родительский план был прост: оставить нас с Павликом под их присмотром, а самим снова отправиться на Дальний Восток. «Подзаработать деньжат».
Мама произносила эти слова так часто, что, казалось, в ее мире всё крутится вокруг денег. Кто сколько имеет. Как провернуть дело, чтобы заработать (это была ее любимая тема). Куда вложиться. Кому занять под проценты. Кто кому сколько должен. Кто кого «намахал» – это было её любимое словечко, она произносила его с такой отточенной интонацией, как будто с самого детства тренировалась именно к этой роли. Как будто в жизни не было ничего более важного, ценного, существенного. Только деньги, деньги, деньги. Про все остальное в жизни она говорила иначе: мимоходом, без вкуса, без энтузиазма в голосе.
Тогда я не придавала этому значения. Просто запоминала фразы, интонации, слова, которые повторялись чаще других. До сих пор помню блеск в ее глазах, когда она говорила о новой идее бизнеса; ее смех – громкий, грудной, когда удавалось урвать какой-нибудь дефицитный товар; ее пальцы – ловкие и быстрые, как у фокусника – пересчитывали купюры от продажи золотых изделий или красной икры, которая вовсе таковой не являлась: родители просто приклеили соответствующие этикетки на консервные банки с тунцом. И только сейчас понимаю, как много в нашей жизни вращалось вокруг цифр, сделок, риска и выгоды. Я не помню, чтобы мы когда-то жили в нужде. Родители были скорее из тех, кто постоянно карабкается, рвется вперёд, не успевая отдышаться. Мама, стоматолог по образованию, а по сути торговка, охотница, азартная, как игрок в казино, которому однажды повезло. Все, что не сулило обогащения, казалось ей тусклым и недостойным внимания. Ее тянуло туда, где блестит, где азарт, шанс сорвать куш. В доме всё кричало о достатке – пусть и сделанном через риск, через «по блату», через натужный блеск: хрустальные люстры, настоящие ковры, библиотека в три тысячи книг, стенка, привезённая откуда-то из Югославии. Мать хотела иметь то, чего не было у других. Иначе ей казалось, что она не живёт.
Итак, родители уезжают. Как описать ту щемящую тоску? То ощущение заброшенности, которое сжало мне грудь, когда поезд «Донецк–Москва» – с красными гербами и буквами «СССР» на вагонах – тяжело, с грохотом, увозил моих родителей в какую-то далёкую, пугающе неопределённую даль.
Попрощаться толком не удалось. Папа помогал кому-то с багажом – и не успел вернуться на перрон. Стоя в тамбуре, он смотрел на меня с той самой тоской, которую я с тех пор научилась узнавать – в глазах, в движении руки, в том, как он смахивал с лица пот и слёзы. А мама… мама уже устроилась у окна купе. Красивая, как всегда. Как богиня: безмятежная, улыбающаяся. Она махала нам рукой – легко, уверенно. Как будто всё было в порядке, как будто ничего страшного не происходило. Я часто потом возвращалась к этому моменту – к её лицу, к этой позе. Искала в них хоть малейшее сомнение. Хоть тень вины. Хоть что-то. Даже однажды, много лет спустя, спросила её, жалела ли она когда-нибудь об этом отъезде. Что оставила нас – на долгие два года.
– Я никогда не думала об этом, – ответила она. Спокойно. Почти удивлённо.
Итак, родители уехали, а мы с Павликом остались. Мне было почти восемь. Новый город, чужой дом, лица, к которым надо было привыкать. Всё вокруг казалось временным, как будто меня вот-вот заберут обратно – но никто не забирал. Да, рядом был брат. Но мама так часто оставляла его здесь, у бабушки, что мы с ним почти не знали друг друга. Он был мне как сосед, случайно оказавшийся в одной комнате. Уже тогда чувствовалось, что между нами нет никакой связи. Мы были чужими друг другу.
Ребенком меня пугало это отчуждение. Я не понимала его, не могла объяснить. Думала, что, как всегда, виновата я. Что, может быть, делаю что-то не так, говорю не то.
А потом, уже взрослой, я как-то разговорилась с Русланой. И она вдруг, совсем между прочим, рассказала об одном случае – таком, который многое, если не сказать всё, объяснял.
Облегчение – это первое, что я почувствовала: оказывается, я не просто так ощущала эту холодную дистанцию. Мое ощущение возникло не на пустом месте. Но сразу за облегчением пришло чувство, похожее на ужас. Потому что, если всё действительно было так, как рассказала Руслана… тогда всё это имело совсем другую глубину. И совсем другую тьму. Но об этом – позже.
Оказалось, в Донецке и его окрестностях жила почти вся родня. Дедушка с бабушкой обосновались на длинной и пыльной улице 8-го Марта. Мой дед был мясником и сколотил хорошее для того времени состояние. Он разводил кроликов, птицу и свиней, которых сам забивал и резал. (Их страдальческий визг, разносившийся по всей улице, до сих пор стоит у меня в ушах! Наверное, именно тогда я впервые задумалась о смерти, преисполненная жалостью к предсмертным мукам другого живого существа). На рынок старики не ходили – всё необходимое росло в огороде. На столе всегда стояла бутылка водки или армянского коньяка, а в тарелках лежал кусок мяса или рыбы.
На другом конце улицы 8-го Марта находился дом бабушкиной младшей сестры. Она жила там с дочерью, зятем и внуками. А где-то на окраине города жила моя тётка, Люси, как называла её мама. Ее родная сестра. Аптекарша. С мужем и детьми.
Меня сильно поразило знакомство с её сыном – моим двоюродным братом, которого назвали в честь деда. Николай. Дед, кажется, не был в восторге от этого. Помню, как он, играя с соседями в дурака, говорил, хмурясь и щуря один глаз над дымящейся сигаретой: – Надо же было додуматься – назвать дурака моим именем! Вот уж оказали честь, ничего не скажешь. Неужто намёк?
Меня его слова забавляли, потому что невозможно было понять, говорит он в шутку или всерьёз.
До знакомства с Колей я слышала о нём только от взрослых. «У Колюши опять сердце прихватило», «Ребёнка положили в больницу», «Дурак снова головой об стену бился». Бабушка однажды объяснила мне, что Коля – такой же мой брат, как и Павлик, только… немного странный. Я спросила: «Как это – странный?» Она замялась, протянула: «Ну-у-у…». И добавила:
– Он психически неуравновешенный. Нервный. Поэтому, Алисочка, его нужно жалеть, ни в чём не перечить, чтобы не нервировать. Делиться с ним всем, что у тебя есть. И вообще – быть с ним доброй. Ласковой. Терпимой.
Мне показалось, что она чего-то недоговаривает. Я решила спросить у мамы.
– Мама, а что значит «психически неуравновешенный»?
– Это значит – больной на голову, – отрезала она без лишних объяснений.
Я тут же представила кузена со страшной дыркой в черепе. С бинтом на голове. По спине пробежали мурашки.
– Понимаешь? – переспросила мама.
Нет, я не понимала. Не понимала до тех пор, пока не начала с ним общаться. Никогда раньше я не встречала такого «странного» человека. Мне было трудно оставаться доброй и терпимой, как того просила бабушка. Если меня и ругали взрослые, то всегда только из-за Коли – других поводов я им не давала. Непривыкшая к строгому обращению и недовольная тем, что всё внимание достаётся кузену, я вынуждена была покинуть пьедестал, на который меня вознёс папа. И, признаться, этот спуск оказался болезненным.
Мне было обидно, например, что моя любимая куриная ножка всегда, без исключения, доставалась Колюше. И не одна, а обе. Ощущение несправедливости преследовало меня и тогда, когда на обед подавалась яичница – как назло, у нас с Коляшей совпадали вкусы. «Дурак», как называл его дедушка, быстро глотал свою порцию, облизывал слюнявые губы-вареники, а после тыкал пальцем с обгрызаными до крови ногтями в мою тарелку. Тогда взрослые, торопливо и как будто с тревогой в голосе, просили меня отдать ему желток: «Чтобы Колюша не злился – ему нельзя расстраиваться». Если я упиралась, утверждая, что тоже люблю желток, просьбы сменялись приказами. Иногда – с угрозой в голосе.
И тогда мне приходилось есть сухую куриную грудку, или давиться белком, от которого меня подташнивало. Иногда я демонстративно отодвигала тарелку, надувала губы и опиралась локтями о стол, подперев лицо руками. Этот трюк срабатывал на родителей. Но не здесь, на 8-е Марта. Удивительно, но никто не порхал вокруг меня, не старался утешить. Только когда тётушкина семья уходила, бабушка выкладывала на стол что-то вкусненькое.
Нюся была добрая женщина с мягким характером. Она никогда не повышала голос, терпеливо сносила проказы внуков, но при этом на голову сесть не позволяла. Она относилась к тем взрослым, которые могут усмирить самого буйного и капризного ребенка одним только взглядом – если, конечно, ребёнок был адекватным, как мы с Павликом. С Колей не справлялась даже бабушка.
От неё исходил свет – густой, щедрый, как тёплый пар в мороз. В нём хотелось быть. Купаться в его лучах.
Вскоре после отъезда родителей я пошла в первый класс. Осень семьдесят девятого года выдалась пронзительно холодной и ветреной. По вечерам, лёжа на раскладном диване в гостиной, я с тревогой прислушивалась к завываниям ветра. Стёкла дрожали и позвякивали. Казалось, дом вот-вот сложится, как карточный, и рухнет прямо на меня.
Комната в темноте казалась огромной. Потолок уходил куда-то ввысь, стены дышали холодом. Тени от мебели вытягивались, скользили по углам, как будто кто-то тихо ходил по комнате, не касаясь пола. Съёжившись под одеялом, я мечтала о приходе моего рыцаря. Чтобы он пришел и спас меня, как когда-то спасал в ресторане от волков. Но я уже начинала понимать: чуда не будет. Папа далеко. Он в море. На большом корабле. Мне даже в голову не приходило, что кто-то другой мог бы меня защитить. Дедушка, например. Или четырнадцатилетний Павлик. Нет. Только папа. Только он. Как всегда.
Я натягивала одеяло на голову, как первобытный человек, прячущийся от злых духов, и лежала, затаив дыхание. Прислушивалась к завыванию ветра, к биениям собственного сердца. Плакала – тихо, чтобы не услышали бабушка с дедушкой. Плакала и шептала. Просила Бога о помощи. Именно тогда – в этом доме, в эту осень – я впервые научилась просить у него защиты.
О существовании Господа мне доверительно поведала бабушка. Это случилось однажды, когда я, разглядывая трюмо, указала пальцем на иконку, стоявшую у зеркала. Золотистая рамка с позолоченными лепестками обрамляла лицо милой женщины с пухлым младенцем на руках. «Что это?»
Нюся, простыми словами, доступными первокласснику, стала рассказывать о Боге, Пресвятой Деве и их сыне – Иисусе. Её голос звучал вдохновенно, лицо светилось. И я – маленькая – невольно прониклась доверием к изображению на иконе, поверила в некую силу, которая могла бы меня защитить. Пока папы нет рядом.
Едва выучив наизусть «Отче наш», я начала молиться. Тайком, чтобы никто не видел, становилась перед иконкой на колени и шептала:
– Боженька, сделай так, чтобы мама с папой поскорее вернулись. Я буду делать всё, что ты скажешь. Буду слушаться бабушку с дедушкой. Буду приносить только пятёрки. Буду всем делиться с Колюшей. Не буду на него злиться. Только, пожалуйста… Пусть они вернутся. Ты же всемогущий. Так говорит бабушка. Ты всё можешь. Мне так плохо без них. И я… я очень скучаю за папой…
Излив перед иконой всё – боль, тоску, страх – я, как учила бабушка, накладывала крест справа налево и кланялась Богоматери с младенцем, касаясь лбом пола. И – удивительно – но часто после молитвы я ощущала, очень явно: кто-то был рядом. Не знаю, откуда, но я была уверена – это ангел. Иногда он сидел на моём плече. Иногда – порхал над головой, взмахивая своими белоснежными крылышками. Иногда исчезал, но я чувствовала: он где-то близко. И вернётся, если вдруг мне станет совсем страшно. Совсем одиноко.
С ним было легче. Но заменить мне родителей он не мог. Поэтому я продолжала молиться.
Когда уроки были сделаны, а с делами по дому покончено, можно было выйти на улицу. Я сразу выбегала к моим новым друзьям, которые, я знала, поджидали меня. Мы играли в казаков-разбойников, гоняли мяч между деревьями и гаражами, носились без устали, пока кто-нибудь не разбивал себе коленку. Воздух звенел от смеха и глухих ударов мяча о стены.
С наступлением темноты улица пустела. Хлопали калитки, гасли окна. В бабушкином доме всегда стоял особенный запах – тёплый, чуть кисловатый, словно воздух там постоянно бродил вместе с тестом и брагой. Только позже я поняла: это пахли дрожжи. Я садилась за кухонный стол – низкий, с красной клеёнкой, местами вздувшейся от времени. Пила чай с пирожком. Читала дедушке небольшую статью из газеты. Помогала бабушке стряпать. Относила Дружку похлебку, приготовленную дедом.
С приходом морозов всё вокруг притихло. Соседей стало не слышно. Только изредка раздавался лай собак. Мне нравилось раскладывать перед собой букварь, ручку и тетрадь в линейку – и под ровный треск угля в печи учить уроки.
Часто за окном шёл снег – густой, белый, блестящий. Как в сказке. Я придумала себе игру: выхватывала глазами самую крупную снежинку за окном и следила, как она кружится, переворачивается в воздухе, пока не коснётся земли. Это меня успокаивало. Словно я сама становилась частью этого танца – частью чего-то большого, вечного.
По воскресеньям я писала письма родителям. Писала всегда одно и то же: сколько звёздочек получила – больше ничего не приходило в голову. В первом классе вместо оценок давали красные бумажные звёзды, вырезанные пожилой учительницей. Когда она медленно шла между рядами парт, я замирала. Если её пухлая рука вдруг тянулась ко мне, сердце подскакивало. Я брала звёздочку осторожно, как будто она была из стекла. Прятала в середину дневника, стараясь не помять лучики. И всё оставшееся до конца урока время представляла, как покажу её бабушке и дедушке. Чтобы они увидели, что я стараюсь. Улыбнулись. Похвалили.
Взрослые не могли нарадоваться моим успехам, и я изо всех сил старалась их не разочаровать.
– Алисочка, – повторяла бабушка, – ты должна хорошо учиться, если хочешь, чтобы мама с папой скорее вернулись.
Да, необразованная Нюся прекрасно знала, какую выгоду можно извлечь из, пожалуй, самого сильного детского страха – страха быть брошенным.
Так постепенно учёба стала моим стилем жизни. В ней я находила не только утешение, но и подлинную радость. Если урок был сложным, я кропела над ним до последнего. То же касалось и домашних заданий. Я как будто научилась раздваиваться: то становилась строгой учительницей, задающей каверзные вопросы, то – прилежной ученицей, честно на них отвечающей. И не вставала из-за стола, пока внутренний звоночек не извещал, что урок усвоен. Усвоен до конца. На отлично.
Глава 7. Стыд
Видимо, за год, проведённый на улице 8 Марта, я настолько привыкла к похвалам и восхищённым взглядам, что когда однажды взрослые – бабушка с дедушкой, тётя с дядей и срочно вызванные с Дальнего Востока родители – потребовали от меня объяснений за какие-то «постыдные» поступки, я не просто растерялась. Я дрожала, как загнанная в угол мышь, готовая провалиться сквозь землю от стыда.
Это было субботнее утро, конец февраля 1981 года. Тогда я впервые в жизни узнала, как выглядит настоящий взрослый гнев – когда он обрушивается на тебя, словно лавина, и тебе некуда бежать. Негде спрятаться. И впервые поняла, что могу быть для своих родных не любимой, не умницей, а… плохой.
Они сидели в гостиной полукругом, замкнув меня в центре. В той самой гостиной, что была мне спальней. Там, где я пряталась под одеялом от теней, скользящих по стенам, и шептала что-то богу, как будто он был рядом. Я уже не слышала слов – только чувствовала на себе их взгляды: твёрдые, колючие, без пощады. Смотрела на их лица – злобные, чужие – и не узнавала их. Куда делись те, кто ещё вчера улыбался мне? Моя душа оцепенела. Сердце трепыхалось в груди, как пойманная птица. А нутро то сжималось в узел, то выворачивалось наружу – от страха, от бессилия, от позора. Липкого, жгучего, слишком большого и тяжёлого для плеч восьмилетнего ребёнка.
Это событие стало – и остаётся до сих пор – одним из самых болезненных воспоминаний детства. Оно приросло ко мне: тяжёлое, неотвязное, как страх, который невозможно выдохнуть до конца. Я стояла тогда посреди комнаты, понурив голову, как преступница перед судом, и нехотя, едва слышно, отвечала на вопросы о наших с Колей «недетских» играх.
После отъезда родителей тётя Люся стала всё чаще оставлять Колю у бабушки. Она завидовала своей старшей сестре – завистью тихой, женской, выматывающей. За то, что та красивее, успешнее, что её дочь – «умница», «гордость», которая растёт сама, будто сорная трава, не требуя ни полива, ни прополки. А её сын… Конечно, она любила его. Но всё же – почему именно ей досталась такая доля? Бессонные ночи, врачи, больницы, уколы, истерики. Коля бился головой о стены, сгрызал ногти до крови, орал так, что звенело в ушах, швырял всё, что попадалось под руку. А потом мог часами раскачиваться, стоя на четвереньках, будто пытаясь выбить из себя что-то, чего даже не понимал.
– Анька, – вздыхала бабушка соседке, – упрямая, своенравная, в чём-то даже легкомысленная… А как всё удачно складывается у неё! А бедная Люсенька… – И голос её дрожал.
Так Коленьку стали оставлять у бабушки – сначала на сутки, потом на выходные, а потом и на все каникулы. Тёте Люсе казалось, что после игр со мной он становился спокойнее – несмотря на наши ссоры, которые порой доходили до слёз и воплей. Меньше истерик, меньше ударов головой о стену – будто во мне было что-то, что, хоть на время, возвращало кузена в этот мир. Она даже говорила, что Колюша немного «поумнел».
Бабушке приходилось нелегко. Принцесса и Дурак – так называл нас дедушка. Мы оба требовали к себе внимания. Не умели и не хотели делиться – ни вещами, ни пространством, ни взрослыми. Но бабушка не жаловалась перед младшей дочерью. Оставалась сдержанной. Молчала. Делала всё, чтобы не показать, как сильно устала.
Поначалу я терпеть не могла двоюродного брата. Он визжал, если что-то шло не по его, ябедничал старшим по любому поводу, и его вспышки – бурные, бесконтрольные – меня откровенно пугали. Но со временем наши характеры притёрлись. Я привыкла. И даже находила какое-то удовлетворение в том, что именно я была главной в наших играх, заводилой, инициатором. Мне нравилось быть той, кто задаёт правила – наконец-то кто-то следовал за мной, а не наоборот.
Взрослые, конечно, не могли не заметить моего лидерства, особенно бабушка. И когда однажды она тихо заглянула в комнату и склонилась под кровать, где мы с Колей исследовали разницу в строении наших тел – и не только глазами, но и руками, – вся вина тут же легла на меня. Коля был «Дураком», а значит, с него – как с гуся вода. То, что он старше меня на три года, не имело значения. Он ведь – больной. А я – девочка нормальная. К тому же умная, смышлёная, и должна понимать, что можно, а что нельзя.
Колюша, явно раздражённый бабушкиным внезапным вторжением, нахмурился, поправил сползшие очки и с трудом натянул штаны – пуговицы не поддавались, мешала эрекция. Прямо, без обиняков, он бросил:
– Зачем ты пришла? Мы играли! Тебя никто не звал! Ты всё испортила!
Бабушка застыла. Растерянная, бледная. Я никогда не видела её такой. Мне стало не по себе. Я ещё не понимала всей мерзости происходящего, но кожей ощутила: мы с Колюшей сделали что-то не то.
Очнувшись, бабушка принялась нас осматривать – с какой-то пугающей дотошностью. Охая и шумно вздыхая, она даже понюхала наши руки. Потом, красная от волнения, заперла меня в комнате. А Колю увела с собой и не отпускала от себя ни на шаг – вплоть до приезда дяди Гены на следующий день.
Как только его белая «Жигули» скрылась за поворотом, бабушка накинула платок и, не сказав никому ни слова, отправилась на Главпочтамт. Что именно было в той телеграмме, которую она отправила родителям на судно? Я могу только догадываться:
«Срочно позвоните. Безотлагательно. Очень важно. Мама.»
Когда они вышли на связь, бабушка потребовала, чтобы они немедленно вернулись и, наконец, занялись своими детьми. Даже пятнадцатилетний Павлик, по её мнению, окончательно отбился от рук. (Она была права: через год он уйдет к женщине старше него, а еще через год станет отцом).
Когда мне показалось, что об этой истории знают все – другие родственники, соседи, – жизнь превратилась в пытку. Не столько из-за чьих-то слов (я почти ничего не слышала напрямую), сколько из-за взглядов, от которых хотелось провалиться сквозь землю. Я мечтала забыть, стереть этот эпизод, как неудачный кадр на фотоплёнке. Мечтала, чтобы плёнка порвалась именно там – между «до» и «после».
Но забыть было невозможно. Коля своим существованием постоянно напоминал о случившемся. А ещё он говорил. Иногда вдруг, без всякой причины, как будто ничего особенного не произошло, он начинал вспоминать нашу «забаву» и упрекал бабушку за то, что она «тогда» всё испортила. Говорил громко, откровенно, без малейшего смущения.
(Здесь, из уважения к читателю, я не стану приводить его слова. Колюша не знал, что такое табу, и стыдливость была ему чужда. Его психика, лишённая фильтров, не различала, где кончается дозволенное и начинается непозволительное).
В ужасе слушая Дурака, я краснела, бледнела, опускала глаза. Каждый раз меня парализовал стыд – слишком тяжёлый, слишком взрослый для ребёнка. Я делала вид, будто не расслышала, о чём он говорит. (Уверена, получалось плохо – актриса из меня никакая.) Или будто «ничего такого» не произошло. Искала предлог, чтобы сбежать – в туалет, на улицу, в свою комнату.
Когда мы оставались вдвоём, я шипела на него, а потом, видя, что он заводится, начинала уговаривать. Ласково, как взрослые уговаривают малышей:
– Колюша, пожалуйста… Не говори об этом больше. Никогда. Я тебе куплю «Петушка». Или дам монетки. Те, с Лениным. Помнишь?
Он помнил. Почему-то он особенно любил эти рублевые монеты – гладил, перебирал, сжимал их в кулаке. Но на мои подношения не реагировал. Вернее, быстро забывал о своем обещании. Поэтому его невозможно было подкупить. С тем же успехом я могла бы пытаться остановить грохочущий водопад – ладонями, словами, слезами.
Но хуже всего было не это. Хуже – когда он, засунув монетку с Ильичом в карман, смотрел на меня в упор и, склонив голову набок, заискивающе, почти кротко, спрашивал:
– Давай ещё поиграем? Я никому не скажу. Честно.
В такие моменты перед моим внутренним взором неизменно вставал папа – таким, каким он был в тот злополучный день, когда я стояла посреди зала перед «семейным советом», а Коля, как ни в чём не бывало, сидел у своего отца на коленях. Эта деталь врезалась в память: он – на руках, я – под прицелом. В моё тогдашнее восприятие это добавляло особенно мучительное чувство несправедливости, густое, как сироп. Почему взрослые ругают и стыдят только меня?
Я пыталась вспомнить, кто первым предложил ту дурацкую игру. Кто начал. Но страх уже тогда затянул память мутным туманом. Всё стерлось – кроме одного эпизода. Я помнила только пуговицу. Большая, стеклянная, блестящая, она укатилась под кровать. Я полезла за ней первой. А Коля – за мной. Больше ничего.
Итак, я стояла посреди комнаты и вся горела – от стыда, от обиды. Слёзы текли по щекам и казались горячими не от боли, а от унижения. Папа стоял у двери, прислонившись плечом к косяку, и тоже, кажется, сдерживал слёзы. Я увидела это, когда, наконец, отважилась поднять на него глаза. Глянула и поразилась. Среди всех – бабушка, дедушка, мама, дядя, тётя – только он смотрел иначе. В его взгляде не было ни гнева, ни осуждения. Я ясно увидела, как он страдал – за меня. Вместе со мной.
Среди присутствующих в гостиной был ещё один человек, кто вёл себя иначе. Он сидел в кресле, закинув ногу на ногу – костлявые колени торчали под трикотажной тканью спортивных брюк, как узлы на верёвке. Руки, жилистые и нервные, были скрещены на груди. Он молчал. С интересом посматривал то на Колю, то на меня.
Но в какой-то момент дедушка резко ударил ладонью по столу. Все вздрогнули от неожиданности.
– Так, баста! – гаркнул он.
Он обращался к тётушке, которая всё это время без устали отчитывала меня – говорила одно и то же, по кругу: «Плохая девочка, стыд, безобразие…»
– Сколько можно?! – продолжал дед. – Тошно слушать уже.
Тётя захлопала глазами – влажными, выпуклыми, как у испуганной лягушки.
– Но папа… – забулькала она.
Дед глянул на неё. Холодно и безапелляционно. Она сразу умолкла.
Как же я была благодарна дедушке в ту минуту. Его голос – грубый, как наждачка, – прозвучал как защита. Как спасение. Ведь тётя была горячей сторонницей самого сурового наказания для меня. Я уже не помню, чего именно она добивалась, но это не важно. Важно то, с каким остервенением она читала мне мораль, с каким наслаждением произносила обвинения – будто вся её обида на жизнь нашла наконец выход. И всё это несмотря на то, что соучастником «преступления» был и её собственный сын. Пусть и дурковатый, но сын.
– Начнём с того, – раздражённо продолжил дед, – что нечего было оставлять здесь Дурака на все каникулы! У него что, своего дома нет, что ли?
Он на мгновение замолчал, будто давая всем время переварить сказанное, и делал вид, что не замечает, как напряглись бабушка и тетя Люся. Потом повернулся к обеим дочерям, сидевшим рядом на диване, и добавил:
– А вы, мандавошки, не стройте из себя невинных девиц. Устроили тут судный день, а у самих рыльце в пушку! Видимо, они, – кивнул он на меня и на Колю, – от кого-то и насмотрелись.
И язвительно добавил:
– Мы с бабкой, если что, уже давно не кувыркаемся.
Я взглянула исподлобья на маму, бабушку и тётю – и увидела, как они покраснели. Слова деда больше всего, видимо, оскорбили бабушку: она фыркнула, вскочила и выбежала, шумно шаркая тапками и что-то недовольно бормоча себе под нос.
«Судный день» не состоялся: одна из судей удалилась, громко хлопнув дверью, остальные растерялись, сбитые с толку доводами «защиты». Папа, уловив паузу, подхватил меня на руки, прижал к себе и быстро вышел из комнаты – вслед за Нюсей.
Я уткнулась лицом в его плечо – тёплое, надёжное, пахнущее чем-то родным, знакомым до мурашек. С каждым шагом, что он делал, внутри меня постепенно отступало напряжение. Пружина, сжатая страхом, ослабевала. Дрожь уходила. Всё, что только что казалось кошмаром, рассыпалось – как гул за захлопнутой дверью.
Не знаю, был ли это побег. Или спасение. Но именно тогда я почувствовала, что возвращается потерянное чувство защищённости. Что кто-то снова держит меня – крепко, как в раннем детстве. Папа ещё раз доказал: его любовь – не сделка, не ожидание, а постоянный огонь, который не гаснет даже при буре.
Он снова стал для меня тем, кем был всегда – прибежищем, тихой гаванью. Тем, кто не предает. Чьё присутствие не зависит от ветра чужих мнений и настроений. Если бы и вправду шла борьба за моё сердце, как в старину бились рыцари за благосклонность прекрасной дамы, то отец снова одержал бы победу. А все прочие – остались бы ни с чем.
Мама… Она тоже была там. Я знаю это наверняка. Но не помню её. Она словно растворилась в комнате, стала частью обоев, стены, воздуха. И, как бы странно это ни звучало, именно это я и запомнила – её отсутствие. Её молчание. Её выбор уйти в тень.
И теперь, спустя столько лет, мне от этого немного грустно. Ведь она тоже могла… Впрочем, я не знаю, чего я ждала от нее тогда. Может, чтобы она просто была рядом? Как был рядом отец?..
***
Душа девочки Алисы и душа взрослой женщины, пишущей эти строки… Нас разделяет Время – величественное, неумолимое, растянувшееся на несколько десятков лет – годы, которые неумолимо стирают яркость и свежесть мгновений, погружая их в молчаливую божественность вечности. Иногда, вглядываясь в эту священную тень, я всё ещё вижу её – ту маленькую фигурку, которая стояла посреди комнаты, с растерянными глазами и пылающими от стыда щеками. Я вижу, как она ёжится, как шевелит пальцами, пряча руки за спину. Она почти не дышит. И всякий раз, когда я пытаюсь приблизиться к ней, чтобы шепнуть «это пройдет», память выставляет преграду – прозрачную, как стекло, но твёрдую, как гранит. Я снова и снова задаю себе один и тот же вопрос: что чувствует ребёнок, когда на него обрушивается волна осуждения от тех, кому он верил? Кому доверял? Кого любил?
Он ещё не умеет защищаться. Он не спорит, не объясняет, не протестует. Он сжимается внутри, будто хочет исчезнуть. Ещё до того, как на него падают громкие слова, он уже чувствует: что-то пошло не так. Он чувствует в теле – в животе, в горле, в жаре щёк – стыд, который невозможно смыть. Вину, которая не имеет формы, но имеет вес.
И если в этот момент взрослые, те самые, кто должен бы защитить, становятся обвинителями – если их голоса звучат, как приговор, – ребёнок теряет не просто покой. Он теряет самое ценное – доверие к близким. Доверие, которое даёт ощущение принадлежности, не позволяя чувствовать себя одиноким среди своих. Доверие, как жизненная сила, поддерживающая в борьбе и дарующая уверенность. Доверие, которое помогает ощущать единство с собой и миром.
Я не призываю закрывать глаза на детские шалости. Не об этом речь. Но ребёнок – не глина для лепки, не чистая доска. У него есть душа. Она чувствует. Она стесняется. Она путается, боится, радуется, надеется – точно так же, как наша. И так же, как и наша, она нуждается не в нравоучениях, а в понимании. В прощении. В том, чтобы кто-то остался рядом – не идеальный, не всезнающий, но принимающий.
Это и есть, на мой взгляд, истинная любовь. Всё остальное – лишь её бледное подобие. И никто не переубедит меня в обратном.
Глава 8. Негласный контракт
В нашей семье высшее образование считалось чем-то вроде городской легенды – все о нём слышали, но никто не видел. Папин купленный диплом и мамино медучилище в расчёт не брались – сами же родители над этим только посмеивались.
Мои старания в учёбе казались чем-то из ряда вон. Родственники говорили о моем «прекрасном будущем», называли меня белой вороной, подтрунивали над моим рвением к чтению и зубрёжке, которую они считали скучной и ненужной. Особенно мама.
Помню, как однажды вечером, уже заполночь, она вошла в мою комнату с подушкой и одеялом в руках. Я всё ещё сидела над учебниками.
– Ты ещё не спишь! – воскликнула она. – Не понимаю, как ты можешь любить школу? Ломать голову над задачами, зубрить стихи, учить правила?..
Я пожала плечами. Учёба была для меня чем-то естественным, почти инстинктивным. Я искренне не понимала, как можно не хотеть учиться – ведь это так интересно: познавать новое, открывать непонятное, становиться чуть-чуть умнее, чем ты был вчера.
– А я ненавидела школу! Эти бестолковые учителя, которые только и знали, что двойки ставить! – Мама начала размахивать подушкой, будто отгоняя призраков прошлого. – Преподавать не умеют, но каждый из себя корчит умника. А настоящий педагог должен, в первую очередь, заинтересовать, зажечь, вызвать любовь к своему предмету…
Её монолог всегда заканчивался одинаково:
– Ох и натерпелась же я из-за этих бездарей!
После школы я часто ездила к папе на работу – он был директором ресторана в одном из районов Донецка. Там, в его кабинете, за массивным дубовым столом, среди специфических запахов кухни, звона посуды и приглушённого гомона голосов, я чувствовала себя на своём месте. Ресторан, как и прежде, был моим вторым домом, а его сотрудники – почти роднёй.
Иногда я отрывалась от книг и выходила в зал. Мне нравилось наблюдать за посетителями – за их жестами, за тем, как они обмакивают хлеб в соус, как целуются через стол, как ссорятся, почти не повышая голоса. Эта привычка – подслушивать чужие разговоры, вслушиваться в интонации, всматриваться в лица – осталась со мной навсегда.
Даже сейчас бывает, что я, одолеваемая смутным желанием, иду в какое-нибудь французское кафе с ноутбуком или книгой; в сумке – блокнот и ручка. Устроившись за столиком в уютном зале или на террасе, я редко погружаюсь в то, что задумала ранее. Тяга к созерцанию, к размышлениям о людях, их поступках и мотивах, просыпается во мне – и захватывает целиком. Мой взгляд блуждает по залу. Ловя обрывки разговоров и наблюдая за языком телодвижений, я пытаюсь угадать истории незнакомцев. Кто они – влюблённые мечтатели, лживые искусители, измученные труженики, бывшие супруги, подруги, что-то скрывающие друг от друга? Я бессильна что-либо с этим поделать… Возможно, потому, что в этом шуме, среди чужих голосов и случайных сцен, я снова чувствую то же, что и тогда – будто жизнь течёт вокруг, а я могу просто быть. Без масок, без ожиданий. Как в детстве, когда меня принимали такой, какая я есть…
Или дело в другом? Не хочется признавать, но я всё ещё ищу те моменты, когда в шуме ресторана мы с папой были чем-то вроде тайного союза. Только он и я.
Теперь я сижу в кафе одна – но внутри все та же детская надежда: вдруг здесь, среди чужих голосов, я снова почувствую тот самый покой? Тот, который ускользнул вместе с отцом. Тот, которого я никогда не чувствовала рядом с мамой – даже в моменты, когда её не было поблизости.
Я долго не понимала, почему меня так тянет туда, где можно раствориться в фоновом шуме – и остаться незаметной. Быть собой – но в тени. Только позже я осознала: это было не просто бегство, это была попытка найти укрытие. Так же я когда-то пряталась за страницами учебников, как за щитом.
Другой ребёнок, возможно, обрадовался бы такому предложению – плюнуть на учебу. Мне же никогда не приходило подобное в голову. За уравнениями и правилами я скрывалась от хлопающих дверей, от пьяных выкриков за стеной, от запаха сигарет. Учёба помогала справляться со страхами и комплексами. А ещё – позволяла чувствовать себя особенной.
Похвала взрослых наполняла меня восторгом, почти эйфорией. От неё я словно вырастала на глазах, ощущая, как в груди расправляются невидимые крылья. Со временем эта жажда признания – быть хорошей, умной, достойной – превратилась в настоящую зависимость. Теперь же пришло время признать: во мне живёт заурядный человек, который изо всех сил пытается избавиться от этой потребности в похвале. Ведь тех, кто мог бы подпитывать моё Эго восторженными взглядами и одобрительными словами, почти не осталось. И всё же – я это знаю – внутри меня по-прежнему живёт девочка, которая ждёт аплодисментов. Может быть, именно эта жажда – чтобы хоть кто-то воскликнул: «Ух ты!» – и толкнула меня на написание этой повести? Может, именно поэтому я так ухватилась за мамино «пиши, бумага все стерпит»?..
Но было нечто другое, ради чего действительно стоило учиться.
Папины глаза. Его улыбка.
Когда я приносила пятёрку, его обычно сжатые губы размягчались, а лицо начинало светиться – не просто одобрением, а гордостью, которая будто озаряла всё вокруг. Я не знаю, был ли он в юности улыбчивым, но в моих воспоминаниях он улыбался редко. И, может быть, именно поэтому мне так хотелось быть причиной его улыбки – светлой, настоящей, как признание: я – твоя радость.
И глаза у него были особенные. Они смотрели на мир с теплом и участием, а на людей – с пониманием, с той тихой, сдержанной снисходительностью, на которую способен только человек, сам прошедший через боль. Иногда мне казалось, что эти глаза умеют обнимать без слов. Но они же могли и испепелить.
Папин гнев был редким, но тем страшнее – как внезапное извержение вулкана, который долго считали потухшим. И только однажды этот взгляд – меткий, обжигающий – был направлен на меня.
Это случилось давно, но до сих пор, стоит памяти коснуться того дня, как внутри меня всё сжимается. В груди возникает знакомая тяжесть, от которой некуда деться. Это воспоминание и сейчас, спустя многие годы, вызывает мучительное ощущение вины – как рана, которая вроде бы зажила, но стоит её задеть – и она снова начинает кровоточить. Но об этом после.
И вот в мою жизнь постепенно вползла одна фраза. Тихо так пробралась, почти незаметно. Говорила её мама, но я всегда чувствовала за ней молчаливое согласие отца. Эти слова повторялись так часто, что со временем перестали быть просто обещанием, а превратились в нечто большее. В негласный договор. В бартерную сделку. В установку, вписанную в самую ткань моего существования. Одну из тех, что формируют судьбу. А потом, в какой-то момент, исподтишка, она обернулась ловушкой. Или, если быть честной, – даже в порчу. Завёрнутой в тёплый плед заботы.
– Алисочка, ты только учись хорошо, – говорили они. – А мы тебя всем обеспечим. Квартира. Машина. Ты ни в чём не будешь нуждаться.
Я кивала, глотая это обещание, как лекарство. Верила, как верит ребёнок, когда взрослые говорят уверенно, как будто всё под контролем. И закончила две школы – обычную и музыкальную – с отличием. Свою часть сделки я считаю выполненной. До последней запятой.
Теперь я понимаю: это был мой первый кредит доверия. И первый невыплаченный долг. Потому что банк, выдавший его, давно обанкротился.
Но жизнь – та ещё мошенница – не только не сдержала обещания, но и вывернула всё наизнанку. Папа умер внезапно. Страна развалилась. Мама стала меняться на глазах – еще более пьющая, а потому непредсказуемая. Всё, что казалось опорой, рассыпалось. А я осталась одна. Со страхами, комплексами и привычкой быть удобной. Быть правильной. И все еще с ожиданием, что мне принесут все необходимое на блюдечке с золотой коемочкой.
Меня учили тянуться к звёздам, а как жить в грязи – не рассказали; я даже и не знала, что она, эта грязь, существует. Мне обещали, что всё придёт само, стоит только хорошо учиться, но не сказали самого главного: что единственный человек, на которого можно по-настоящему положиться – это ты сама.
Родители, конечно, хотели как лучше. Особенно папа. Он всегда верил в меня. Надеялся, что я вырвусь, поднимусь, стану счастливой вместо него. Для него. Но, как говорится: «Хотели, как лучше, а получилось как всегда». Вместо крыльев я оказалась в золотых наручниках. Вместо уверенности получила вечную тревогу должника, который знает: его вексель уже никогда не будет оплачен.
Вспоминается, как однажды мы с папой гуляли по узким, виляющим улочкам нашего крымского города. Был ясный июньский день, к вечеру море присмирело, и от него тянуло лёгким бризом, который приятно щекотал кожу.
– Алиса-джан… – вдруг сказал папа и мягко сжал мою руку своей, тёплой, мясистой, но по-прежнему сильной. – Знай, для меня самое главное – чтобы ты была счастлива.
Он мог бы и не говорить этого. Я всегда это знала. Я посмотрела на него, но он не смотрел в ответ, будто смущался собственных чувств. Стыдился своей внезапной откровенности. Меня вдруг накрыло такой волной любви и нежности, что я остановилась и прижалась к нему.
– Конечно, я буду счастлива! – воскликнула я. – Как может быть иначе с таким папочкой, как ты?
Тогда, на заре моей юности, я впервые смутно ощутила: быть счастливой – моё предназначение. Потому что этого хотел Он.
Легенда о моём будущем поддерживала папу в жизни. С малолетства лишённый всего, он мечтал о том, что его дочь, его Алиса-джан, возьмёт реванш в этом жестоком и несправедливом мире. И видел свой смысл в том, чтобы дать мне всё необходимое – и даже больше. А когда папы не стало, моё стремление к счастью стало почти одержимостью. Он верил в меня так безоговорочно, что не оставил мне пути к отступлению – я, Алиса Лебедева, его единственная дочь, не имею права сдаться. Опустить руки. Если я сломаюсь – рухнет и его мечта. А, значит, вся его жизнь станет бессмыслицей.
С тех пор я, оседлав судьбоносного коня, продолжаю участвовать в этой непрекращающейся, бешеной скачке за счастьем. Не призрачным – нет, оно для меня осязаемо. Но хрупким. Слишком хрупким. Его легко потерять. Или же у тебя его могут отнять. Как это сделала мама.
Но моей бунтующей, неугомонной натуре тяжело смириться с такой участью. Поэтому я продолжаю бежать. Со слезами на глазах, с потом на лице, с кровоточащими ссадинами. Я всё ещё в седле. Скачу, стараясь не растерять того, что собирала по крупицам все эти годы. Тридцать лет.
Пообещав скорее себе, чем отцу, быть счастливой – для него и ради него – двенадцатилетняя девочка ничего не знала ни о себе, ни о жизни.
Как и любой ребёнок, она жила настоящим, в котором всё было стабильно и понятно: любимые родители и старший брат, большой аквариум с золотыми рыбками и позолоченная клетка с поющим жёлтым кенаром, письменный стол и висящая рядом на стене школьная доска с разноцветными мелками. Книги в ярких обложках, тетради и учебники, новенькое лакированное пианино, коллекция открыток с животными. Кубик-рубик на полке и алый галстук на школьной форме.
Была дорога в школу – через большой двор с качелями. И другая – в музыкальную, через центральную городскую площадь и дворы двухэтажных хрущёвок. Шестнадцать остановок на троллейбусе до папиной работы. И сам ресторан, с большим залом, где сливаются воедино музыка, людской смех, запахи и звон посуды.
Что эта девочка могла знать о жизни? Её маленький мир был надёжно защищён. Она купалась в отцовской любви, она ни в чём не нуждалась. А что ещё нужно ребёнку для радостного детства?
Уже позже, с годами – и не сразу, а постепенно – она поймёт: самое важное для неё – это любить и быть любимой. Мир в семье. Здоровые и счастливые дети, продолжение рода её любимого отца. У неё появятся и другие ценности, которые вплетутся в клубок с первыми – и станут её путеводной нитью в хаосе взрослой жизни.
Но каким бы ни было её представление о счастье, оно всегда будет связано с ним. С отцом. Её опекуном и защитником. Другом, советчиком, образцом для подражания и – моральным судьёй.
И в тот день, когда его не станет, в одночасье рухнет весь мир, её мир, выбросив неприспособленную к жизни женщину в другой – холодный, безучастный, полный скрытых опасностей. Там под маской родственника скрывается недруг, за приветствием – холод, а за улыбкой – предательство.
Она окажется к этому неготовой. Ей будет всего двадцать.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
БОРИС. ПОСТСОВЕТСКАЯ УКРАИНА
Глава 9. Подслушанный разговор на кухне
А пока мне восемнадацать.
По вечерам родители шептались на мой счет в своей спальне. Их голоса были глухими, и, чтобы уловить хоть что-то, приходилось напрягать слух. Нас разделяла толстая, почти в полметра, стена из крымского ракушечника, но иногда всё же удавалось понять, о чём они говорят – о том, что у меня до сих пор нет парня. Их беспокойство мне было понятно. И в то же время раздражало.
На следующий день, будто между делом, следовали реплики:
– Тебе нужно сделать модную стрижку и выщипать брови, – убеждала мама.
– Сходила бы с подружками в город, – подбадривал папа, протягивая мне деньги – на меня и на подружек.
Я же смотрела на своё отражение в зеркале и видела девушку с небольшими грудями и слишком полными бёдрами, с нахмуренными широкими бровями и тонкими губами. Такая недостойна любви. Мальчишкам нравились другие – стройные, весёлые, наивные. Я пробовала быть как они: мучила себя диетами, пыталась казаться легкомысленной, смеяться в попад. Но чувствовала себя жалко, а потому оставила эту затею.
Ирония была в том, что я и сама мечтала о любви. Настоящей. Но соглашаться на отношения только ради того, чтобы порадовать родителей или не отставать от подруг – нет, это было не про меня.
Папа однажды, почти между прочим, обмолвился о своём работнике, которого был бы рад видеть рядом со мной. Я ласково поблагодарила его и отказалась. Он больше не поднимал этот вопрос. Не то что мама: ей казалось ненормальным, что ее, без малого девятнадцатилетняя, дочь все еще без парня.
– В твоём возрасте быть одной – это даже как-то неприлично. Тем более в наше время! – сказала она однажды, когда папы не было дома.
Она упорно пыталась найти мне пару, будто этот вопрос стоял за мной как плата за её материнство. И не обращала внимания на моё недовольство. Между нами всё чаще вспыхивали ссоры.
– Мама, зачем ты это делаешь? Ты что, считаешь меня уродиной? Или думаешь, что я не способна сама кого-то найти?
– Что ты, доченька! Ты у нас и умница, и красавица. Именно поэтому меня, как мать, оскорбляет, что ты до сих пор одна. А эти дуры и страхолюдины, – тут она начинала перечислять моих подруг, соседок и одноклассниц, которые на самом деле были обычными девочками с обычной внешностью, – ходят с мальчиками в обнимку, гордо задрав голову. А моя дочь чем хуже?
– Просто твоя дочь не хочет лишь бы кого. Она ждёт того, с кем ей будет тепло. Приятно. Кто будет любить её, и кого полюбит она.
Мама махала рукой – её обычная реакция, когда сказать было нечего, – и добавляла:
– Ну и дура. Так и останешься одна. А годы идут.
В детстве я просто на нее обижалась, раздражение и злость были мне незнакомы. Детская душа устроена иначе – она верит, прощает, ждёт. Но с годами обида пустила корни. Сначала – тонкие, едва заметные. Потом – крепкие, жгучие. Они разрастались внутри меня, превращаясь в густую, душную чащу горечи. То, что когда-то было лишь легкой обидой, теперь стало тягостным грузом, который я несла в своем сердце, с каждым днем ощущая его тяжесть все сильнее.
Всё это жило во мне – раздражение, стыд, неуверенность – как подземное течение. Но в тот вечер, когда я услышала разговор на кухне, что-то прорвалось.
Я хорошо помню тот день. День, когда фортуна, эта коварная обманщица, подбросила в мою жизнь событие, перечеркнувшее – одним махом – все пророчества моего безоблачного будущего.
Тем вечером я вернулась домой и уже собиралась пройти в свою комнату, когда услышала голоса из кухни. Наш просторный дом, окружённый садом и высокой оградой, казался особенно тихим, когда я подходила к воротам. Под ногами только похрустывали гравий и облупившийся цемент возле ворот.
Кухня стояла во дворе, в отдельной пристройке. Из приоткрытого окна доносился голос матери – грубый, раздражённый. Такой он бывал у нее только в одном случае – когда она пила. Я уже собиралась пройти в дом, но остановилась, что-то почуяв. Тихо, почти неслышно, ступила к окну. Оттуда пахло жареным луком, спиртным и сигаретным дымом. Спрятавшись за кустом винограда, я заглянула внутрь.
Жёлтый свет люстры мягко освещал стол, за которым сидели мама и молодой мужчина, друг семьи, чуть старше меня. Красивый, самоуверенный, всегда с шуточками. Наши отцы были коллегами по общепиту: его – администратор самого престижного в городе ресторана, мой – заведующий одним из продовольственных складов.
– Да что ты с ней возишься? Мужик ты или нет? – Мамин голос, в котором слышалась та особая агрессивность, которая появлялась под влиянием водки, звучал слишком громко для тишины двора.
Я вздрогнула, но осталась на месте, напряжённо прислушиваясь.
На секунду наступила пауза. Я прижалась щекой к шершавой листве и замерла. О ком она говорит? Кто эта «она»? Та, с кем знакомый «возится»?
– Если она тебе нравится, – продолжила мать, – прижми её к стенке! Никуда она не денется. Ну, повыпендривается немного… Ничего страшного.
Он пытался что-то сказать, но она перебивала. Смеялась хрипло. Говорила настойчиво, с нажимом.
Во мне что-то дрогнуло. Я не сразу поняла, почему эти слова задели меня – словно кто-то провёл по коже ножом, но без крови. Может, потому, что мужчина, всегда уверенный в себе, он, который умел любую неловкость обратить в шутку, вдруг опустил голову, будто ему стало стыдно? Он заморгал, сглотнул и начал нервно теребить край скатерти.
Его молчание, растерянность, мать – пьяная, самодовольная, с насмешкой в голосе. И вдруг я поняла: речь идёт обо мне.
«Прижми её к стенке! Никуда она не денется…». Эти слова расплывались во мне, как капля спирта в стакане воды: медленно, ядовито.
– Тёть Ань… Вы не то думаете… Я не такой. – Мужчина говорил осторожно, вкрадчивым голосом, словно нащупывал опасное морское дно. – И… я больше не буду. – Он указал на бутылку «Столичной» и отодвинул ее подальше от мамы.
– Дай сюда! – Мать раздражённо выхватила бутылку у него из рук и вернула её на середину стола. Ее чалма из махрового шарфа съехала набок. Одна бигуди с глухим стуком плюхнулась в тарелку.
– И сколько раз говорить: я не тётя Аня, а Аннушка! – На мамином лице застыла гримаса неудовольствия, губы сжались в тонкую линию. – Я сказала: зажмёшь её как следует – никуда она не денется, – упрямо повторила она.
Она с кокетством поправила чалму одной рукой, пытаясь другой налить себе водки, но промахнулась. Прозрачная струя пролилась на скатерть.
– Нам, бабам, нравятся настырные мужики. – Она хихикнула. – Ты всё понял?
Я не верила своим ушам. Мама, моя мама, советовала мужчине – пусть и другу семьи – овладеть мной. Почти требовала этого.
Меня словно ударили под дых.
Или всё же я неправильно поняла? Может, речь не обо мне? Но о ком тогда? Она ведь и раньше не скрывала, что хотела бы видеть его своим зятем – стоило ему появиться, её глаза сразу загорались. Но чтобы вот так…
Гнев захлестнул меня – так, что потемнело в глазах. Первым порывом было пойти в дом и разбудить отца – назавтра ему нужно было рано вставать, чтобы подготовить склад к проверке санэпидемстанции. Рассказать ему всё, до последнего услышанного слова. Но я сдержалась, зная, чем это обернётся: последний раз, когда я пожаловалась ему на маму, он кричал на нее так (а она отвечала ему тем же), что слышала вся улица. Я до сих пор помню капли крови на ее подбородке. Мне не хотелось, чтобы всё пошло по такому сценарию.
Вместо этого я резко вошла на кухню и, не глядя на мать – всем известно, что обращаться к разуму выпившего всё равно, что метать бисер перед свиньёй, – набросилась на гостя – зло, яростно, будто он был причиной всего. Всех моих бед.
– Убирайся отсюда!
Тото, мой пудель, вбежавший следом, с лаем кинулся на маминого протеже. Тот, к моему удивлению, тут же вскочил, сдёрнул с вешалки свою ветровку. Мать попыталась остановить его, ухватившись за рукав, но мужчина, как мне показалось, с презрением отдёрнул руку. Он пробормотал: «Я думал, ты свободна…», – и ушёл, не оглядываясь. Я видела: ему было стыдно, неловко, и это еще больше убедило меня в мысли, что его вины в произошедшем нет. Это мать, и только она одна стала инициатором этого разговора – как сутенерша, торгующая дочерней невинностью.
