Наука логики Гегеля. Том 2 бесплатное чтение
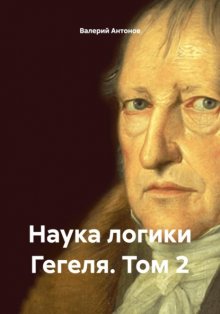
О пользе адаптированных переложении близких к академическому переводу.
Изучение философии Гегеля требует особого подхода, где важна постепенность – от простого к сложному. Нагляднее всего это можно показать на примере сравнения академического и адаптированного переводов фрагмента из третьего тома "Науки логики". Возьмём ключевую фразу оригинала: "Das Wesen ist die Wahrheit des Seins. Die Bewegung des Seins hat sich im Wesen aufgehoben, und in ihr ist es selbst dasselbe, was das Wesen ist". Академический перевод Б.Г. Столпнера передаёт это как: "Сущность есть истина бытия. Движение бытия сняло себя в сущности, и в нём само бытие есть то же самое, что и сущность", сохраняя все терминологические тонкости и сложную синтаксическую структуру. В то же время адаптированный вариант мог бы звучать так: "Сущность – это итог развития бытия. В процессе изменения бытие преодолевает себя и переходит в сущность, которая теперь содержит всё его содержание", где специально упрощена терминология (например, "снятие" заменено на более интуитивно понятное "преодоление"), добавлены поясняющие слова ("итог развития"), а предложения перестроены для лучшего восприятия.
Хотя оба варианта передают основную мысль Гегеля о переходе бытия в сущность через диалектическое снятие, между ними есть принципиальные различия. Академический перевод строго следует оригиналу, сохраняя все особенности гегелевского стиля – это незаменимо для профессионального анализа, но крайне затрудняет первое знакомство с текстом. Адаптированная же версия жертвует буквальной точностью ради доступности: сложные термины получают более привычные аналоги, длинные фразы разбиваются на короткие, добавляются пояснительные вставки, помогающие понять общий смысл без погружения в терминологические дебри.
Такой контраст наглядно показывает, почему начинать изучение Гегеля лучше с адаптированных переложений – они дают общее представление о системе, не перегружая читателя сложностями формы. Лишь после этого, когда основные концепции уже усвоены, стоит обращаться к академическим переводам, которые, несмотря на свою сложность, позволяют увидеть подлинную глубину и нюансы гегелевской мысли. Именно такое постепенное погружение – от упрощённых пересказов к точным переводам, а затем и к оригиналу – делает освоение "Науки логики" действительно продуктивным, позволяя избежать как поверхностного понимания, так и разочарования от преждевременного столкновения с непроходимой сложностью текста.
Предисловие к первому изданию.
Полное изменение, которое философский способ мышления претерпел у нас за последние примерно двадцать пять лет, более высокая ступень, достигнутая самосознанием духа в этот период над собой, до сих пор имели мало влияния на вид Логики.
То, что до этого времени называлось метафизикой, было, так сказать, исторгнуто с корнем и ветвями и исчезло из ряда наук. Где еще можно или где еще дозволено услышать звуки прежней онтологии, рациональной психологии, космологии или даже прежней естественной теологии? Исследования, например, о нематериальности души, о механических и конечных причинах, где бы они еще могли найти интерес? Даже прочие доказательства бытия Бога приводятся лишь исторически или ради назидания и возвышения духа. Это факт, что интерес частью к содержанию, частью к форме прежней метафизики, частью к обоим вместе – утрачен. Как замечательно, когда у народа, например, наука его государственного права, когда его воззрения, его нравственные привычки и добродетели стали бесполезны, так же замечательно по меньшей мере, когда народ теряет свою метафизику, когда дух, занимающийся своим чистым существом, не имеет больше в нем действительного бытия.
Экзотерическое учение кантовской философии – что рассудок не должен перелетать за пределы опыта, иначе познавательная способность станет теоретическим разумом, который сам по себе порождает лишь химеры, – с научной стороны оправдало отказ от спекулятивного мышления. Этому популярному учению навстречу шли крики современной педагогики, нужда времен, направляющих взор на непосредственную потребность, что, подобно тому как для познания опыт есть первое, так и для умелости в общественной и частной жизни теоретическое проникновение даже вредно, а упражнение и практическое образование вообще суть существенное, единственно полезное. – Поскольку таким образом наука и здравый человеческий рассудок работали рука об руку, чтобы вызвать гибель метафизики, то казалось, что приведено странное зрелище – видеть образованный народ без метафизики; – как храм, в остальном богато украшенный, но без Святого святых. – Теология, которая в прежние времена была хранительницей спекулятивных таинств и хотя и зависимой метафизики, отказалась от этой науки в пользу чувств, в пользу практически-популярного и ученого исторического. Чему соответствует то изменение, что в других местах те уединенные, которые были принесены в жертву своим народом и отделены от мира с той целью, чтобы существовало созерцание вечного и служащая только ему жизнь, – не ради пользы, а ради благословения, – исчезли; исчезновение, которое в другой связи, по существу, может рассматриваться как то же явление, что и упомянутое ранее. – Так что после изгнания этих сумерек, бесцветного занятия углубленного в себя духа самим собой, бытие, казалось, превратилось в светлый мир цветов, среди которых, как известно, нет черного.
С Логикой дело обстоит не так плохо, как с метафизикой. Предрассудок, будто благодаря ей учатся мыслить, – что прежде считалось ее пользой и тем самым ее целью, – словно бы посредством изучения анатомии и физиологии следовало бы сначала научиться переваривать и двигаться, – этот предрассудок давно исчез, и дух практического едва ли предназначил ей лучшую судьбу, чем ее сестре. Тем не менее, вероятно, ради некоторой формальной пользы, ей еще оставили место среди наук, даже сохранили ее как предмет публичного преподавания. Однако эта лучшая доля касается лишь внешней судьбы; ибо ее вид и содержание остались теми же, какими они унаследовались через долгую традицию, однако в этой передаче все более разжижались и истощались; новый дух, который взошел не менее в науке, чем в действительности, в ней еще не дал себя почувствовать. Но раз и навсегда тщетно, когда субстанциальная форма духа преобразовалась, хотеть сохранить формы прежнего образования; это – увядшие листья, которые отторгаются новыми почками, уже зародившимися у их корней.
Именно с игнорирования всеобщего изменения начинается то, что оно выходит из моды и в научном отношении. Незаметным образом даже противникам стали привычны и собственны другие представления, и если они против их источника и принципов продолжают вести себя строптиво и противоречиво, то зато они смирились с их последствиями и не смогли уберечься от их влияния; к своему все более незначительному негативному поведению они не знают иного способа придать положительную важность и содержание, как только тем, что они говорят вместе с новыми способами представления.
С другой стороны, кажется, прошло время брожения, с которого начинается новое творение. В своем первом появлении такое творение обычно ведет себя с фанатичной враждебностью против распространенной систематизации прежнего принципа, частью также боится потеряться в распространении особенного, частью же страшится работы, требуемой для научного образования, и при нужде в таковом хватается сначала за пустой формализм. Требование обработки и образования материала становится теперь тем настоятельнее. Существует период в образовании эпохи, как и в образовании индивида, когда дело идет преимущественно о приобретении и утверждении принципа в его неразвитой интенсивности. Но более высокая задача состоит в том, чтобы он стал наукой.
Что бы ни было сделано до сих пор для дела и для формы науки в других отношениях; логическая наука, составляющая подлинную метафизику или чистую спекулятивную философию, до сих пор видела себя весьма заброшенной. Что я понимаю под этой наукой и ее точкой зрения, я предварительно указал во Введении. Необходимость снова начать эту науку сначала, природа самого предмета и недостаток предварительных работ, которые можно было бы использовать для предпринятого преобразования, могут быть приняты во внимание беспристрастными судьями, даже если многолетняя работа не смогла придать этой попытке большей совершенности. – Существенная точка зрения состоит в том, что дело вообще идет о новом понятии научного изложения. Философия, поскольку она должна быть наукой, не может, как я напоминал в другом месте ("Феноменология духа", Предисловие к первому изд.), – собственное выполнение есть познание метода и имеет свое место в самой Логике, – заимствовать свою методологию у подчиненной науки, какова математика, так же мало, как и останавливаться на категорических уверениях внутреннего созерцания или пользоваться рассуждением из оснований внешней рефлексии. Но только природа содержания может двигаться в научном познании, в то же время эта собственная рефлексия содержания и есть то, что впервые полагает и порождает его определения.
Рассудок определяет и удерживает определения; разум негативен и диалектичен, ибо он растворяет определения рассудка в ничто; он позитивен, ибо он порождает всеобщее и постигает в нем особенное. Как рассудок берется обычно как нечто отдельное от разума вообще, так и диалектический разум берется обычно как нечто отдельное от позитивного разума. Но в своей истине разум есть дух, который выше обоих, разумный рассудок или рассудочный разум. Он есть негативное, то, что составляет качество как диалектического разума, так и рассудка; – он отрицает простое, тем самым он полагает определенное различие рассудка, он столь же растворяет его, тем самым он диалектичен. Но он не останавливается на ничто этого результата, а в нем столь же позитивен, и тем самым восстановил первое простое, но как всеобщее, которое конкретно в себе; под него не подводится данное особенное, но в том определении и в его растворении особенное уже само определилось. Это духовное движение, которое в своей простоте дает себе свою определенность, а в этой определенности – свое равенство с собой, которое, таким образом, есть имманентное развитие понятия, есть абсолютный метод познания и одновременно имманентная душа самого содержания. – Только на этом самостоятельно конструирующемся пути, утверждаю я, философия способна быть объективной, доказательной наукой. – Этим способом я пытался изобразить сознание в "Феноменологии духа". Сознание есть дух как конкретное и притом запутавшееся во внешности знание; но формо-движение этого объекта основывается единственно, как и развитие всякой природной и духовной жизни, на природе чистых сущностей, составляющих содержание Логики. Сознание, как являющийся дух, который на своем пути освобождается от своей непосредственности и внешней конкретности, становится чистым знанием, которое дает самим себе эти чистые сущности, как они суть в себе и для себя, в качестве объекта. Они суть чистые мысли, дух, мыслящий свое существо. Их само-движение есть их духовная жизнь и есть то, посредством чего конституируется наука, и представление чего она есть.
Этим указано отношение науки, которую я называю "Феноменологией духа", к Логике. – Что касается внешнего отношения, то первому тому системы науки (Бамберг и Вюрцбург, у Гебхарда, 1807) был приложен титул "Первая часть: Феноменология духа". Этот титул не будет больше приложен ко второму изданию, которое должно появиться на ближайшей Пасхе. – Вместо упомянутого ниже намерения второго тома, который должен был содержать все прочие философские науки, я с тех пор дал появиться "Энциклопедии философских наук", в прошлом году в третьем издании (Примечание ко второму изданию). После "Феноменологии" должен был следовать второй том, который должен был содержать Логику и две реальные науки философии, философию природы и философию духа, и завершил бы систему науки. Но необходимое расширение, которое Логика должна была получить для себя, побудило меня дать ей появиться отдельно; она составляет, таким образом, в расширенном плане первое продолжение к "Феноменологии духа". Впоследствии я дам последовать обработке двух упомянутых реальных наук философии. – Этот первый том Логики содержит как первую книгу учение о бытии; вторая книга, учение о сущности, как вторая часть первого тома; второй же том будет содержать субъективную логику, или учение о понятии.
Нюрнберг, 22 марта 1812 г.
За последние 25 лет философское мышление претерпело радикальные изменения, дух достиг более высокой ступени самосознания, однако это почти не повлияло на логику как науку.
Упадок прежней метафизики.
То, что раньше называлось метафизикой (онтология, рациональная психология, космология, естественная теология), исчезло из круга наук. Вопросы о нематериальности души, механических причинах или доказательствах бытия Бога теперь вызывают интерес разве что в историческом или назидательном ключе. Интерес к старой метафизике утрачен – как у народа, теряющего свои законы и нравы, так и у философии, лишившейся своего глубинного содержания.
Кантовская философия утверждала, что разум, выходя за пределы опыта, порождает лишь химеры, что оправдывало отказ от спекулятивного мышления. Педагогика и практические нужды эпохи также способствовали этому: главным стало не теоретическое познание, а практическая польза. В результате метафизика исчезла, как храм без Святого святых.
Судьба логики.
Логике повезло чуть больше, чем метафизике, но и она изменилась мало. Исчезло наивное представление, будто логика учит мыслить (как если бы анатомия учила переваривать пищу). Хотя логика сохранила место в науке и образовании, её содержание осталось традиционным, не отражая нового духа эпохи.
Новый этап философии.
Период бурного отрицания прошлого закончился. Теперь важно не просто провозглашать новые принципы, а развивать их в строгую науку. Однако логика как подлинная метафизика (чистая спекулятивная философия) до сих пор оставалась в забвении.
Метод и содержание «Науки логики».
Философия не может заимствовать метод у математики или ограничиваться интуицией. Её метод должен вытекать из самого содержания. Разум – не просто рассудок, фиксирующий определения, и не только диалектика, их разрушающая. Истинный разум – это дух, который:
1. Отрицает простое (диалектика),
2. Утверждает новое всеобщее, включающее в себя особенное.
Это движение мысли – суть научного метода и самой логики.
Связь с «Феноменологией духа».
Изначально «Феноменология духа» задумывалась как первая часть системы, но теперь логика выделена в отдельный труд. Она станет основой для последующих работ – философии природы и философии духа.
План издания:
– Том 1: Учение о бытии и сущности.
– Том 2: Субъективная логика (учение о понятии).
Нюрнберг, 22 марта 1812 г.
Проверочные вопросы:
1. Почему, по Гегелю, старая метафизика утратила значение?
2. Как Кант повлиял на отношение к спекулятивному мышлению?
3. В чём отличие рассудка и разума в гегелевской логике?
4. Почему логика не может заимствовать метод у математики?
5. Как связано движение разума с диалектикой?
6. Какое место «Наука логики» занимает в системе Гегеля после «Феноменологии духа»?
Предисловия ко 2-му изданию "Науки логики".
К этой новой переработке Науки логики, …, я приступил, конечно, с полным сознанием как трудности предмета самого по себе и затем его изложения, так и несовершенства, которое несет на себе обработка его в первом издании; сколь бы я ни старался, после дальнейших многолетних занятий этой наукой, помочь этому несовершенству, я все же чувствую достаточные основания, чтобы взывать к снисходительности читателя. Основанием же для такого притязания может прежде всего служить то обстоятельство, что для содержания преимущественно находили только внешний материал в прежней метафизике и логике. Как бы всеобще и часто эти науки, последняя вплоть до наших дней, ни разрабатывались, столь мало такая обработка затрагивала спекулятивную сторону; скорее, в целом повторялся тот же материал, попеременно то разжиженный до тривиальной поверхностности, то старый балласт объемнее извлекался заново и тащился с собой, так что через такие, часто совершенно механические усилия, философскому содержанию не могло прибавиться никакого выигрыша. Представить поэтому царство мысли философски, т.е. в его собственной имманентной деятельности, или, что то же самое, в его необходимом развитии, должно было стать новым предприятием, и притом начинать его с самого начала; тот приобретенный материал, известные формы мысли, однако, следует рассматривать как важнейший образец, даже необходимое условие, признаваемую с благодарностью предпосылку, даже если он дает лишь кое-где сухую нить или безжизненные кости скелета, даже в беспорядке сваленные друг на друга.
Формы мысли прежде всего выставлены и закреплены в языке человека; в наши дни нельзя слишком часто напоминать, что то, чем человек отличается от животного, есть мышление. Во все, что становится для него внутренним, представлением вообще, что он делает своим, язык внедрился, и то, что он делает языком и в нем высказывает, содержит, скрытое, смешанное или выработанное, категорию; столь естественно для него логическое, или, вернее, оно само есть его собственная природа. Но если противопоставлять природу вообще, как физическое, духовному, то следовало бы сказать, что логическое скорее есть сверхъестественное, которое внедряется во все природное поведение человека, в его ощущение, созерцание, желание, потребность, влечение, и тем самым делает его вообще человеческим, хотя бы только формально, представлениями и целями. Преимуществом языка является то, что он обладает богатством логических выражений, именно своеобразных и отделенных для самих определений мысли; многие предлоги, артикли уже принадлежат к таким отношениям, основанным на мышлении; китайский язык, говорят, в своем развитии вовсе не достиг этого или лишь скудно; но эти частицы выступают совершенно служебно, лишь немного более обособленно, чем аугменты, флективные знаки и т.п. Гораздо важнее то, что в языке определения мысли выставлены как существительные и глаголы и так отчеканены в предметную форму; немецкий язык имеет в этом отношении много преимуществ перед другими современными языками; даже некоторые его слова обладают дальнейшей особенностью иметь не только различные, но и противоположные значения, так что в этом самом нельзя не признать спекулятивного духа языка; мышление может получить удовольствие, натыкаясь на такие слова, и находить соединение противоположностей, которое для рассудка, однако, есть бессмыслица, уже лексически наивным образом как одно слово с противоположными значениями. Философии поэтому вообще не нужна особая терминология; хотя и следует принять некоторые слова из чужих языков, которые, однако, уже через употребление получили в ней гражданство, аффектированный пуризм был бы там, где дело всего решительнее, всего менее на месте. – Прогресс образования вообще и в частности наук, даже эмпирических и чувственных; поскольку они движутся в общем в самых обычных категориях (например, целого и частей, вещи и ее свойств и подобном), постепенно выводит на свет и более высокие мыслительные отношения или по крайней мере возвышает их к большей всеобщности и тем самым к более пристальному вниманию. Если, например, в физике определение мысли силы стало преобладающим, то в новейшее время категория полярности, которая, впрочем, слишком… наперекор и поперек… внедряется во все, даже в свет, играет значительнейшую роль, – определение различия, в котором различенные неразрывно связаны; – что таким образом от формы абстракции, тождества, посредством которой определенность, например, как сила, получает самостоятельность, отошли, и форма определения, различия, который одновременно остается в тождестве как нераздельное, была выдвинута и стала привычным представлением, – это имеет бесконечную важность. Наблюдение природы приносит с собой это принуждение, благодаря реальности, в которой ее объекты удерживаются, фиксировать категории, которые в ней уже нельзя игнорировать, хотя бы с величайшей непоследовательностью по отношению к другим, которые также признаются действенными, и не позволять, как это легче происходит в духовном, переходить к абстракциям от противоположности и к всеобщности.
Но если таким образом логические объекты, как и их выражения, пожалуй, в образовании всеобще известны, то, как я говорил в другом месте, то, что известно, тем самым не познано, и это может даже вызывать нетерпение, что нужно еще заниматься известным, и что известнее, чем как раз определения мысли, которыми мы повсюду пользуемся, которые при каждом произносимом нами предложении срываются у нас с языка. Указать общие моменты относительно хода познания от этого известного, относительно отношения научного мышления к этому естественному мышлению – должно быть задачей этого предисловия; столько, вместе с тем, что содержит прежнее введение, будет достаточно, чтобы дать общее представление (какое обычно требуют получить о науке заранее, до нее, которая есть сама вещь) о смысле логического познания.
Прежде всего, следует рассматривать как бесконечный прогресс то, что формы мысли освобождены от материала, в который они погружены в самосознательном созерцании, представлении, как и в нашем желании и волении (или, вернее, также в представляющем желании и волении – и нет человеческого желания или воления без представления), эти всеобщности выделены для себя и сделаны предметом рассмотрения для себя, как сделали Платон, а затем преимущественно Аристотель; это дает начало их познанию. "Только после того, как было налицо почти все необходимое", говорит Аристотель, "и что относится к удобству и общению жизни, люди начали заботиться о философском познании". "В Египте", замечал он ранее, "математические науки развились рано, потому что там жреческое сословие рано было поставлено в положение иметь досуг". – В действительности потребность заниматься чистыми мыслями предполагает долгий путь, который должен был пройти человеческий дух; это, можно сказать, есть потребность уже удовлетворенной потребности необходимости в отсутствии потребностей, к которому он должен был прийти, абстракции от материала созерцания, воображения и т.д., конкретных интересов желания, влечений, воли, в каковом материале определения мысли закутаны и застряли. В тихих пространствах пришедшего к себе и только в себе сущего мышления молчат интересы, которые движут жизнью народов и индивидов. "Со столь многих сторон", говорит Аристотель в том же контексте, "зависима природа человека, но эта наука, которую ищут не для употребления, единственная есть свободная сама по себе и для себя, и потому она, кажется, не есть человеческое достояние". – Философия вообще имеет дело еще с конкретными объектами, Богом, природой, духом, в их мыслях, но логика занимается исключительно только с ними для себя в их полной абстракции. Поэтому эту логику обычно поручают изучению юности, как еще не вступившей в интересы конкретной жизни, живущей в досуге относительно них, и имеющей лишь для своей субъективной цели заняться приобретением средств и возможностей действовать в объектах тех интересов, себя и с ними самими еще теоретически. В число этих средств, в противовес приведенному представлению Аристотеля, включается логическая наука, занятие ею есть предварительная работа, ее место – школа, после которой должен следовать серьез жизни и деятельность для истинных целей. В жизни доходят до употребления категорий, они низводятся с чести рассматриваться для себя до того, чтобы служить в духовном предприятии живого содержания при создании и обмене относящихся к нему представлений, – отчасти как сокращения благодаря своей всеобщности; – ибо какое бесконечное множество единичностей внешнего существования и деятельности охватывает представление битва, война, народ или море, животное и т.д.; – как в представлении: Бог или любовь и т.д. в простоту такого представления эпитомировано бесконечное множество представлений, деятельности, состояний и т.д.! – Отчасти для более точного определения и нахождения предметных отношений, причем, однако, содержание и цель, правильность и истинность вмешивающегося мышления полностью зависят от наличного самого по себе, и определениям мысли для себя не приписывается никакая определяющая содержание действенность. Такое употребление категорий, которое ранее называлось естественной логикой, бессознательно, и если в научной рефлексии им назначается отношение служить средствами в духе, то мышление вообще делается чем-то подчиненным другим духовным определениям. О наших ощущениях, влечениях, интересах мы не скажем, что они нам служат, но они считаются самостоятельными силами и мощностями, так что мы сами есть это – так ощущать, это желать и хотеть, вкладываться в этот наш интерес. Но, в свою очередь, скорее может стать нашим сознанием, что мы стоим на службе у наших чувств, влечений, страстей, интересов, к тому же привычек, чем что мы обладаем ими, тем более что они при нашей внутренней единственности с ними служат нам как средства. Подобные определения души и духа показываются нам скоро как особенные в противоположность всеобщности, как коей мы осознаем себя, в которой мы имеем нашу свободу, и считают, что скорее запутаны в этих особенностях, управляемы ими. Посему мы можем еще менее считать, что формы мысли, пронизывающие все наши представления, будь они чисто теоретическими или содержащими материал, принадлежащий ощущению, влечению, воле, служат нам, что мы обладаем ими, а не они скорее нами; что у нас осталось против них, как должен я, как всеобщее, возвыситься над ними, они, которые сами суть всеобщее как таковое. Если мы вкладываемся в ощущение, цель, интерес и чувствуем себя в них ограниченными, несвободными, то место, куда мы способны оттуда выйти и вернуться к свободе, есть это место уверенности в себе, чистой абстракции, мышления. Или точно так же, если мы хотим говорить о вещах, то мы называем их природу или сущность их понятием, и он есть только для мышления; но о понятиях вещей мы еще менее скажем, что мы господствуем над ними или что определения мысли, комплексом которых они являются, служат нам, напротив, наше мышление должно ограничиваться ими, и наша произвольность или свобода не должна хотеть приспособлять их по себе. Поскольку, таким образом, субъективное мышление есть наше собственное, глубочайшее деяние, а объективное понятие вещей составляет саму вещь, мы не можем выйти из этого деяния, не можем стоять над ним, и точно так же не можем выйти за пределы природы вещей. Однако от последнего определения мы можем отвлечься; оно совпадает с первым постольку, поскольку оно есть отношение наших мыслей к вещи, но давало бы лишь нечто пустое, ибо вещь тем самым была бы выставлена как правило для наших понятий, но именно вещь для нас не может быть ничем иным, кроме наших понятий о ней. Если критическая философия понимает отношение этих трех терминов так, что мы ставим мысли между нами и между вещами как середину в том смысле, что эта середина скорее отгораживает нас от вещей, вместо того чтобы соединять нас с ними, то против этого воззрения следует выставить простое замечание, что именно эти вещи, которые должны стоять по ту сторону нас и по ту сторону относящихся к ним мыслей на другом краю, сами суть мыслимые вещи, и как совершенно неопределенные, только одна мыслимая вещь (– так называемая вещь-в-себе) – пустая абстракция сама по себе.
Однако этого, пожалуй, достаточно для точки зрения, с которой исчезает отношение, согласно которому определения мысли берутся только для употребления и как средства; важнее связанное с этим далее, согласно которому они обычно схватываются как внешние формы. – Пронизывающая все наши представления, цели, интересы и действия деятельность мышления есть, как сказано, бессознательно деятельная (естественная логика); то, что наше сознание имеет перед собой, есть содержание, объекты представлений, то, чем наполнен интерес; определения мысли считаются согласно этому отношению формами, которые только присущи содержанию, а не само содержание. Но если верно то, что указано ранее, и что в общем признается, что природа, своеобразная сущность, истинно пребывающее и субстанциальное при многообразии и случайности явления и мимолетном выражении, есть понятие вещи, всеобщее в ней самой, как каждый человеческий индивид, хотя и бесконечно своеобразный, имеет в себе как prius всей своей особенности быть человеком, как каждое отдельное животное – prius быть животным: то нельзя было бы сказать, что осталось бы от такого индивида, если бы от снабженного столь многими другими предикатами была отнята эта основа, хотя она, как и другие, может быть названа предикатом. Необходимая основа, понятие, всеобщее, которое есть мысль, поскольку от представления при слове "мысль" можно абстрагироваться, само по себе не может рассматриваться лишь как безразличная форма, присущая содержанию. Но эти мысли всех природных и духовных вещей, даже субстанциальное содержание, еще таковы, что содержат многообразные определенности и имеют на себе еще различие души и тела, понятия и относительной реальности; более глубокая основа есть душа для себя, чистое понятие, которое есть внутреннее объектов, их простой жизненный пульс, как и самого субъективного мышления их. Довести до сознания эту логическую природу, которая одушевляет дух, движет и действует в нем, – вот задача. Инстинктивное действие отличается от разумного и свободного вообще тем, что последнее совершается с сознанием, поскольку содержание движущего выведено из непосредственного единства с субъектом в предметность перед ним, начинается свобода духа, который в инстинктивном действии мышления запутан в узах своих категорий и раздроблен в бесконечно многообразный материал. В этой сети здесь и там завязываются более прочные узлы, которые суть точки опоры и направления его жизни и сознания; своей прочностью и силой они обязаны именно тому, что суть вынесенные перед сознанием в-себе-и-для-себя-бытийствующие понятия его сущности. Важнейший пункт для природы духа есть отношение не только того, что он есть в себе, к тому, что он есть в действительности, но и того, как он знает себя; это знание себя есть потому, что он по существу сознание, основное определение его действительности. Очистить эти категории, которые действенны только инстинктивно как влечения и сначала разрознены, тем самым изменчивы и запутанно вносятся в сознание духа и дают ему тем самым разрозненную и неуверенную действительность, и возвысить его тем самым в них к свободе и истине, – вот это и есть высшее логическое дело.
То, что мы указали как начало науки, чья высокая ценность сама по себе и одновременно как условие истинного познания была ранее признана, – трактовать понятия и моменты понятия вообще, определения мысли сначала как формы, отличные от материала и лишь присущие ему, – это сразу само собой выдает себя как поведение, неадекватное истине, которая указана как объект и цель логики. Ибо так, как только формы, как отличные от содержания, они принимаются в определенности, которая клеймит их как конечные и делает неспособными схватить истину, которая в себе бесконечна. Пусть истинное, в каком бы отношении оно ни было, снова связано с ограниченностью и конечностью, – это есть сторона его отрицания, его неистинности и недействительности, именно его конца, а не утверждения, которым оно как истинное является. Против голости только формальных категорий инстинкт здравого рассудка наконец почувствовал себя столь окрепшим, что предает их знание с презрением области школьной логики и школьной метафизики, одновременно с пренебрежением к ценности, которую уже само сознание этих нитей имеет для себя, и с бессознательностью того, что в инстинктивном действии естественной логики, еще более в рефлектированном отвержении знания и познания самих определений мысли, пленен на службе неочищенного и тем самым несвободного мышления. Простая основная определенность или общая формальная определенность собрания таких форм есть тождество, которое как закон, как А=А, как закон противоречия утверждается в логике этого собрания. Здравый рассудок настолько потерял свое почтение к школе, обладающей такими законами истины и до сих пор ведущейся в них, что смеется над ней за это и считает невыносимым человека, который умеет говорить истину по таким законам: растение есть растение, наука есть наука, и так далее до бесконечности. Над формулами, которые суть правила умозаключения, действительно главного употребления рассудка, – как бы несправедливо ни было не признавать, что они имеют свое поле в познании, где должны иметь силу и одновременно суть существенный материал для мышления разума, – столь же справедливое сознание установило, что они безразличные средства по меньшей мере в равной степени заблуждения и софистики и, как бы ни определяли истину иначе, непригодны для высшей, например, религиозной истины; что они касаются вообще только правильности познаний, а не истины.
Неполноту этого способа рассматривать мышление, оставляющего истину в стороне, можно восполнить единственно тем, что в мыслящее рассмотрение втягивается не только то, что обычно считается внешней формой, но и содержание. Вскоре само собой показывается, что то, что при ближайшем обычном рефлектировании отделяется как содержание от формы, в действительности не должно быть бесформенным, неопределенным в себе; тогда оно было бы только пустотой, примерно абстракцией вещи-в-себе; – что оно, напротив, имеет форму в себе самом, да и только через нее одушевленность и содержание, и что сама форма только переворачивается в видимость содержания, а тем самым и в видимость внешнего по отношению к этой видимости. С введением содержания в логическое рассмотрение объектом становятся не вещи, а вещь, понятие вещей.
При этом можно, однако, напомнить, что существует множество понятий, множество вещей. Но чем ограничено это множество, отчасти сказано ранее, что понятие как мысль вообще, как всеобщее, есть неизмеримое сокращение против единичности вещей, как их множество предносится неопределенному созерцанию и представлению; отчасти же понятие есть сразу во-первых понятие в нем самом, и оно есть только одно, и есть субстанциальная основа; во-вторых же, оно, правда, определенное понятие, чья определенность есть то, что является как содержание, но определенность понятия есть формальная определенность этой субстанциальной единицы, момент формы как тотальности, самого понятия, которое есть основа определенных понятий. Оно не созерцается и не представляется чувственно; оно есть только объект, продукт и содержание мышления, и в-себе-и-для-себя-бытийствующая вещь, Логос, разум того, что есть, истина того, что носит имя вещей; менее всего это Логос, что должно быть оставлено вне логической науки. Поэтому не должно быть произволом втягивать его в науку или оставлять снаружи. Если определения мысли, которые суть только внешние формы, истинно рассматриваются в них самих, то может выступить только их конечность и неистинность их долженствования-быть-для-себя и как их истина – понятие. Поэтому логическая наука, трактуя определения мысли, которые вообще инстинктивно и бессознательно пронизывают наш дух и даже входя в язык, остаются необъективными, незамеченными, будет также реконструкцией тех, которые выделены рефлексией и ею фиксированы как субъективные, внешние формы по отношению к материалу и содержанию.
Изложение никакого объекта не было бы само по себе способно быть столь строго имманентно пластичным, как изложение развития мышления в его необходимости; ни один не нес в себе столь сильно этого требования; его наука должна была бы в этом превзойти также и математику, ибо ни один объект не имеет в себе этой свободы и независимости. Такое изложение требовало бы, как это в своем роде имеется в ходе математической последовательности, чтобы ни на одной ступени развития не встречалось определение мысли и рефлексия, которые не возникали бы непосредственно на этой ступени и не перешли бы в нее из предшествующих. Однако от такой абстрактной совершенности изложения, конечно, вообще приходится отказываться; уже то, что наука должна начинать с чистого простого, тем самым всеобщего и пустого, изложение допускало бы только эти совершенно простые выражения простого без всякого дальнейшего добавления какого-либо слова; – что по существу дела могло бы иметь место, были бы отрицательные рефлексии, которые старались бы предотвратить и удалить то, что иначе представление или неупорядоченное мышление могли бы подмешать. Однако такие привходящие мысли в простой имманентный ход развития сами по себе случайны, и старание отразить их оказывается поэтому обремененным этой случайностью; к тому же тщетно хотеть встретить все такие привходящие мысли, именно потому что они лежат вне вещи, и по меньшей мере неполнотой было бы то, чего здесь требовали бы для систематического удовлетворения. Но свойственное нашему современному сознанию беспокойство и рассеянность не допускают иного, как также более или менее принимать во внимание ближайшие рефлексии и привходящие мысли; пластическое изложение требует тогда также пластического смысла восприятия и понимания; но такие пластические юноши и мужчины, столь спокойные, с самоотречением от собственных рефлексий и привходящих мыслей, с которым нетерпеливо спешит проявить себя самостоятельное мышление, только следующие за вещью слушатели, каких изображает Платон, не могли бы быть представлены в современном диалоге; еще менее можно было бы рассчитывать на таких читателей. Напротив, мне слишком часто и слишком яростно показывали таких противников, которые не хотели сделать простой рефлексии, что их привходящие мысли и возражения содержат категории, которые суть предпосылки и сами нуждаются в критике, прежде чем их употреблять. Бессознательность в этом отношении простирается невероятно далеко; она составляет основное недоразумение, дурное, т.е. необразованное поведение – при рассматриваемой категории мыслить что-то другое, а не саму эту категорию. Эта бессознательность тем менее извинительна, что такое другое есть другие определения мысли и понятия, но в системе логики именно эти другие категории точно так же должны найти свое место и там будут подвергнуты рассмотрению для себя. Наиболее поразительно это в подавляющем множестве возражений и нападок на первые понятия или положения логики, бытие и ничто и становление, которое, будучи само простой определенностью, пожалуй, бесспорно – простейший анализ показывает это – содержит те две определенности как моменты. Основательность, кажется, требует прежде всего исследовать начало как основание, на котором построено все, даже не идти дальше, пока оно не окажется твердо доказанным, напротив, скорее, если это не так, отвергнуть все последующее. Эта основательность имеет одновременно то преимущество, что предоставляет величайшее облегчение для мыслительного дела; она заключила все развитие в этот зародыш перед собой и считает себя покончившей со всем, когда покончила с ним, который есть самое легкое для устранения, ибо он есть простое, само простое; это та небольшая работа, которая требуется, чем эта столь самодовольная основательность существенно рекомендует себя. Это ограничение простым предоставляет произволу мышления, которое не хочет оставаться простым, но применяет к нему свои рефлексии, свободный простор. С добрым правом заниматься сначала только принципом и не вдаваться в дальнейшее, эта основательность в своем деле делает противоположное этому, скорее вносит дальнейшее, т.е. другие категории, чем только принцип, другие предпосылки и предрассудки. Такие предпосылки, что бесконечное отлично от конечного, содержание есть нечто иное, чем форма, внутреннее есть иное, чем внешнее, опосредствование точно так же не есть непосредственность, как будто кто не знает подобного, выдвигаются одновременно поучающе и не столько доказываются, сколько рассказываются и заверяются. В таком поучении как поведении лежит – нельзя назвать это иначе – глупость; по существу же дела отчасти неправомерность только предполагать и прямо принимать подобное, отчасти же еще более невежество, что именно потребность и дело логического мышления – исследовать, есть ли так нечто конечное без бесконечного истинным, равно как такая абстрактная бесконечность, далее, бесформенное содержание и бессодержательная форма, так внутреннее для себя, не имеющее внешнего проявления, внешность без внутренности и т.д. – нечто истинное, равно как нечто действительное. – Но это образование и дисциплина мышления, посредством которых достигается пластическое поведение его и преодолевается нетерпение привходящей рефлексии, обретаются единственно через продвижение вперед, изучение и продуцирование всего развития.
При упоминании платоновского изложения тот, кто трудится возвести в новое время самостоятельное здание философской науки, может быть напомнен о рассказе, что Платон семь раз перерабатывал свои книги о государстве. Воспоминание об этом, сравнение, поскольку оно, казалось бы, заключало в себе таковое, могло бы лишь тем сильнее довести до желания, чтобы для произведения, принадлежащего современному миру, имеющего перед собой более глубокий принцип, более трудный предмет и материал более богатого объема для обработки, была бы предоставлена свободная досужесть семьдесят семь раз переработать его. Но так автор, рассматривая его перед лицом величины задачи, должен был удовольствоваться тем, что оно могло стать, при обстоятельствах внешней необходимости, неизбежного отвлечения величием и многосторонностью временных интересов, даже под сомнением, оставляет ли громкий шум дня и оглушительная болтовня воображения, тщеславно ограничивающегося им, еще место для участия в бесстрастной тишине лишь мыслящего познания.
Берлин, 7 ноября 1831.
Гегель начинает с того, что осознает огромную сложность переработки своей "Науки логики". Он знает, что первое издание было несовершенным, и хотя он годами работал над улучшением, все равно просит снисходительности читателя. Почему? Потому что его задача была революционной.
1. Почему нужна Новая Логика?
Критика старой логики и метафизики: Предшествующая логика (традиционная, формальная) и метафизика были слишком поверхностны и механистичны. Они просто повторяли и перетаскивали старые идеи ("балласт"), не углубляясь в суть. Они работали с "внешним материалом", но не затрагивали спекулятивное (диалектическое, глубоко философское) ядро мысли.
Цель новой Логики: Представить само "царство мысли" – не как набор правил, а как живой, развивающийся процесс, управляемый своей внутренней необходимостью. Это должен быть показ мысли в ее собственной имманентной деятельности и развитии. Это совершенно новый проект, требующий начала с самого начала.
2. Мысль, Язык и Логическое
Мысль – суть человека: Отличие человека от животного – мышление. Логическое не чуждо нам, это наша собственная природа.
Язык – дом мысли: Мыслительные формы (категории) изначально заложены в языке. Все, что мы выражаем словами (внутренние переживания, представления, цели), уже содержит в себе логические категории. Логика – это "сверхъестественное", пронизывающее все человеческое поведение (ощущения, желания и т.д.) и делающее его собственно человеческим.
Преимущество языка: Чем богаче язык специфическими выражениями для мысленных определений, тем лучше. Немецкий язык, по мнению Гегеля, обладает особыми достоинствами: многие его слова имеют не только разные, но и противоположные значения, что отражает спекулятивный (диалектический) дух, способный удерживать единство противоположностей. Поэтому философии не нужна особая искусственная терминология.
3. Обыденное и Научное Мышление. Проблема "Известного"
Логические категории – "все известны": Мы постоянно пользуемся категориями (бытие, причина, целое/часть и т.д.) в повседневной речи и мышлении ("естественная логика").
Но известное ≠ познанное: То, что мы привычно используем, не означает, что мы это понимаем. Это вызывает даже раздражение: зачем изучать то, что и так "знакомо"?
Задача Предисловия (и Логики): Как раз объяснить разницу между обыденным ("естественным") мышлением и научно-философским мышлением. Как мы переходим от первого ко второму? Какова природа логического познания?
4. История и Необходимость Логики
Выделение форм мысли – прогресс: Великая заслуга Платона и особенно Аристотеля в том, что они начали выделять чистые формы мысли из того материала (ощущений, желаний, представлений), в котором они обычно погружены, и сделали их самостоятельным предметом изучения.
Логика требует досуга (свободы): Как отмечал Аристотель, философия (и логика как ее часть) возникает, когда удовлетворены насущные потребности. Это "наука, ищущаяся не для употребления", самая свободная. Она требует отвлечения от конкретных жизненных интересов и погружения в "тишину мышления".
5. Логика как Наука Чистой Мысли
Предмет Логики: В отличие от других философских дисциплин (о Боге, природе, духе), логика имеет дело только с чистыми мыслями (категориями, определениями мысли) в их полнейшей абстракции, отвлечении от всякого конкретного содержания.
Место Логики в образовании: Из-за своей абстрактности логика часто изучается в юности, как подготовительная школа перед "серьезом жизни". В самой жизни категории используются как "служебные средства" для конкретных целей, их самостоятельная ценность забывается.
6. Критика Формальной Логики и Формального Подхода
Формы ≠ внешняя оболочка: Главная ошибка прежней логики – рассматривать мыслительные формы как внешние, безразличные к содержанию, как пустые схемы, которые лишь применяются к материалу. Это делает их конечными и неспособными постичь бесконечную истину.
Протест "здорового рассудка": Из-за этой пустоты ("растение есть растение") люди презирают формальную логику, считая ее бесполезной для настоящей (особенно религиозной) истины, годной лишь для "правильности", а не истинности.
Форма и Содержание нераздельны: Гегель утверждает, что истинное содержание не бесформенно, а сама форма не пуста. Форма – это душа, оживляющая содержание. Отделить их нельзя. Поэтому логика должна рассматривать не только форму, но и содержание – но не эмпирическое содержание вещей, а саму мысль как содержание, "Понятие" (Бegriff), Логос – разумную основу всего сущего, истину вещей. Это сама вещь в ее понятийной сути.
Понятие – основа всего: Есть одно абсолютное Понятие (Логос), которое конкретизируется во множестве определенных понятий. Это не чувственный образ, а продукт мышления, разумная сущность мира. Оно должно быть предметом логики, его нельзя исключать.
7. Задача Логики: От Бессознательного к Свободе
"Очищение" категорий: В обыденном мышлении категории действуют инстинктивно, бессознательно, разрозненно, запутанно. Они как "узлы" в сети нашего сознания, дающие опору, но нуждающиеся в прояснении.
Свобода духа: Задача логики – очистить эти категории, возвысить дух до сознательного владения ими, преодолеть их разрозненность и тем самым обрести в них свободу и истину. Это "высшее логическое дело". Сознание своих собственных форм мышления – ключ к свободе духа, освобождению от власти бессознательных влечений и представлений.
8. Метод: Имманентное Развитие и Трудности Изложения
Идеал: "Пластическое" изложение: Логика должна излагать развитие мысли имманентно, строго показывая, как каждая ступень с необходимостью вытекает из предыдущей, без привнесения внешних соображений. Это развитие должно быть внутренне необходимым, как в математике, но даже превосходить ее по строгости, так как мысль абсолютно свободна и независима.
Трудности на практике: Однако достичь такой совершенной "пластичности" невозможно. Начало (чистое Бытие) крайне абстрактно и требует пояснений, чтобы отсечь ложные ассоциации. Современное сознание рассеянно и требует учета возможных возражений и непонимания. Читатели часто не видят, что их возражения сами основаны на непроанализированных категориях, которые как раз и должны быть рассмотрены в системе логики позже. Особенно много непонимания вызывают первые категории (Бытие, Ничто, Становление).
Проблема "основательности": Многие требуют сначала "доказать" начало (Бытие), прежде чем идти дальше. Но это заблуждение. Такая "основательность" на деле привносит другие, непроверенные предпосылки (например, различие конечного и бесконечного). Истинное понимание приходит только в процессе изучения всей системы развития мысли, а не в застревании на начале.
Заключение:
Гегель завершает, сравнивая свою задачу с легендой о семи переработках Платоном "Государства". Он жалеет, что не имел возможности "семьдесят семь раз" переработать свою Логику, учитывая невероятную сложность задачи, глубину принципа, богатство материала и отвлекающий "шум" современной жизни, оставляющий мало места для "бесстрастной тишины мыслящего познания". Он публикует свой труд, сознавая его возможные несовершенства, но веря в его необходимость.
Дата: Берлин, 7 ноября 1831 г. (Заметим, Гегель умер 14 ноября 1831 г., это одно из его последних произведений).
1. Гегель строит НОВУЮ Логику. Это не учебник формальной логики. Это попытка показать, как сама мысль (в виде системы категорий) развивается по своим внутренним законам.
2. Предмет Логики – ЧИСТАЯ МЫСЛЬ. Не вещи мира, а ПОНЯТИЯ, ЛОГОС – разумная структура, лежащая в основе всего. Логика изучает "скелет" реальности.
3. Метод – ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. Категории не просто перечисляются, а выводятся друг из друга в процессе противоречия и снятия этого противоречия (Тезис -> Антитезис -> Синтез).
4. Цель – СВОБОДА через ПОЗНАНИЕ. Понимая необходимые законы собственного мышления, дух освобождается от власти бессознательных форм и обретает истину.
5. Это очень ТРУДНО. Гегель честно предупреждает о сложности предмета и изложения. Требуется усилие, чтобы преодолеть привычку к формальной логике и поверхностному мышлению.
Это предисловие – важный ключ к пониманию замысла и масштаба всей "Науки логики".
Субъективная логика, или: Учение о понятии.
Эта часть логики, содержащая учение о понятии и составляющая третью часть целого, издаётся также под особым заглавием: Система субъективной логики, для удобства тех друзей этой науки, которые привыкли проявлять больший интерес к рассматриваемым здесь вопросам, охватываемым объёмом так называемой обычной логики, чем к более широким логическим предметам, разобранным в двух первых частях.
Что касается прежних частей, я мог рассчитывать на снисхождение беспристрастных судей из-за недостатка предварительных работ, которые могли бы дать мне опору, материал и нить для дальнейшего продвижения. В настоящем же случае я скорее могу просить этого снисхождения по противоположной причине: поскольку для логики понятия имеется вполне готовый и затвердевший, можно сказать, окостеневший материал, и задача состоит в том, чтобы привести его в текучее состояние и вновь возжечь живое понятие в этом мёртвом веществе. Если построить новый город в пустынной местности сопряжено с трудностями, то при перепланировке старого, прочно построенного, постоянно обитаемого города материала хоть и достаточно, но тем больше препятствий другого рода; среди прочего приходится решиться вовсе не использовать многое из того, что прежде считалось ценным запасом.
Главным же образом величие самого предмета может служить оправданием несовершенного исполнения. Ибо какой предмет возвышеннее для познания, чем сама истина? Однако сомнение, не нуждается ли именно этот предмет в оправдании, не лишено основания, если вспомнить смысл, в котором Пилат произнёс вопрос: «Что есть истина?» – по словам поэта:
«С видом царедворца, близоруко, но с улыбкой осуждающего серьёзное дело».
Тогда этот вопрос заключает в себе смысл, который можно считать моментом вежливости, и напоминание о том, что цель – познать истину – есть нечто, как известно, оставленное, давно упразднённое, и недостижимость истины даже среди философов и профессиональных логиков есть нечто общепризнанное?
Но если в наше время вопрос религии о ценности вещей, воззрений и поступков, имеющий по содержанию тот же смысл, вновь отстаивает свои права, то философия, должно быть, вправе надеяться, что её стремление вновь утвердить свою истинную цель – прежде всего в своей непосредственной сфере – и, после того как она опустилась до способа и непритязательности других наук в отношении истины, вновь подняться к ней, не будет казаться столь удивительным.
Что касается этой попытки, то, собственно, нельзя позволить себе оправдываться; но относительно её исполнения я могу ещё упомянуть в своё оправдание, что мои служебные обязанности и другие личные обстоятельства позволяют мне заниматься этой наукой лишь урывками, тогда как она требует и заслуживает сосредоточенного и непрерывного усилия.
Нюрнберг, 21 июля 1816 г.
Эта часть "Науки логики" Гегеля посвящена учению о понятии и завершает систему логики. Она также издавалась отдельно под названием "Система субъективной логики" – для тех, кто больше интересуется традиционными вопросами логики (как в обычных учебниках), чем более сложными метафизическими проблемами, рассмотренными в первых двух частях.
Трудности работы с понятием.
В предыдущих разделах логики Гегель мог рассчитывать на снисхождение читателей, поскольку там не было готовых предшествующих исследований, которые могли бы служить опорой. Здесь же ситуация обратная: материал о понятии существует, но он окостенел, превратился в сухую схему. Задача теперь – не строить новое на пустом месте, а оживить уже существующее, преодолеть застывшие формы и вернуть понятию его динамическую природу.
Это похоже на перестройку старого города: материала много, но приходится сталкиваться с сопротивлением устоявшихся структур и отказываться от многого, что раньше считалось ценным.
Истина как высшая цель.
Главное оправдание возможных недостатков изложения – величие самого предмета. Что может быть важнее для познания, чем истина? Однако вопрос Пилата "Что есть истина?" звучит сегодня с иронией: многие считают, что истина недостижима, а её поиски – устаревшее занятие.
Но если в религии и морали вновь поднимаются вопросы о ценности и смысле, то почему философия не может вернуться к своей изначальной задаче – поиску истины? После периода, когда она опустилась до уровня обычных наук, пришло время вновь возвысить её значение.
Оправдание автора.
Гегель признаёт, что его работа могла бы быть лучше, но объясняет возможные недостатки нехваткой времени: из-за служебных обязанностей и личных обстоятельств он вынужден был работать урывками, тогда как такая наука требует непрерывного и глубокого сосредоточения.
Нюрнберг, 21 июля 1816 г.
Проверочные вопросы.
1. Чем субъективная логика отличается от предыдущих частей "Науки логики"?
2. Почему Гегель сравнивает работу над понятием с перестройкой старого города?
3. Как автор объясняет возможные недостатки своего изложения?
4. Какое значение имеет вопрос Пилата "Что есть истина?" для понимания задач логики?
5. Почему, по мнению Гегеля, философия должна вновь обратиться к поиску истины?
Введение
«О понятии вообще».
Не пытайтесь "проглотить" много за один раз. Лучше 5 страниц с пониманием, чем 20 без осмысления.
То, что представляет собой природу понятия, так же мало может быть указано непосредственно, как и понятие любого другого предмета может быть непосредственно установлено. Может показаться, что для указания понятия предмета уже предполагается логическое, и, следовательно, оно само не может иметь впереди себя нечто другое, не может быть производным, подобно тому как в геометрии логические положения, применяемые к величине и используемые в этой науке, выступают в форме аксиом – невыводимых и недоказуемых определений познания. Хотя понятие следует рассматривать не только как субъективное предположение, но и как абсолютную основу, оно может быть таковым лишь постольку, поскольку само сделало себя основой. Абстрактно-непосредственное, конечно, есть первое; но как это абстрактное оно, скорее, есть опосредствованное, у которого, если его следует постичь в его истине, сначала нужно искать его основу. Эта основа, таким образом, должна быть, конечно, непосредственной, но так, что она сделала себя непосредственным через снятие опосредствования.
Понятие с этой стороны следует прежде всего вообще рассматривать как третье по отношению к бытию и сущности, к непосредственному и рефлексии. Бытие и сущность суть моменты его становления; но оно – их основа и истина как тождество, в котором они исчезли и содержатся. Они содержатся в нём, поскольку оно есть их результат, но уже не как бытие и сущность; это определение они имеют лишь постольку, поскольку ещё не вернулись в это своё единство.
Объективная логика, рассматривающая бытие и сущность, составляет, таким образом, собственно генетическое изложение понятия. Более конкретно, субстанция есть уже реальная сущность, или сущность, поскольку она соединена с бытием и вступила в действительность. Поэтому понятие имеет субстанцию своей непосредственной предпосылкой; она есть в-себе-бытие того, что понятие есть как проявленное. Диалектическое движение субстанции через причинность и взаимодействие есть, следовательно, непосредственное становление понятия, через которое изображается его возникновение. Но его становление, как и всякое становление, имеет тот смысл, что оно есть рефлексия переходящего в своё основание, и что то, что сначала кажется другим, в которое перешло первое, составляет его истину. Таким образом, понятие есть истина субстанции, и поскольку определённый способ отношения субстанции есть необходимость, свобода проявляется как истина необходимости и как способ отношения понятия.
Собственное, необходимое дальнейшее определение субстанции есть полагание того, что есть в-себе-и-для-себя-бытие; понятие же есть эта абсолютная тождественность бытия и рефлексии, так что в-себе-и-для-себя-бытие есть лишь постольку, поскольку оно столь же есть рефлексия или положенность, и поскольку положенность есть в-себе-и-для-себя-бытие. – Этот абстрактный результат поясняется через изложение его конкретного становления; оно содержит природу понятия; но оно должно предшествовать его рассмотрению. Главные моменты этого изложения (которое подробно рассмотрено во второй книге объективной логики) здесь следует кратко объединить:
Субстанция есть абсолютное, в-себе-и-для-себя-сущее действительное; в себе – как простая тождественность возможности и действительности, абсолютная сущность, содержащая в себе всю действительность и возможность; для себя – эта тождественность как абсолютная мощь или просто относящаяся к себе отрицательность. – Движение субстанциальности, положенное через эти моменты, состоит в следующем:
1. Субстанция как абсолютная мощь или относящаяся к себе отрицательность различает себя в отношение, в котором те сначала суть лишь простые моменты – как субстанции и как первоначальные предпосылки. Определённое отношение их есть отношение пассивной субстанции – первоначальности простого в-себе-бытия, которое, бессильное, не полагающее себя, есть лишь первоначальная положенность, – и активной субстанции относящейся к себе отрицательности, которая как таковая положила себя как иное и относится к этому иному. Это иное есть как раз пассивная субстанция, которую она в первоначальности своей мощи предположила себе как условие. Это предположение следует понимать так, что движение субстанции само сначала находится под формой одного из моментов её понятия – в-себе-бытия, что определённость одной из субстанций, стоящих в отношении, есть также определённость самого этого отношения.
2. Другой момент есть для-себя-бытие, или то, что мощь полагает себя как относящуюся к себе отрицательность, благодаря чему она снимает предположенное. – Активная субстанция есть причина; она действует; это значит, что она теперь есть полагание, подобно тому как раньше она была предположением, а) Мощи даётся также видимость мощи, положенности – видимость положенности. То, что в предположении было первоначальным, становится в причинности через отношение к иному тем, что оно есть в себе; причина производит действие, и именно в другой субстанции; она теперь есть мощь в отношении к иному; она выступает как причина, но становится ею лишь через это выступление. – К пассивной субстанции приходит действие, благодаря которому она как положенность теперь также выступает, но лишь в этом есть пассивная субстанция.
3. Но здесь есть ещё больше, чем просто это явление; а именно:
a) Причина действует на пассивную субстанцию; она изменяет её определённость; но эта определённость есть положенность, иначе в ней нечего изменять; другая же определённость, которую она получает, есть причинность; пассивная субстанция становится, таким образом, причиной, мощью и деятельностью.
b) На ней полагается действие причиной; но то, что положено причиной, есть сама причина, тождественная с собой в действии; это она, которая ставит себя на место пассивных субстанций. – Точно так же в отношении активной субстанции:
a) Действие есть перевод причины в действие, в её иное, положенность, и
b) В действии причина проявляется как то, что она есть; действие тождественно с причиной, а не есть иное; причина, таким образом, в действии показывает положенность как то, что она есть по существу. – Таким образом, с обеих сторон – как тождественного, так и отрицательного отношения другого к ней – каждая становится противоположностью самой себе; но это противоположное каждая становится так, что другая, а значит, и каждая, остаётся тождественной с собой. – Однако и то, и другое – тождественное и отрицательное отношение – есть одно и то же; субстанция лишь в своём противоположном тождественна с собой, и это составляет абсолютную тождественность положенных как две субстанций. Активная субстанция через действие, то есть полагая себя как противоположность самой себе, что в то же время есть снятие её предположенного инобытия – пассивной субстанции, проявляется как причина или первоначальная субстанциальность. Наоборот, через воздействие положенность как положенность, отрицательное как отрицательное, а значит, пассивная субстанция как относящаяся к себе отрицательность, проявляется; и причина в этом ином самой себя просто совпадает с собой. Через это полагание предположенная или в-себе-бытийная первоначальность становится для-себя-бытием; но это в-себе-и-для-себя-бытие есть лишь постольку, поскольку это полагание столь же есть снятие предположенного, или абсолютная субстанция лишь из и в своей положенности возвратилась к самой себе и тем самым абсолютна. Это взаимодействие есть, таким образом, снимающее себя явление; откровение видимости причинности, в которой причина как причина есть то, что она – видимость. Эта бесконечная рефлексия в себя, что в-себе-и-для-себя-бытие есть лишь постольку, поскольку оно есть положенность, есть завершённость субстанции. Но эта завершённость есть уже не сама субстанция, а есть нечто высшее – понятие, субъект. Переход отношения субстанциальности происходит через его собственную имманентную необходимость и есть не что иное, как проявление её самой, что понятие есть её истина, а свобода – истина необходимости.
Уже ранее, во второй книге объективной логики (с. 194 и след., прим.), было отмечено, что философия, которая становится на точку зрения субстанции и остаётся на ней, есть система Спинозы. Там же был указан недостаток этой системы как по форме, так и по содержанию. Но другое дело – её опровержение. Относительно опровержения философской системы уже в другом месте было сделано общее замечание, что из него следует изгнать ложное представление, будто система должна быть изображена как совершенно ложная, и будто истинная система, напротив, только противоположна ложной. Из связи, в которой здесь выступает спинозовская система, сам собой вытекает её истинный пункт зрения и вопрос, истинна она или ложна. Отношение субстанциальности возникло из природы сущности; это отношение, как и его развёрнутое в систему целое, есть, следовательно, необходимая точка зрения, на которую становится абсолютное. Такой пункт зрения не следует поэтому рассматривать как мнение, субъективный, произвольный способ представления и мышления индивида, как заблуждение спекуляции; последняя, напротив, необходимо находит себя поставленной на него на своём пути, и в этом смысле система совершенно истинна. – Но это не есть высшая точка зрения. Однако лишь постольку система не может рассматриваться как ложная, нуждающаяся и способная к опровержению; ложным в ней следует считать только то, что она есть высшая точка зрения. Истинная система, следовательно, не может также находиться в отношении к ней только как противоположная; ибо тогда это противоположное само было бы односторонним. Напротив, как высшее, она должна содержать в себе подчинённое.
Опровержение не обязательно должно приходить извне, то есть исходить не из предпосылок, лежащих вне данной системы и не соответствующих ей. Ей достаточно просто не признавать эти предпосылки; недостаток существует лишь для того, кто исходит из основанных на них потребностей и требований. В этом смысле было сказано, что для того, кто не предполагает заранее решенным вопрос о свободе и самостоятельности самосознающего субъекта, не может существовать опровержения спинозизма. Более того, столь высокая и внутренне богатая позиция, как отношение субстанциальности, не игнорирует эти предпосылки, но включает их в себя: одним из атрибутов субстанции Спинозы является мышление. Напротив, она способна снять и вобрать в себя определения, при которых эти предпосылки ей противоречат, так что они проявляются в ней же, но в соответствующих ей модификациях. Нерв внешнего опровержения заключается лишь в том, чтобы упорно держаться за противоположные формы этих предпосылок, например, за абсолютное самостоятельное существование мыслящего индивида против формы мышления, как оно в абсолютной субстанции отождествляется с протяжением.
Истинное опровержение должно войти в силу противника и встать в круг его мощи; атаковать его вне его самого и добиваться правоты там, где его нет, не продвигает дело. Единственное опровержение спинозизма может, таким образом, состоять лишь в том, чтобы сначала признать его позицию существенной и необходимой, а затем возвысить ее из нее самой на более высокую ступень. Отношение субстанциальности, рассматриваемое исключительно в себе и для себя, переходит в свою противоположность – в понятие. Изложение субстанции в последней книге, которое ведет к понятию, и есть поэтому единственное и истинное опровержение спинозизма. Это раскрытие субстанции, и она есть генезис понятия, основные моменты которого были собраны выше.
Единство субстанции есть ее отношение необходимости; но так она есть лишь внутренняя необходимость; когда она полагает себя через момент абсолютной негативности, она становится проявленным или положенным тождеством, а тем самым свободой, которая есть тождество понятия. Понятие, тотальная целостность, возникающая из взаимодействия, есть единство двух субстанций взаимодействия, но теперь они принадлежат свободе, поскольку их тождество больше не слепо, то есть внутренне, но они по сути имеют определение быть видимостью или моментами рефлексии, благодаря чему каждая непосредственно соединена со своим иным или своим положенным бытием, и каждая содержит свое положенное бытие в себе самой, так что в своем ином она положена как абсолютно тождественная с собой.
В понятии, таким образом, открылось царство свободы. Оно свободно, потому что тождество, которое составляет необходимость субстанции, одновременно есть снятое или положенное бытие, и это положенное бытие, как относящееся к себе самому, есть именно то тождество. Темнота субстанций, находящихся в отношении причинности друг к другу, исчезла, ибо их изначальное самостоятельное бытие перешло в положенность и тем самым стало прозрачной ясностью для себя самой; изначальная вещь есть таковая лишь потому, что она есть причина самой себя, а это и есть субстанция, освобожденная в понятие.
Отсюда для понятия сразу следует более конкретное определение. Поскольку бытие-в-себе-и-для-себя непосредственно есть положенность, понятие в своем простом отношении к себе есть абсолютная определенность, которая, однако, как относящаяся только к себе, есть простая тождественность. Но это отношение определенности к себе, как совпадение с собой, есть в той же мере отрицание определенности, и понятие как эта равенство с собой есть всеобщее. Однако эта тождественность столь же имеет определение негативности; она есть отрицание или определенность, относящаяся к себе, и потому понятие есть единичное. Каждое из них есть тотальность, каждое содержит в себе определение другого, и потому эти тотальности столь же абсолютно суть одно, как и это единство есть различение себя в свободную видимость этой двойственности – двойственности, которая в различии единичного и всеобщего предстает как совершенная противоположность, но которая есть лишь видимость, так что, когда одно постигается и высказывается, в этом уже непосредственно содержится и выражается другое.
Изложенное выше следует рассматривать как понятие понятия. Если оно может казаться отличным от того, что обычно понимают под понятием, можно потребовать, чтобы было показано, как то, что здесь раскрылось как понятие, содержится в других представлениях или объяснениях. Однако, с одной стороны, речь не может идти о подтверждении, основанном на авторитете обыденного понимания; в науке о понятии его содержание и определение могут быть обоснованы лишь имманентной дедукцией, которая содержит его генезис и которая уже осталась позади. С другой стороны, в том, что обычно выдается за понятие понятия, должно быть узнаваемо дедуцированное здесь. Но не так легко найти то, что другие говорили о природе понятия. Ибо большинство вовсе не занимается этим поиском и предполагает, что каждый уже сам понимает, когда говорят о понятии. В последнее время можно было тем более считать себя свободным от усилий над понятием, поскольку, как одно время было модно приписывать воображению, а затем памяти всевозможные недостатки, так в философии уже давно стало привычкой – и отчасти остается до сих пор – нагромождать на понятие всю хулу, унижать его, высшее в мышлении, и считать, напротив, вершиной как научного, так и морального – непостижимое и непонимание.
Я ограничусь здесь замечанием, которое может помочь усвоению развитых здесь понятий и облегчить вхождение в них. Понятие, поскольку оно достигло такого существования, которое само свободно, есть не что иное, как Я или чистое самосознание. У меня есть понятия, то есть определенные понятия; но Я есть само чистое понятие, которое как понятие пришло к наличному бытию. Поэтому, когда вспоминают основные определения, составляющие природу Я, можно предположить, что речь идет о чем-то знакомом, то есть привычном для представления. Но Я есть, во-первых, чистое относящееся к себе единство, и это не непосредственно, а через абстрагирование от всякой определенности и содержания и возвращение в свободу безграничного равенства с собой. Так оно есть всеобщность; единство, которое лишь через это отрицательное поведение, выступающее как абстрагирование, есть единство с собой и потому содержит в себе растворенной всякую определенность. Во-вторых, Я столь же непосредственно есть относящаяся к себе негативность, единичность, абсолютная определенность, которая противостоит иному и исключает его – индивидуальная личность.
Эта абсолютная всеобщность, которая столь же непосредственно есть абсолютная единичность, и бытие-в-себе-и-для-себя, которое абсолютно есть положенность и лишь через единство с положенностью есть это бытие-в-себе-и-для-себя, составляет природу как Я, так и понятия; ни то, ни другое нельзя постичь, если не схватить указанные два момента одновременно в их абстракции и в их полном единстве.
Когда говорят обычным образом о рассудке, который у меня есть, то понимают под этим способность или свойство, находящееся в отношении к Я, как свойство вещи к самой вещи – неопределенному субстрату, который не есть истинное основание и определяющее своего свойства. Согласно этому представлению, у меня есть понятия и понятие, как у меня есть пальто, цвет и другие внешние свойства.
Кант вышел за пределы этого внешнего отношения рассудка как способности понятий и самих понятий к Я. К глубочайшим и вернейшим прозрениям «Критики чистого разума» относится то, что единство, составляющее сущность понятия, познается как изначально-синтетическое единство апперцепции, как единство «я мыслю» или самосознания. Это положение составляет так называемую трансцендентальную дедукцию категорий; однако оно всегда считалось одним из труднейших мест кантовской философии – вероятно, по той причине, что оно требует выйти за пределы простого представления отношения, в котором Я и рассудок, или понятия, стоят к вещи и ее свойствам или акциденциям, к мысли.
Объект, говорит Кант («Критика чистого разума», стр. 137, 2-е изд.), есть то, в понятии чего объединено многообразие данного созерцания. Но всякое объединение представлений требует единства сознания в их синтезе. Следовательно, это единство сознания есть то, что единственно составляет отношение представлений к объекту, стало быть, их объективную значимость, и на чем основывается сама возможность рассудка.
Кант отличает от этого субъективное единство сознания – единство представления, осознаю ли я многообразие как одновременное или последовательное, что зависит от эмпирических условий. Принципы же объективного определения представлений следует выводить исключительно из основоположения трансцендентального единства апперцепции. Через категории, которые суть эти объективные определения, многообразие данных представлений определяется так, что оно приводится к единству сознания.
Согласно этому изложению, единство понятия есть то, благодаря чему нечто есть не просто чувственное определение, созерцание или даже просто представление, но объект; эта объективная единство есть единство Я с самим собой.
Постижение объекта, собственно, состоит в том, что Я делает его своим, проникает в него и приводит его к своей собственной форме, то есть ко всеобщности, которая непосредственно есть определенность, или определенности, которая непосредственно есть всеобщность. Объект в созерцании или даже в представлении еще есть нечто внешнее, чужое. Через постижение его бытие-в-себе-и-для-себя, которое он имеет в созерцании и представлении, превращается в положенность; Я мысленно проникает в него. Но лишь в мышлении он есть в себе и для себя; в созерцании или представлении он есть явление; мышление снимает его непосредственность, с которой он первоначально предстает перед нами, и делает из него положенность; но эта его положенность есть его бытие-в-себе-и-для-себя, или его объективность.
Эту объективность объект имеет, таким образом, в понятии, и оно есть единство самосознания, в которое он был принят; его объективность, или понятие, есть поэтому само не что иное, как природа самосознания; оно не имеет иных моментов или определений, кроме самого Я.
После этого оправдывается одним из главных положений кантовской философии то, что для познания того, что есть понятие, напоминают о природе «Я». Однако, наоборот, для этого необходимо усвоить понятие «Я» так, как оно было приведено ранее. Если останавливаются на простом представлении «Я», как оно представляется нашему обыденному сознанию, то «Я» оказывается лишь простой вещью, которую также называют душой, и которой понятие присуще как владение или свойство. Это представление, которое не углубляется ни в понимание «Я», ни в понимание понятия, не может служить для облегчения или приближения постижения понятия.
Приведённое кантовское изложение содержит ещё две стороны, касающиеся понятия, и требует некоторых дополнительных замечаний. Во-первых, ступени чувства и созерцания предшествуют ступени рассудка; и существенным положением кантовской трансцендентальной философии является то, что понятия без созерцания пусты и имеют значимость только как отношение данного через созерцание многообразия. Во-вторых, понятие указано как объективное познания, следовательно, как истина. Но, с другой стороны, оно принимается за нечто лишь субъективное, из которого нельзя извлечь реальность (под которой, поскольку она противопоставлена субъективности, следует понимать объективность); и вообще понятие и логическое объявляются чем-то лишь формальным, что, поскольку оно абстрагируется от содержания, не содержит истины.
Что касается, во-первых, отношения рассудка или понятия к предшествующим ему ступеням, то здесь важно, какая наука рассматривается, чтобы определить форму этих ступеней. В нашей науке, как чистой логике, эти ступени – бытие и сущность. В психологии – чувство и созерцание, а затем представление вообще, которые предшествуют рассудку. В феноменологии духа, как учении о сознании, восходили к рассудку через ступени чувственного сознания и затем восприятия. Кант предпосылает ему только чувство и созерцание. Как неполна эта лестница ступеней, он уже сам даёт понять тем, что добавляет к трансцендентальной логике или учению о рассудке ещё трактат о рефлексивных понятиях – сферу, лежащую между созерцанием и рассудком, или между бытием и понятием.
Относительно самого дела, во-первых, следует заметить, что формы созерцания, представления и подобные принадлежат самосознательному духу, который как таковой не рассматривается в логической науке. Чистые определения бытия, сущности и понятия, конечно, составляют основу и внутренний простой каркас форм духа; дух как созерцающий, равно как и чувственное сознание, находится в определённости непосредственного бытия, тогда как дух как представляющий, а также воспринимающее сознание поднялись от бытия на ступень сущности или рефлексии. Однако эти конкретные формы так же мало касаются логической науки, как и конкретные формы, которые логические определения принимают в природе и которые были бы пространством и временем, затем наполненным пространством и временем как неорганической природой, и органической природой. Равным образом и здесь понятие следует рассматривать не как акт самосознательного рассудка, не как субъективный рассудок, а как понятие в себе и для себя, которое составляет ступень как природы, так и духа. Жизнь, или органическая природа, – это та ступень природы, на которой выступает понятие; но как слепое, не схватывающее себя, то есть не мыслящее понятие; как таковое оно принадлежит только духу. От этой недуховной, равно как и от этой духовной формы понятия его логическая форма независима; об этом уже было сделано необходимое предварительное замечание во введении; это значение, которое не нуждается в оправдании внутри логики, но с которым нужно быть ясным до неё.
Как бы ни были устроены формы, предшествующие понятию, во-вторых, важно отношение, в котором понятие мыслится к ним. Это отношение принимается как в обычном психологическом представлении, так и в кантовской трансцендентальной философии таким, что эмпирический материал, многообразие созерцания и представления сначала существуют сами по себе, а затем рассудок привносит в них единство и возводит их через абстракцию в форму всеобщности. Рассудок оказывается таким образом пустой формой, которая, с одной стороны, получает реальность только через данный ей материал, а с другой – абстрагируется от него, то есть оставляет его как нечто, но лишь как непригодное для понятия. Понятие в обоих случаях не является независимым, не является существенным и истинным по отношению к предшествующему материалу, который, напротив, есть реальность в себе и для себя, не извлекаемая из понятия.
Конечно, следует признать, что понятие как таковое ещё не совершенно, но должно возвыситься в идею, которая и есть единство понятия и реальности, как это должно выясниться в ходе рассмотрения природы самого понятия. Ибо реальность, которую оно себе даёт, не должна приниматься как нечто внешнее, но должна выводиться из него самого согласно научному требованию. Однако, несомненно, не тот материал, данный через созерцание и представление, может считаться реальным в противоположность понятию. «Это всего лишь понятие», – обычно говорят, противопоставляя не только идее, но и чувственному, пространственно-временному, осязаемому существованию нечто, что было бы превосходнее понятия. Абстрактное считается тогда менее значительным, чем конкретное, потому что из него опущено так много подобного материала. Абстрагирование в этом мнении имеет значение, что из конкретного для нашей субъективной надобности выделяется то или иное свойство, так что при опущении многих других свойств и качеств объекта у него не отнимается ничего в его ценности и достоинстве; они остаются как реальное, просто находящееся по ту сторону, всё ещё полностью значимыми; так что это лишь неспособность рассудка воспринять такое богатство и вынужденность довольствоваться скудной абстракцией. Если же данный материал созерцания и многообразие представления принимаются как реальное в противоположность мыслимому и понятию, то это взгляд, от которого необходимо отказаться не только как от условия философствования, но который уже предполагается религией; ибо как возможно её потребность и смысл, если мимолётное и поверхностное явление чувственного и единичного всё ещё считается истинным? Философия же даёт осмысленное понимание того, что представляет собой реальность чувственного бытия, и предпосылает те ступени чувства и созерцания, чувственного сознания и т. д. рассудку лишь постольку, поскольку они в его становлении являются его условиями, но только так, что понятие возникает из их диалектики и истинности как их основа, а не так, что оно обусловлено их реальностью. Абстрагирующее мышление поэтому не следует рассматривать как простое отодвигание чувственного материала в сторону, который от этого не теряет своей реальности, но, напротив, как снятие и редукцию его как простого явления к существенному, которое проявляется только в понятии.
Если же то, что должно войти в понятие из конкретного явления, служит лишь как признак или знак, то это, конечно, может быть и какой-нибудь только чувственной единичной определённостью объекта, которая выбрана из других по какому-нибудь внешнему интересу и одинакова по роду и природе с остальными.
Главное недоразумение, господствующее здесь, состоит в том, что естественное начало, или то, с чего начинается естественное развитие или история формирующегося индивида, считается истинным и первым в понятии. Созерцание или бытие, конечно, по природе первое или условие для понятия, но они не есть поэтому безусловное в себе и для себя; в понятии, напротив, снимается их реальность, а вместе с ней и видимость, будто они были обусловливающим реальным. Если речь идёт не об истине, а лишь об истории, о том, как происходит в представлении и являющемся мышлении, то можно, конечно, остановиться на рассказе, что мы начинаем с чувств и созерцаний, а рассудок извлекает из их многообразия всеобщность или абстрактное, и понятно, что та основа для этого необходима, которая при этом абстрагировании остаётся в представлении во всей реальности, с которой она сначала являлась. Но философия не должна быть рассказом о происходящем, а познанием того, что в нём истинно, и из истинного она должна далее постигать то, что в рассказе является как простое происшествие.
Если в поверхностном представлении о том, что такое понятие, всё многообразие находится вне понятия, а ему присуща лишь форма абстрактной всеобщности или пустой рефлексивной тождественности, то уже здесь можно напомнить, что и в других случаях для указания понятия или его определения, помимо рода (который сам по себе уже не является чисто абстрактной всеобщностью), также прямо требуется специфическая определённость. Если бы с некоторой долей вдумчивости задумались о том, что это означает, то стало бы ясно, что различение рассматривается здесь как столь же существенный момент понятия. Кант ввёл это рассмотрение через чрезвычайно важную мысль о существовании синтетических суждений a priori. Эта изначальная синтез апперцепции – один из глубочайших принципов спекулятивного развития; она содержит начало истинного постижения природы понятия и полностью противопоставлена той пустой тождественности или абстрактной всеобщности, которая не является синтезом.
Однако дальнейшее развитие этого начала не соответствует ему. Уже само выражение «синтез» легко возвращает к представлению о внешнем единстве и простом соединении того, что изначально и по себе разъединено. В результате кантовская философия остановилась на психологическом отражении понятия и вернулась к утверждению постоянной обусловленности понятия многообразием созерцания. Она объявила рассудочные познания и опыт являющимся содержанием не потому, что категории сами по себе конечны, а на основании психологического идеализма – потому что они суть лишь определения, происходящие из самосознания. Сюда же относится и то, что понятие, несмотря на его априорный синтез, якобы лишено содержания и пусто без многообразия созерцания; тогда как, будучи синтезом, оно уже содержит в себе определённость и различие.
Поскольку эта определённость понятия есть абсолютная определённость, единичность, то понятие становится основой и источником всей конечной определённости и многообразия. Формальная позиция, которую оно сохраняет как рассудок, завершается в кантовском изложении того, что есть разум. На ступени разума – высшей ступени мышления – можно было ожидать, что понятие освободится от обусловленности, в которой оно ещё пребывает на ступени рассудка, и достигнет завершённой истины. Однако это ожидание обмануто. Поскольку Кант определяет отношение разума к категориям как исключительно диалектическое, причём результат этой диалектики понимается им как абсолютно бесконечное ничто, то бесконечное единство разума теряет даже синтез, а вместе с ним и начало спекулятивного, истинно бесконечного понятия. Оно сводится к известной совершенно формальной, лишь регулятивной единственности систематического применения рассудка.
Объявляется злоупотреблением то, что логика, которая должна быть лишь каноном суждения, рассматривается как органон для порождения объективных прозрений. Понятия разума, в которых можно было предчувствовать высшую силу и более глубокое содержание, более не имеют конститутивного характера, как категории; они – лишь идеи. Допускается их использование, но под этими умопостигаемыми сущностями, в которых должна была бы раскрыться вся истина, не подразумевается ничего, кроме гипотез, приписывание которым истины в себе и для себя было бы полным произволом и безрассудством, поскольку они не могут встречаться ни в каком опыте.
Разве можно было предположить, что философия откажет умопостигаемым сущностям в истине лишь потому, что они лишены пространственно-временного материала чувственности?
С этим непосредственно связана точка зрения, согласно которой следует рассматривать понятие и определение логики вообще, и которая в кантовской философии принимается так же, как и обычно – а именно отношение понятия и его науки к самой истине. Ранее из кантовской дедукции категорий было приведено, что объект, в котором объединено многообразие созерцания, есть лишь это единство через единство самосознания. Таким образом, объективность мышления здесь определённо выражена как тождество понятия и вещи, что и есть истина.
Точно так же обычно признаётся, что, когда мышление присваивает себе данный объект, тот претерпевает изменение и превращается из чувственного в мыслимый; но это изменение не только не меняет его сущности, а напротив, лишь в своём понятии он обретает свою истину, тогда как в непосредственности, в которой он дан, он есть лишь явление и случайность; что познание объекта, которое его постигает, есть познание его, как он есть в себе и для себя, и что понятие есть сама его объективность.
С другой стороны, однако, столь же упорно утверждается, что мы всё же не можем познать вещи, как они есть в себе, и что истина недоступна познающему разуму; что та истина, которая состоит в единстве объекта и понятия, есть лишь явление – и опять же на том основании, что содержание есть лишь многообразие созерцания.
Уже было замечено, что именно в понятии это многообразие, поскольку оно принадлежит созерцанию в противопоставлении понятию, снимается, и объект через понятие возвращается к своей неслучайной сущности; она проявляется в явлении, и потому явление не есть лишь лишённое сущности, но проявление сущности. А полностью освобождённое проявление сущности и есть понятие.
Эти положения, о которых здесь напоминается, не являются догматическими утверждениями, поскольку они суть результаты, возникшие из всего развития сущности через самое себя. Нынешняя точка зрения, к которой привело это развитие, такова: абсолютная форма, которая выше бытия и сущности, есть понятие.
Поскольку оно подчинило себе бытие и сущность (к которым при других отправных точках относятся также чувство, созерцание и представление) и доказало себя как их безусловное основание, то остаётся ещё вторая сторона, рассмотрению которой посвящена эта третья книга логики – а именно изложение того, как понятие формирует в себе и из себя реальность, которая в нём исчезла.
Таким образом, признаётся, что познание, останавливающееся на понятии как таковом, ещё неполно и достигло лишь абстрактной истины. Но его неполнота заключается не в том, что ему недостаёт той мнимой реальности, которая дана в чувстве и созерцании, а в том, что понятие ещё не дало себе реальности, порождённой из него самого.
Абсолютность понятия, доказанная против эмпирического материала и, точнее, против его категорий и рефлексивных определений, состоит в том, что оно имеет истину не в том виде, в каком является вне и до понятия, но исключительно в своей идеальности, или тождественности с понятием.
Выведение реального из него (если можно назвать это выведением) состоит прежде всего в том, что понятие в своей формальной абстракции проявляет себя как незавершённое и через имманентную ему диалектику переходит к реальности так, что порождает её из себя, а не возвращается к готовой реальности, найденной вне его, и не прибегает к чему-то, что показало себя как несущественное явление, потому что, поискав лучшее, не нашёл ничего подобного.
Всегда будет вызывать удивление, как кантовская философия, признав то отношение мышления к чувственному бытию, на котором она остановилась, лишь относительным отношением явления и вполне признав и выразив высшее единство обоих в идее вообще (например, в идее созерцающего рассудка), всё же осталась при этом относительном отношении и при утверждении, что понятие абсолютно отделено от реальности и остаётся таковым – тем самым провозглашая истиной то, что она сама назвала конечным познанием, а то, что она признала истиной и для чего дала определённое понятие, объявив чрезмерным, недопустимым и мысленными сущностями.
Поскольку здесь изначально речь идет о логике, о науке вообще, и об ее отношении к истине, то следует также признать, что она, как формальная наука, не может и не должна содержать в себе ту реальность, которая составляет содержание других частей философии – наук о природе и духе. Эти конкретные науки, конечно, поднимаются до более реальной формы идеи, чем логика, но в то же время не так, чтобы они снова возвращались к той реальности, которую сознание, возведенное в науку над своим явлением, оставило позади, или чтобы они снова прибегали к формам, таким как категории и рефлексивные определения, конечность и неистинность которых была показана в логике. Напротив, логика показывает возвышение идеи до той ступени, с которой она становится творцом природы и переходит к форме конкретной непосредственности, чье понятие, однако, снова разрушает эту форму, чтобы вернуться к себе как к конкретному духу.
По сравнению с этими конкретными науками, которые, однако, имеют и сохраняют логическое или понятие как внутренний формирующий принцип (как они имели его в качестве предварительного формирующего принципа), логика, конечно, является формальной наукой, но наукой абсолютной формы, которая в себе есть тотальность и содержит чистую идею истины как таковой. Эта абсолютная форма имеет в себе свое собственное содержание или реальность; понятие, поскольку оно не является тривиальным, пустым тождеством, имеет в моменте своей негативности или абсолютного определения различенные определения; содержание вообще есть не что иное, как такие определения абсолютной формы – содержание, положенное ею самой и потому ей соответствующее.
Эта форма, следовательно, по своей природе совершенно отлична от того, что обычно понимают под логической формой. Она уже сама по себе есть истина, поскольку это содержание соответствует своей форме, или эта реальность соответствует своему понятию, и чистая истина, поскольку ее определения еще не имеют формы абсолютного инобытия или абсолютной непосредственности.
Кант, касаясь в «Критике чистого разума» (с. 83) логики в связи с древним и знаменитым вопросом: «Что есть истина?», прежде всего приводит как нечто тривиальное номинальное определение, что истина есть соответствие познания своему объекту – определение, имеющее великую, даже высшую ценность. Но если вспомнить основное утверждение трансцендентального идеализма, что разумное познание не способно постичь вещи сами по себе, что реальность полностью лежит вне понятия, то сразу становится ясно, что такой разум, который не может находиться в соответствии со своим объектом – вещами самими по себе, и вещи сами по себе, которые не соответствуют понятию разума, понятие, которое не соответствует реальности, реальность, которая не соответствует понятию, – все это есть неистинные представления.
Если бы Кант сопоставил идею интуитивного рассудка с этим определением истины, то он рассматривал бы эту идею, выражающую требуемое соответствие, не как мысленную фикцию, а скорее как истину.
«То, что хотят знать, – продолжает Кант, – есть всеобщий и надежный критерий истинности всякого познания; таким был бы критерий, действительный для всех познаний без различия их объектов; но поскольку при этом абстрагируются от всякого содержания познания (отношения к его объекту), а истина как раз касается этого содержания, то было бы совершенно невозможно и нелепо искать признак истинности этого содержания познаний».
Здесь очень четко выражено обычное представление о формальной функции логики, и приведенное рассуждение кажется весьма убедительным. Однако прежде всего следует заметить, что такому формальному рассуждению обычно свойственно забывать в своих речах ту вещь, которую оно положило в основание и о которой говорит. Говорится, что было бы нелепо искать критерий истинности содержания познания; но согласно определению, не содержание составляет истину, а его соответствие понятию. Содержание, о котором здесь идет речь, без понятия есть нечто бессмысленное, лишенное сущности; о критерии истинности такого, конечно, нельзя спрашивать, но по противоположной причине: именно потому, что оно в силу своей бессмысленности не является требуемым соответствием, а может быть лишь принадлежащим неистинному мнению.
Если оставить в стороне упоминание содержания, которое здесь вызывает путаницу (в которую, однако, формализм постоянно впадает, заставляя его говорить противоположное тому, что он хочет выразить, как только он берется за разъяснения), и остаться при абстрактном взгляде, что логическое есть лишь формальное и скорее абстрагируется от всякого содержания, – то мы получим одностороннее познание, которое не должно содержать в себе объекта, пустую, неопределенную форму, которая, следовательно, столь же мало есть соответствие (поскольку для соответствия по существу требуется два), сколь мало есть истина.
В априорном синтезе понятия у Канта было высшее начало, в котором двойственность могла быть познана в единстве, а следовательно, могло быть познано то, что требуется для истины; но чувственный материал, многообразие созерцания были для него слишком могущественны, чтобы можно было отвлечься от них и перейти к рассмотрению понятия и категорий самих по себе и к спекулятивному философствованию.
Поскольку логика есть наука абсолютной формы, то это формальное, чтобы быть истинным, должно иметь в себе содержание, соответствующее своей форме, и тем более, что логическое формальное есть чистая форма, а следовательно, логическая истина должна быть самой чистой истиной. Поэтому это формальное должно мыслиться гораздо более богатым определениями и содержанием, а также обладающим бесконечно большей действенностью на конкретное, чем это обычно принимается.
Логические законы сами по себе (если отбросить совершенно чуждое – прикладную логику и прочий психологический и антропологический материал) обычно ограничиваются, помимо закона противоречия, несколькими скудными положениями, касающимися обращения суждений и форм умозаключений. Даже встречающиеся здесь формы, как и дальнейшие их определения, принимаются лишь как бы исторически, без критики относительно того, являются ли они сами по себе истинными. Например, форма положительного суждения считается чем-то само по себе совершенно правильным, причем все зависит от содержания, истинно ли такое суждение. Но является ли эта форма сама по себе формой истины, не является ли положение, которое она выражает – «единичное есть всеобщее», – внутренне диалектическим, об этом исследовании не думают. Считается само собой разумеющимся, что это суждение само по себе способно содержать истину и что это положение, которое выражает каждое положительное суждение, истинно; хотя сразу видно, что ему недостает того, что требует определение истины, а именно соответствия понятия и его объекта: предикат, который здесь есть всеобщее, взятый как понятие, и субъект, который есть единичное, взятый как объект, – они не соответствуют друг другу.
Но если абстрактное всеобщее, которое есть предикат, еще не составляет понятия (поскольку для этого требуется больше), равно как и такой субъект есть нечто немногим большее, чем грамматический субъект, – то как суждение может содержать истину, если его понятие и объект не соответствуют друг другу или если ему вовсе недостает понятия, а может быть, и объекта?
Следовательно, гораздо более невозможным и нелепым является желание ухватить истину в подобных формах, каковы положительное суждение и суждение вообще.
Подобно тому как кантовская философия не рассматривала категории сами по себе, а объявляла их конечными определениями, неспособными содержать истину, лишь на том косвенном основании, что они суть субъективные формы самосознания, – она еще менее подвергла критике формы понятия, составляющие содержание обычной логики; она, напротив, приняла часть их, а именно функции суждений, для определения категорий и признала их действительными предпосылками.
Если в логических формах усматривать не более чем формальные функции мышления, то они уже поэтому заслуживают исследования в отношении того, насколько они сами по себе соответствуют истине. Логика, которая этого не делает, может претендовать в лучшем случае на значение естественно-исторического описания явлений мышления, каковы они есть.
Бесконечная заслуга Аристотеля, которая должна наполнять нас высшим восхищением перед силой этого ума, состоит в том, что он первым предпринял это описание. Но необходимо идти дальше и познать, с одной стороны, систематическую связь, а с другой – ценность форм.
Ключевые идеи:
1. Понятие нельзя постичь сразу – оно раскрывается через опосредование, а не дано непосредственно.
2. Понятие – итог развития бытия и сущности – оно «снимает» их в себе, становясь их основой и истиной.
3. Субстанция и понятие – субстанция (как у Спинозы) есть предпосылка понятия, но понятие выше, ибо включает свободу как истину необходимости.
4. Критика формальной логики – традиционная логика рассматривает понятие как пустую форму, но у Гегеля оно – живая конкретность, синтез всеобщего и единичного.
5. Связь с «Я» – понятие аналогично самосознанию, где единство и отрицание (всеобщее и единичное) совпадают.
Подробное изложение
1. Понятие как опосредованная истина
Понятие нельзя определить прямо, как предметы чувственного мира. Оно не дано изначально, а возникает через движение мысли:
– Бытие – непосредственная, но абстрактная ступень.
– Сущность – рефлексия, скрытая основа явлений.
– Понятие – синтез, где бытие и сущность становятся моментами единого целого.
Пример: Субстанция (как у Спинозы) – это «слепая необходимость», но понятие раскрывает её как свободное самоопределение.
2. От субстанции к понятию
Субстанция проходит три этапа:
1. Причинность – активная субстанция воздействует на пассивную.
2. Взаимодействие – субстанции взаимно определяют друг друга.
3. Понятие – снятие этого взаимодействия в высшем единстве, где необходимость превращается в свободу.
Свобода у Гегеля – не произвол, а осознанная необходимость: понятие есть субстанция, которая «вернулась к себе» через самоопосредование.
3. Понятие vs. формальная логика
– Обычная логика видит в понятии абстрактную форму (например, «все люди смертны»).
– Гегель: Понятие – это конкретное единство:
– Всеобщее (род, например, «животное»).
– Особенное (видовое отличие, например, «разумное»).
– Единичное (индивид, например, «человек»).
Эти моменты нераздельны: всеобщее существует только через единичное, и наоборот.
4. Понятие и самосознание
Понятие подобно «Я»:
– Всеобщность – «Я» абстрагируется от конкретных свойств (я не равно моим мыслям или чувствам).
– Единичность – «Я» исключительно и уникально («я ≠ ты»).
Кант приблизился к этому, назвав понятие «синтетическим единством апперцепции», но остановился на субъективности. Для Гегеля понятие – сама объективность, тождество мысли и бытия.
5. Критика Канта и Спинозы
– Кант прав, что понятие организует опыт, но ошибочно считает его зависимым от чувств.
– Спиноза верно начинал с субстанции, но не дошёл до понятия как свободы.
– Истина – не соответствие мысли «чему-то внешнему», а совпадение понятия с его собственной развитой реальностью.
Заключение и проверочные вопросы
Основные тезисы:
1. Понятие – не абстракция, а результат диалектики бытия и сущности.
2. Оно включает в себя момент свободы, преодолевая слепоту субстанции.
3. Его структура: всеобщее-особенное-единичное – отражает структуру реальности.
Вопросы для самопроверки:
1. Почему Гегель называет понятие «третьим» после бытия и сущности?
2. Как связаны субстанция и понятие? Почему понятие «свободнее» субстанции?
3. Чем гегелевское понятие отличается от формально-логического?
4. Как аналогия с «Я» помогает понять природу понятия?
5. В чём Гегель критикует Канта и Спинозу?
Совет: Не спешите – лучше глубоко осмыслить несколько страниц, чем механически прочитать десятки. Понятие раскрывается через диалектику, а не через дефиниции.
Деление.
Понятие на первый взгляд предстает как единство бытия и сущности. Сущность есть первое отрицание бытия, благодаря чему оно стало видимостью; понятие есть второе отрицание, или отрицание этого отрицания, – таким образом, восстановленное бытие, но как бесконечное опосредствование и негативность его в самом себе. – Поэтому бытие и сущность в понятии уже не обладают тем определением, в котором они суть бытие и сущность, но они и не находятся лишь в таком единстве, где каждое проявляется в другом. Понятие, следовательно, не различается на эти определения. Оно есть истина субстанциального отношения, в котором бытие и сущность достигают свою завершенную самостоятельность и определенность друг через друга.
Как истина субстанциальности обнаружилась субстанциальная тождественность, которая в такой же мере и есть лишь положенность. Положенность есть наличное бытие и различение; поэтому бытие-в-себе и для-себя достигло в понятии соответствующего и истинного наличного бытия, ибо эта положенность и есть само бытие-в-себе и для-себя. Эта положенность составляет различие понятия в нем самом; его различия, поскольку они непосредственно суть бытие-в-себе и для-себя, сами суть целое понятие; в своей определенности они всеобщи и тождественны со своим отрицанием.
Это и есть само понятие понятия. Но пока это лишь его понятие – или оно само есть лишь понятие. Поскольку оно есть бытие-в-себе и для-себя как положенность, или абсолютная субстанция, поскольку она раскрывает необходимость различенных субстанций как тождество, то эта тождественность должна сама себя полагать как то, что она есть. Моменты движения субстанциального отношения, благодаря которым понятие стало, и представленная этим реальность есть лишь переход к понятию; она еще не есть его собственная, из него происходящая определенность; она относилась к сфере необходимости, его же собственная определенность может быть лишь его свободной определенностью, наличным бытием, в котором он как тождественный с собой полагает свои моменты как понятия и через себя самого.
Итак, сначала понятие есть лишь в себе истина; поскольку оно есть лишь внутреннее, оно в такой же мере есть лишь внешнее. Оно есть сначала вообще непосредственное, и в этой форме его моменты имеют форму непосредственных, устойчивых определений. Оно выступает как определенное понятие, как сфера рассудка. Поскольку эта форма непосредственности есть наличное бытие, еще не соответствующее его природе (ибо оно есть свободное, относящееся лишь к самому себе), то это внешняя форма, в которой понятие может считаться не как сущее-в-себе и для-себя, а лишь как положенное или субъективное. Форма непосредственного понятия составляет точку зрения, согласно которой понятие есть субъективное мышление, внешняя рефлексия о вещи. Эта ступень составляет, таким образом, субъективность, или формальное понятие.
Его внешность проявляется в устойчивом бытии его определений, благодаря чему каждое выступает как изолированное, качественное, находящееся лишь во внешнем отношении к своему иному. Однако тождество понятия, которое как раз и есть внутреннее или субъективное существо этих определений, приводит их в диалектическое движение, через которое снимается их единичность и тем самым отделение понятия от вещи, и в качестве их истины возникает тотальность, которая и есть объективное понятие.
Во-вторых. Понятие в своей объективности есть сама вещь, сущая-в-себе и для-себя. Через свою необходимую дальнейшую определенность формальное понятие делает само себя вещью и тем самым теряет отношение субъективности; реальное понятие, вышедшее из своей внутренности и перешедшее в наличное бытие. – В этом тождестве с вещью оно, таким образом, обладает собственным и свободным наличным бытием. Но это пока еще непосредственная, еще не негативная свобода. Будучи единым с вещью, оно погружено в нее; его различия суть объективные существования, в которых оно само вновь есть внутреннее. Как душа объективного наличного бытия, оно должно придать себе форму субъективности, которую оно имело непосредственно как формальное понятие; так оно выступает в форме свободы, которой оно еще не имело в объективности, противопоставляется ей и делает в этом свое тождество с ней (которое оно имеет в себе и для себя как объективное понятие) также положенным.
В этом завершении, где оно в своей объективности обладает также формой свободы, адекватное понятие есть идея. Разум, который есть сфера идеи, есть сама раскрывшая себя истина, в которой понятие имеет абсолютно соответствующую ему реализацию и постольку свободно, поскольку оно познает эту свою объективную реальность в своей субъективности, а свою субъективность – в ней.
1. Понятие как единство бытия и сущности
Понятие – это не просто абстрактная мысль, а результат развития бытия и сущности.
– Бытие – это первая, непосредственная ступень, простое утверждение существования.
– Сущность – отрицание бытия, его «внутренняя» сторона, скрытая за видимостью.
– Понятие – это отрицание отрицания (сущности), возвращение к бытию, но уже не к простому, а к опосредованному, наполненному смыслом.
В понятии бытие и сущность не просто связаны, а полностью преодолены как отдельные моменты: они становятся моментами единого целого.
2. Понятие как истина субстанции
Субстанция (устойчивая основа реальности) раскрывается в понятии как тождество, которое одновременно есть положенность (т. е. не просто данность, а осознанное различение).
– Понятие включает в себя различия, но они не внешние, а внутренние, принадлежащие самому понятию.
– Эти различия – не просто части, а целые понятия сами по себе, поскольку они всеобщи и содержат в себе своё отрицание.
3. Понятие как субъективное и объективное
Поначалу понятие кажется чем-то внутренним, принадлежащим только мышлению (формальное, субъективное понятие).
– Здесь его определения кажутся изолированными, как в рассудочном мышлении.
– Но его природа – диалектическая: его моменты вступают в движение, преодолевают свою обособленность, и понятие раскрывается как объективное (как сама суть вещей).
Когда понятие становится объективным, оно перестаёт быть только мыслью и реализуется в вещах.
– Однако на этом этапе оно ещё слито с вещью, не обладает свободой.
– Чтобы стать идеей (высшей формой понятия), оно должно вернуться к себе, осознав себя в объективности и обретя свободу.
4. Идея как завершение понятия
Идея – это понятие, достигшее полного соответствия своей реализации.
– Здесь разум познаёт, что его субъективность и объективность – одно и то же.
– Это абсолютная истина, где мысль и бытие полностью совпадают.
Проверочные вопросы
1. Как соотносятся бытие, сущность и понятие у Гегеля?
2. Почему понятие – это «отрицание отрицания»?
3. Что означает, что понятие сначала субъективно, а затем становится объективным?
4. Как понятие превращается в идею?
5. Чем отличается формальное понятие от реального?
6. Почему Гегель говорит, что в идее понятие «свободно»?
Этот пересказ помогает ухватить основные моменты гегелевской логики, не углубляясь сразу в сложную терминологию.
Первый раздел. Субъективность.
Понятие есть сначала формальное, понятие в начале или как непосредственное. В непосредственном единстве его различие или положенность есть сначала само простое и лишь видимость, так что моменты различия непосредственно суть тотальность понятия и лишь понятие как таковое.
Во-вторых, однако, поскольку оно есть абсолютная отрицательность, оно разделяет себя и полагает себя как отрицательное или как иное себя самого; притом, поскольку оно есть сначала лишь непосредственное, это полагание или различение имеет определение, что моменты становятся безразличными друг к другу и каждый для себя; его единство в этом разделении есть лишь внешнее отношение. Так, как отношение себя как самостоятельно положенных и безразличных моментов, оно есть суждение.
В-третьих, суждение, правда, содержит единство понятия, утраченного в своих самостоятельных моментах, но оно не положено. Оно становится таковым через диалектическое движение суждения, которое через это становится умозаключением, – полностью положенным понятием; поскольку в умозаключении как моменты его как самостоятельные крайности, так и их опосредствующее единство положены.
Но поскольку непосредственно это единство само как объединяющая середина и моменты как самостоятельные крайности стоят сначала друг против друга, то это противоречивое отношение, имеющее место в формальном умозаключении, снимается, и полнота понятия переходит в единство тотальности, субъективность понятия – в его объективность.
Глава первая. Понятие.
Рассудком обычно выражается способность понятий вообще; он в этом отношении отличается от способности суждения и способности умозаключений как формального разума. Однако прежде всего он противопоставляется разуму; но в этом случае он означает не способность понятия вообще, а определенных понятий, причем господствует представление, будто понятие есть лишь нечто определенное. Если рассудок в этом значении отличается от формальной способности суждения и формального разума, то его следует принимать как способность единичного определенного понятия. Ибо суждение и умозаключение, или разум, сами, будучи формальными, суть лишь рассудочные, поскольку они стоят под формой абстрактной определенности понятия. Однако понятие здесь вообще не рассматривается как лишь абстрактно-определенное; поэтому рассудок отличается от разума лишь тем, что он есть только способность понятия вообще.
Это всеобщее понятие, которое теперь здесь следует рассмотреть, содержит три момента: всеобщность, особенность и единичность. Различие и определения, которые оно дает себе в различении, составляют ту сторону, которая ранее была названа положенностью. Поскольку это в понятии тождественно с бытием-в-себе и для-себя, то каждый из этих моментов есть столь же целое понятие, сколь и определенное понятие, и как определение понятия.
Сначала оно есть чистое понятие, или определение всеобщности. Но чистое или всеобщее понятие есть также лишь определенное, или особенное понятие, которое становится рядом с другими. Поскольку понятие есть тотальность, то есть в своей всеобщности или чисто тождественном отношении к себе самомý существенно есть определение и различение, оно имеет в себе самом меру, благодаря которой эта форма его тождества с собой, пронизывая все моменты и охватывая их в себе, столь же непосредственно определяет себя быть лишь всеобщим против различия моментов.
Во-вторых, понятие тем самым есть как это особенное или как определенное понятие, которое положено как отличное от других.
В-третьих, единичность есть понятие, отражающееся из различия в абсолютную отрицательность. Это есть в то же время момент, в котором оно перешло из своей тождественности в свое инобытие и становится суждением.
1. Понятие как формальное и непосредственное
Понятие изначально выступает как формальное, то есть как непосредственное понятие. В этом начальном состоянии его различия (моменты всеобщности, особенности и единичности) еще не развиты и существуют лишь как видимость, как простые оттенки внутри самого понятия. Здесь различия не обособлены, а самó понятие предстает как целостность, в которой каждый момент одновременно и часть, и вся тотальность понятия.
2. Понятие как отрицательность и переход в суждение
Однако понятие – это абсолютная отрицательность, то есть оно не остается в покое, а разделяет себя, полагая себя как свое собственное отрицание, как иное себя. Поскольку первоначально понятие было непосредственным, это различение приводит к тому, что его моменты (всеобщее, особенное, единичное) обретают видимость самостоятельности, становятся безразличными друг к другу. Их единство теперь лишь внешнее, формальное. Такое отношение понятия к самому себе, в котором его моменты кажутся независимыми, но все же связанными, называется суждением.
3. Суждение и переход в умозаключение.
Суждение содержит в себе единство понятия, но это единство утрачено в его обособленных моментах – оно еще не положено явно. Однако через диалектическое движение суждение развивается и переходит в умозаключение, где единство понятия полностью раскрывается. В умозаключении:
– Крайние термины (единичное и всеобщее) выступают как самостоятельные.
– Их связь (опосредствование) осуществляется через средний термин (особенное).
Но в формальном умозаключении это единство остается противоречивым: середина (особенное) и крайние термины (единичное и всеобщее) еще противостоят друг другу. Это противоречие снимается, и понятие переходит в тотальность, где его субъективность (внутренняя логическая структура) превращается в объективность (реализованную форму).
О природе рассудка и разума
Обычно рассудок понимается как способность оперировать определенными понятиями, в отличие от разума, который связывает их в суждения и умозаключения. Однако в строгом смысле:
– Рассудок – это способность удерживать понятия в их абстрактной определенности.
– Формальный разум (суждение и умозаключение) остается рассудочным, пока подчиняется жестким логическим формам.
Но в Науке логики понятие рассматривается не как застывшая форма, а как живое движение, включающее три момента:
1. Всеобщность – чистое тождество понятия с самим собой.
2. Особенность – его различение, выделение себя как особенногона фоне других понятий.
3. Единичность – возвращение в себя через отрицание различий, переход в суждение.
Каждый из этих моментов – не просто часть понятия, а само понятие в определенной форме. В своем развитии понятие:
– Сначала выступает как всеобщее, но тут же обнаруживает себя как особенное.
– Затем, через отрицание этого различия, приходит к единичности – моменту, где оно переходит в суждение и далее в умозаключение, раскрывая свою полную диалектическую природу.
Таким образом, понятие – не статичная категория, а саморазвивающийся процесс, ведущий от абстрактной всеобщности к конкретной тотальности.
A. Всеобщее понятие.
Чистое понятие есть абсолютно бесконечное, безусловное и свободное. Здесь, где начинается изложение, имеющее своим содержанием понятие, следует еще раз оглянуться на его генезис. Сущность возникла из бытия, и понятие – из сущности, следовательно, также из бытия. Но это возникновение имеет значение отталкивания от самого себя, так что возникшее есть скорее безусловное и первоначальное. Бытие в своем переходе в сущность стало видимостью или положенностью, а становление или переход в иное – полаганием, и, наоборот, полагание, или рефлексия сущности, сняло себя и восстановило себя как неположенное, как первоначальное бытие. Понятие есть проникновение этих моментов, так что качественное и первоначально-сущее есть лишь как полагание и лишь как возвращение-в-себя, и эта чистая рефлексия-в-себя есть просто становление-иным или определенность, которая, таким образом, есть бесконечная, относящаяся к себе определенность.
Понятие есть поэтому сначала абсолютное тождество с собой, которое есть лишь как отрицание отрицания или как бесконечное единство отрицательности с самой собой. Это чистое отношение понятия к себе, которое есть таковое лишь как полагающее себя через отрицательность, есть всеобщность понятия.
Всеобщность, будучи наипростейшим определением, кажется неспособной к объяснению; ибо объяснение должно вступать в определения и различения и высказывать их о своем предмете, но простое этим скорее изменяется, чем объясняется. Однако именно природа всеобщего быть таким простым, которое через абсолютную отрицательность содержит в себе наивысшее различие и определенность. Бытие есть простое как непосредственное; поэтому оно есть лишь нечто мыслимое, и о нем нельзя сказать, что оно есть; оно, следовательно, непосредственно едино со своим иным – небытием. Именно это есть его понятие – быть таким простым, которое непосредственно исчезает в своей противоположности; оно есть становление. Всеобщее же, напротив, есть простое, которое столь же богато в себе самом; потому что оно есть понятие.
Оно есть, следовательно, во-первых, простое отношение к себе самому; оно есть лишь в себе. Но это тождество есть, во-вторых, в себе абсолютное опосредствование, но не нечто опосредствованное. О всеобщем, которое есть опосредствованное, а именно абстрактное, противопоставленное особенному и единичному, следует говорить лишь при определенном понятии. – Но уже абстрактное содержит то, что для его сохранения требуется опустить другие определения конкретного. Эти определения как определения вообще суть отрицания; точно так же опущение их есть отрицание. Таким образом, в абстрактном также встречается отрицание отрицания. Однако это двойное отрицание представляется так, как будто оно внешне ему, и как опущенные дальнейшие свойства конкретного отличны от удержанного, которое есть содержание абстрактного, так и эта операция опущения остального и удержания одного происходит вне его. К такой внешности всеобщее по отношению к этому движению еще не определилось; оно есть еще само в себе то абсолютное опосредствование, которое есть именно отрицание отрицания или абсолютная отрицательность.
Согласно этой первоначальной единственности, во-первых, первое отрицание или определение не есть ограничение для всеобщего, но оно сохраняется в нем и есть положительно тождественное с собой. Категории бытия, как понятия, были по существу этими тождествами определений с самими собой в их ограничении или их инобытии; но это тождество было лишь в себе понятием; оно еще не было проявлено. Поэтому качественное определение как таковое переходило в своем ином и имело в качестве своей истины определение, отличное от него. Всеобщее же, даже если оно полагает себя в определение, остается в нем тем, что оно есть. Оно есть душа конкретного, в котором оно пребывает, беспрепятственно и равное себе в его многообразии и различии. Оно не вовлекается в становление, но продолжается незамутненно через него и обладает силой неизменного, бессмертного самосохранения.
Равным образом, однако, оно не только кажется в своем ином, как рефлексионное определение. Это последнее, как относительное, относится не только к себе, но есть отношение. Оно проявляется в своем ином; но лишь кажется сначала в нем, и явление каждого в другом или их взаимное определение при их самостоятельности имеет форму внешнего действия. – Всеобщее же положено как сущность своего определения, собственная положительная природа его. Ибо определение, составляющее его отрицательное, в понятии есть просто как положенность или, по существу, лишь в то же время как отрицание отрицания, и оно есть лишь как это тождество отрицательного с собой, которое есть всеобщее. Оно есть в этом смысле также субстанция своих определений; но так, что то, что для субстанции как таковой было случайным, есть собственное опосредствование понятия с самим собой, его собственная имманентная рефлексия. Это опосредствование, которое сначала возвышает случайное до необходимости, есть, однако, проявленное отношение; понятие есть не бездна бесформенной субстанции или необходимость как внутреннее тождество различных и ограничивающих друг друга вещей или состояний, но как абсолютная отрицательность оно есть формирующее и творящее, и поскольку определение есть не как ограничение, но просто столь же как снятое, как положенность, то видимость есть явление как тождественного.
Всеобщее есть, следовательно, свободная сила; оно есть само себя и переступает свое иное; но не как нечто насильственное, а, напротив, как пребывающее в нем спокойным и у себя. Как оно было названо свободной силой, так оно могло бы быть названо и свободной любовью и безграничным блаженством, ибо оно относится к отличному лишь как к себе самому, в нем оно возвращено к себе.
Таким образом, только что была упомянута определенность, хотя понятие, будучи пока лишь как всеобщее и лишь тождественное с собой, еще не продвинулось к этому. Однако о всеобщем нельзя говорить без определенности, которая ближе есть особенность и единичность; ибо оно содержит их в своей абсолютной отрицательности в себе и для себя; определенность, следовательно, не привносится извне, когда о ней говорят применительно к всеобщему. Как отрицательность вообще, или как первое, непосредственное отрицание, оно имеет на себе определенность вообще как особенность; как второе, как отрицание отрицания, оно есть абсолютная определенность, или единичность и конкретность. – Всеобщее есть, таким образом, тотальность понятия, оно есть конкретное, оно не есть пустое, но, напротив, имеет через свое понятие содержание – содержание, в котором оно не только сохраняется, но которое есть его собственное и имманентное. От содержания можно, конечно, абстрагироваться; но тогда получают не всеобщее понятия, а абстрактное, которое есть изолированный, несовершенный момент понятия и не имеет истины.
Ближе всеобщее раскрывается как эта тотальность. Поскольку оно имеет в себе определенность, то это есть не только первое отрицание, но и рефлексия его в себя. Взятое само по себе с этим первым отрицанием, оно есть особенное, как это будет сейчас рассмотрено; но в этой определенности оно по существу еще всеобщее; эта сторона должна быть здесь еще удержана. – Эта определенность, будучи в понятии, есть тотальная рефлексия, двойная видимость: с одной стороны, видимость вовне, рефлексия в иное; с другой стороны, видимость внутрь, рефлексия в себя. Это внешнее явление образует различие по отношению к иному; всеобщее имеет, таким образом, особенность, которая имеет свое разрешение в более высоком всеобщем. Поскольку оно теперь есть лишь относительно-всеобщее, оно не теряет своего характера всеобщего; оно сохраняется в своей определенности не только так, что в связи с ней оставалось бы безразличным к ней – тогда оно было бы лишь соединено с ней – но так, что оно есть то, что только что было названо явлением внутрь. Определенность как определенное понятие возвращена из внешности в себя; она есть собственный, имманентный характер, который становится существенным именно тем, что он принят во всеобщность и пронизан ею, одинакового объема, тождественный с ней, он также пронизывает ее; это есть характер, принадлежащий роду, как определенность, не отделенная от всеобщего. Он есть, таким образом, не идущая вовне граница, но положительное, поскольку он через всеобщность стоит в свободном отношении к себе самому. Также и определенное понятие остается, таким образом, в себе бесконечно свободным понятием.
Что касается другой стороны, согласно которой род ограничен своим определенным характером, то было замечено, что он как низший род имеет свое разрешение в более высоком всеобщем. Это последнее может также рассматриваться как род, но как более абстрактный, однако оно всегда принадлежит лишь стороне определенного понятия, идущей вовне. Истинно более высокое всеобщее есть то, в чем эта идущая вовне сторона возвращена внутрь, второе отрицание, в котором определенность есть просто как положенное или как видимость. Жизнь, Я, дух, абсолютное понятие суть всеобщие не только как высшие роды, но конкретные, определения которых суть также не только виды или низшие роды, но которые в своей реальности суть просто наполненные собой и этим. Поскольку жизнь, Я, конечный дух суть, правда, лишь определенные понятия, то их абсолютное разрешение – в том всеобщем, которое должно быть схвачено как истинно абсолютное понятие, как идея бесконечного духа, чья положенность есть бесконечная, прозрачная реальность, в которой он созерцает свое творение и в нем себя самого.
Истинное, бесконечное всеобщее, которое непосредственно столь же есть особенность и единичность в себе, теперь должно быть ближе рассмотрено как особенность. Оно свободно определяет себя; его ограничение не есть переход, имеющий место лишь в сфере бытия; оно есть творческая сила как абсолютная отрицательность, относящаяся к себе самой. Оно как таковое есть различение в себе, и это есть определение, благодаря тому что различение едино со всеобщностью. Таким образом, оно есть полагание самих различий как всеобщих, относящихся к себе. Этим они становятся фиксированными, изолированными различиями. Изолированное существование конечного, которое ранее определялось как его для-себя-бытие, также как вещность, как субстанция, есть в своей истине всеобщность, которой бесконечное понятие облекает свои различия, – форма, которая есть именно одно из его различий. В этом состоит творчество понятия, которое можно постичь лишь в этом его глубочайшем внутреннем.
Чистое понятие – это абсолютно бесконечное, безусловное и свободное. Чтобы понять его природу, нужно проследить его происхождение:
– Бытие переходит в сущность, а сущность – в понятие. Однако это не просто последовательное развитие, а процесс отталкивания от самого себя, где возникшее (понятие) оказывается безусловным и первоначальным.
– Бытие, превращаясь в сущность, становится видимостью (положенностью), а его переход в иное – полаганием. Но рефлексия сущности снимает себя и восстанавливает как неположенное, как изначальное бытие.
– Понятие – это проникновение этих моментов: качественное и первоначально-сущее существует лишь как полагание и как возвращение в себя. Это чистая рефлексия, которая есть одновременно становление иным – бесконечная, самоотнесённая определённость.
1. Всеобщность как простое тождество.
– Понятие – это абсолютное тождество с собой, существующее как отрицание отрицания или бесконечное единство отрицательности.
– Всеобщность – простейшее определение понятия, но именно в этой простоте заключена абсолютная отрицательность, содержащая в себе высшую определённость.
– Бытие – простое и непосредственное, но оно сразу переходит в свою противоположность (небытие) и исчезает в становлении.
– Всеобщее же – простое, но богатое внутри себя, поскольку оно есть понятие.
2. Всеобщее как опосредствование.
– Всеобщее – это простое отношение к себе, но также и абсолютное опосредствование (хотя не нечто опосредованное извне).
– В отличие от абстрактного всеобщего (которое противопоставлено особенному и единичному), истинное всеобщее содержит в себе снятые определения, а не просто исключает их.
– Отрицание отрицания здесь не внешнее (как в абстракции, где "отбрасываются" лишние свойства), а имманентное самодвижение понятия.
3. Всеобщее как субстанция и сила.
– Всеобщее – это субстанция своих определений, но не в смысле случайных проявлений, а как собственное опосредствование понятия с самим собой.
– Оно не погружается в становление, а пребывает в нём неизменным, сохраняя себя.
– Оно не ограничено своими определениями, но свободно переступает их, оставаясь у себя в ином.
– Это свободная сила, любовь, блаженство – ведь оно относится к иному как к самому себе.
4. Определённость всеобщего.
– Хотя понятие пока рассматривается как чистое всеобщее, оно уже содержит в себе особенность и единичность.
– Первое отрицание даёт особенность,
– Второе отрицание (отрицание отрицания) – единичность и конкретность.
– Всеобщее – это тотальность, конкретное содержание, а не пустая абстракция.
– Его определённость – не внешняя граница, а имманентная рефлексия, где различение возвращается в единство.
5. Истинное всеобщее и конечные понятия.
– Низшие роды разрешаются в высшие всеобщие, но истинно высшее всеобщее – то, в чём внешнее различение возвращается внутрь (как в жизни, Я, духе, абсолютном понятии).
– Абсолютное понятие – это идея бесконечного духа, где положенность есть прозрачная реальность, в которой дух созерцает себя в своём творении.
6. Особенность как самоопределение всеобщего.
– Истинное всеобщее свободно определяет себя, его ограничение – не переход (как в бытии), а творческая сила абсолютной отрицательности.
– Оно различает себя внутри себя, но эти различия остаются всеобщими, не распадаясь на изолированные конечные формы.
– Творчество понятия – в том, что оно облекает свои различия в форму всеобщности, сохраняя их как моменты себя самого.
Проверочные вопросы.
1. Как возникает понятие из бытия и сущности? В чём отличие этого перехода от простого последовательного развития?
2. Почему всеобщее нельзя свести к абстрактной простоте? Как в нём сочетаются единство и определённость?
3. Чем опосредствование в понятии отличается от опосредствования в сущности?
4. Как всеобщее связано с отрицанием отрицания? Почему это не внешнее, а внутреннее движение?
5. В чём проявляется творческая сила понятия? Как оно соотносится со своими определениями (особенным и единичным)?
6. Почему абсолютное понятие можно назвать "свободной любовью" или "бесконечным блаженством"?
7. Как низшие роды соотносятся с высшими всеобщими? В чём отличие формально высшего рода от истинно абсолютного понятия?
8. Как понятие "удерживает" свои различия, не позволяя им стать внешними и конечными?
B. Особенное понятие.
Определенность как таковая принадлежит бытию и качественному; как определенность понятия она есть особенность. Она не есть граница, так чтобы относиться к иному как к своему потустороннему, а, как только что показалось, есть собственный имманентный момент всеобщего; последнее, таким образом, в особенности не находится при ином, а просто при себе самом.
Особенное содержит всеобщность, составляющую его субстанцию; род остается неизменным в своих видах; виды не отличны от всеобщего, а различаются лишь между собой. Особенное имеет с другими особенностями, к которым оно относится, одну и ту же всеобщность. В то же время различие между ними, в силу их тождества со всеобщим, само есть всеобщее; оно есть тотальность. – Особенное, следовательно, содержит не только всеобщее, но и выражает его через свою определенность; последняя образует сферу, которую особенное должно исчерпать. Эта тотальность проявляется, поскольку определенность особенного берется как простое различие, в виде полноты. В этом отношении виды полны, поскольку их не существует больше. Для них нет внутренней меры или принципа, ибо различие есть как раз лишенное единства различие, в котором всеобщность, будучи для себя абсолютным единством, есть лишь внешняя рефлексия, а полнота – неограниченная, случайная. Однако различие переходит в противоположность, во внутреннее отношение различных.
Особенность же, будучи всеобщностью в себе и для себя, не через переход есть такое имманентное отношение; она есть тотальность в самой себе и простая определенность, по существу принцип. Она не имеет иной определенности, кроме той, которая положена самим всеобщим и вытекает из него следующим образом.
Особенное есть само всеобщее, но оно есть его различие или отношение к иному, его внешнее проявление; однако нет иного, от которого особенное отличалось бы, кроме самого всеобщего. – Всеобщее определяет себя, и тем самым оно само есть особенное; определенность есть его различие; оно различно лишь от самого себя. Его виды, следовательно, суть лишь:
а) само всеобщее и
б) особенное.
Всеобщее как понятие есть оно само и его противоположность, которая, в свою очередь, есть оно само как положенная определенность; оно выходит за его пределы и в нем находится у себя. Таким образом, оно есть тотальность и принцип своего различия, которое всецело определено лишь им самим.
Следовательно, нет иного истинного деления, кроме того, что понятие само становится на сторону как непосредственная, неопределенная всеобщность; именно эта неопределенность составляет его определенность, или то, что оно есть особенное. Оба суть особенное и потому координированы. Оба также как особенное суть определенное по отношению к всеобщему; они называются в этом отношении подчиненными. Но именно это всеобщее, против которого особенное определено, само оказывается лишь одним из противопоставленных. Когда мы говорим о двух противопоставленных, то должны также сказать, что они оба составляют особенное, не только вместе, что они для внешней рефлексии были бы равны в том, чтобы быть особенными, но их определенность друг против друга есть по существу лишь одна определенность, негативность, которая во всеобщем проста.
Как различие здесь проявляется, оно есть в своем понятии и тем самым в своей истине. Всякое предшествующее различие имеет это единство в понятии. Как непосредственное различие в бытии, оно есть граница иного; как различие в рефлексии, оно есть относительное, положенное как существенно относящееся к своему иному; здесь, таким образом, начинает полагаться единство понятия, но сначала оно есть лишь видимость в ином. – Переход и растворение этих определений имеют лишь тот истинный смысл, что они достигают своего понятия, своей истины; бытие, наличное бытие, нечто или целое и части и т. д., субстанция и акциденции, причина и действие суть сами по себе мыслительные определения; как определенные понятия они постигаются, поскольку каждая познается в единстве с другой или противоположной. – Целое и части, причина и действие и т. д. еще не суть различные, которые были бы определены как особенные друг против друга, ибо они хотя в себе составляют одно понятие, но их единство еще не достигло формы всеобщности; точно так же различие, которое есть в этих отношениях, еще не имеет формы, что оно есть одна определенность. Например, причина и действие – не два различных понятия, а лишь одно определенное понятие, и причинность, как и всякое понятие, есть нечто простое.
Что касается полноты, то оказалось, что определенность особенности полна в различии всеобщего и особенного и что лишь эти два составляют особенные виды. В природе, конечно, встречается в роде более двух видов, точно так же как эти многие виды не могут иметь указанного отношения друг к другу. Это есть бессилие природы – не удержать и не выразить строгость понятия, расплываясь в этой лишенной понятия слепой множественности. Мы можем восхищаться природой в многообразии ее родов и видов и бесконечном различии ее образований, ибо восхищение лишено понятия, и его предмет есть неразумное. Природе, поскольку она есть внешнее бытие понятия, позволено предаваться этому различию, подобно тому как дух, хотя он и имеет понятие в форме понятия, также вдается в представление и вращается в его бесконечной множественности. Многообразные роды или виды природы не должны почитаться ничем более высоким, чем произвольные выдумки духа в его представлениях. Оба, конечно, всюду показывают следы и предчувствия понятия, но не представляют его в верном образе, ибо они суть сторона его свободного внешнего бытия; он есть абсолютная сила именно потому, что может свободно отпустить свое различие в образ самостоятельной разнородности, внешней необходимости, случайности, произвола, мнения, которые, однако, должны приниматься не более чем за абстрактную сторону ничтожности.
Определенность особенного проста как принцип, как мы видели, но она есть также момент тотальности, как определенность против другой определенности. Понятие, поскольку оно определяет себя или различает, направлено негативно на свое единство и принимает форму одного из своих идеальных моментов бытия; как определенное понятие оно имеет наличное бытие вообще. Однако это бытие не имеет более значения простой непосредственности, а всеобщности, которая через абсолютное опосредование есть равная себе непосредственность, содержащая в себе столь же и другой момент – сущность или рефлексию в себя. Эта всеобщность, которой облечено определенное, есть абстрактная. Особенное имеет всеобщность в себе самом как свою сущность; но поскольку определенность различия положена и тем самым имеет бытие, она есть форма в нем, а определенность как таковая есть содержание. Всеобщность становится формой, поскольку различие есть существенное, тогда как, напротив, в чистом всеобщем оно есть лишь абсолютная негативность, а не различие, которое как таковое положено.
Определенность, правда, есть абстрактное по отношению к другой определенности; но другая есть лишь сама всеобщность, последняя в этом отношении также абстрактна; а определенность понятия, или особенность, есть опять-таки не что иное, как определенная всеобщность. Понятие в ней вне себя; поскольку оно есть то, что в ней вне себя, абстрактно-всеобщее содержит все моменты понятия:
α) всеобщность,
β) определенность,
γ) простое единство обоих;
но это единство есть непосредственное, и особенность потому не есть тотальность. В себе она также есть эта тотальность и опосредование; она есть по существу исключающее отношение к иному или снятие негации, а именно другой определенности, – другой, которая, однако, витает лишь как мнение, ибо непосредственно исчезает и показывает себя как то же самое, что и та, другой к которой она должна была бы быть. Это делает, таким образом, эту всеобщность абстрактной, поскольку опосредование есть лишь условие или не положено в ней самой. Поскольку оно не положено, единство абстрактного имеет форму непосредственности, а содержание – форму безразличия к своей всеобщности, ибо оно не есть эта тотальность, которая есть всеобщность абсолютной негативности. Абстрактно-всеобщее есть, правда, понятие, но как лишенное понятия, как понятие, которое не положено как таковое.
Когда речь идет об определенном понятии, то обычно имеют в виду лишь такое абстрактно-всеобщее. Также под понятием вообще чаще всего понимают это лишенное понятия понятие, и рассудок обозначает способность таких понятий. Демонстрация принадлежит этому рассудку, поскольку она движется в понятиях, то есть лишь в определениях. Такое движение в понятиях не выходит поэтому за конечность и необходимость; его высшее есть негативное бесконечное, абстракция высшего существа, которое само есть определенность неопределенности. Также абсолютная субстанция, правда, не есть эта пустая абстракция, по содержанию она, скорее, тотальность, но она потому абстрактна, что лишена абсолютной формы, ее глубочайшую истину не составляет понятие; хотя она есть тождество всеобщности и особенности, или мышления и внешности, но это тождество не есть определенность понятия; вне ее есть, и именно потому, что он вне ее, случайный рассудок, в котором и для которого она есть в различных атрибутах и модусах.
Впрочем, абстракция не пуста, как ее обычно называют; она есть определенное понятие; она имеет некоторую определенность в качестве содержания; даже высшее существо, чистая абстракция, как упомянуто, имеет определенность неопределенности; но неопределенность есть определенность, поскольку она должна противостоять определенному. Однако, когда высказывают, что она есть, это само снимает то, чем она должна быть; она высказывается как единое с определенностью, и таким образом из абстракции восстанавливается понятие и его истина. – Однако каждый определенный понятие пуст постольку, поскольку он не содержит тотальности, а лишь одностороннюю определенность. Если он имеет иной конкретный
Сюда относится обстоятельство, из-за которого рассудок в новейшие времена стал мало цениться и так сильно оттеснен на задний план перед разумом; это – та твердость, которую он сообщает определенностям и, следовательно, конечности. Это устойчивое состоит в рассмотренной форме абстрактной всеобщности; через нее они становятся неизменными. Ибо качественная определенность, как и рефлексивная определенность, существуют как ограниченные и через свою границу имеют отношение к своему иному, а потому – необходимость перехода и исчезновения. Но всеобщность, которую они получают в рассудке, придает им форму рефлексии в себя, благодаря чему они изымаются из отношения к иному и становятся неисчезающими. Если же в чистом понятии эта вечность принадлежит к его природе, то его абстрактные определения были бы вечными сущностями лишь по своей форме; но их содержание не соответствует этой форме; поэтому они не есть истина и неисчезаемость. Их содержание не соответствует форме, потому что оно не есть сама определенность как всеобщее, т. е. не как тотальность понятийного различия или не есть сама целая форма; форма ограниченного рассудка именно поэтому сама несовершенна, а именно – абстрактная всеобщность.
Но, далее, следует признавать бесконечную силу рассудка – разделять конкретное на абстрактные определенности и постигать глубину различия, которая одна только одновременно есть сила, производящая их переход. Конкретное созерцания есть тотальность, но чувственная – реальный материал, который безразлично существует вне себя в пространстве и времени; эта безучастность многообразного, в которой оно есть содержание созерцания, едва ли должна считаться его заслугой и преимуществом перед рассудочным. Изменчивость, которую оно проявляет в созерцании, уже указывает на всеобщее; то, что приходит в созерцание, есть лишь другое, столь же изменчивое, следовательно, лишь то же самое; это не всеобщее, которое заняло бы его место и явилось. Меньше всего следует приписывать науке, например, геометрии и арифметике, заслугу наглядности, которую приносит с собой их материал, и представлять их положения как обоснованные этим. Напротив, материал таких наук именно поэтому имеет низшую природу; созерцание фигур или чисел не способствует их научному познанию; лишь мышление о них может произвести таковое. Если же под созерцанием понимать не только чувственное, но объективную тотальность, то оно есть интеллектуальное, т. е. имеет бытие не в его внешнем существовании как предмет, но то, что в нем есть неисчезающая реальность и истина, – реальность, лишь поскольку она существенно в понятии и через него определена, идея, чья ближайшая природа должна раскрыться позже. То, что созерцание как таковое будто бы имеет перед понятием, – это внешняя реальность, бессмысленное, которое лишь через него получает ценность.
Поскольку рассудок представляет бесконечную силу, определяющую всеобщее, или, наоборот, сообщает самому по себе неустойчивому определенности через форму всеобщности твердое существование, то теперь не вина рассудка, если не идут дальше. Это – субъективное бессилие разума, которое признает эти определенности значимыми и не способно привести их обратно к единству через диалектическую силу, противоположную этой абстрактной всеобщности, т. е. через собственную природу, а именно через понятие этих определенностей. Рассудок, правда, через форму абстрактной всеобщности сообщает им, так сказать, такую твердость бытия, какой они не имеют в качественной сфере и сфере рефлексии; но через это упрощение он одновременно одухотворяет их и заостряет так, что именно на этой вершине они получают способность растворяться и переходить в свою противоположность. Высшая зрелость и ступень, которую что-либо может достигнуть, есть та, на которой начинается его гибель. Твердость определенностей, в которые рассудок, кажется, врезается, форма неисчезающего есть форма относящейся к себе всеобщности. Но она принадлежит понятию; и поэтому в ней самой выражено растворение конечного и в бесконечной близости. Эта всеобщность непосредственно обличает определенность конечного и выражает его несоответствие ей. – Или, вернее, его соответствие уже налично; абстрактная определенность положена как единая со всеобщностью; именно поэтому – не как для себя, поскольку она лишь определенна, но лишь как единство себя и всеобщего, т. е. как понятие.
Поэтому во всех отношениях следует отвергать обычное разделение рассудка и разума. Если понятие считается лишенным разума, то это скорее должно рассматриваться как неспособность разума познать себя в нем. Определенное и абстрактное понятие есть условие или, вернее, существенный момент разума; оно есть одухотворенная форма, в которой конечное через всеобщность, в которой оно относится к себе, воспламеняется в себе, как диалектически положенное и тем самым есть само начало явления разума.
Поскольку определенное понятие в предшествующем изложено в его истине, то остается лишь указать, как оно тем самым уже положено. – Различие, которое есть существенный момент понятия, но в чистой всеобщности еще не положено как таковое, получает в определенном понятии свое право. Определенность в форме всеобщности соединена с ней как простое; это определенное всеобщее есть относящаяся к себе самой определенность; определенная определенность или абсолютная отрицательность, положенная для себя. Но относящаяся к себе самой определенность есть единичность. Как всеобщность уже непосредственно в себе и для себя есть особенность, так же непосредственно в себе и для себя особенность есть единичность, которая сначала рассматривается как третий момент понятия, поскольку она противопоставлена двум другим внутри него и одновременно как положенная утрата себя самого.
Примечание. Всеобщность, особенность и единичность суть, согласно сказанному, три определенных понятия, если их вообще хотят считать. Уже ранее было показано, что число есть неподходящая форма для охвата понятийных определений, но всего менее подходящая для определений самого понятия; число, имея единицу своим принципом, делает считаемые совершенно обособленными и безразличными друг к другу. В предшествующем выяснилось, что различные определенные понятия суть скорее абсолютно одно и то же понятие, чем то, что они распадаются в число.
В обычном изложении логики встречаются различные деления и виды понятий. Сразу бросается в глаза непоследовательность, когда виды вводятся так: «По количеству, качеству и т. д. существуют следующие понятия». «Существуют» не выражает иного оправдания, кроме того, что такие виды обнаруживаются и показываются в опыте. Таким образом получается эмпирическая логика – странная наука, неразумное познание разумного. Логика здесь подает очень дурной пример следования своим собственным учениям; она позволяет себе делать для себя противоположное тому, что предписывает как правило: что понятия должны быть выведены, а научные положения (следовательно, также положение: «Существует столько-то видов понятий») – доказаны. – Кантовская философия совершает здесь дальнейшую непоследовательность: она заимствует для трансцендентальной логики категории как так называемые коренные понятия из субъективной логики, где они принимаются эмпирически. Раз она признает последнее, то не видно, почему трансцендентальная логика решается заимствовать из такой науки, а не хватает сразу сама эмпирически.
Чтобы привести кое-что из этого, понятия прежде всего делятся по их ясности, а именно на ясные и темные, отчетливые и неотчетливые, адекватные и неадекватные. Сюда же можно отнести полные, избыточные и другие подобные излишества. – Что касается этого деления по ясности, то скоро обнаруживается, что эта точка зрения и относящиеся к ней различия взяты из психологических, а не логических определений. Так называемое ясное понятие должно быть достаточным, чтобы отличить один предмет от другого; такое еще нельзя назвать понятием, это не более чем субъективное представление. Что такое темное понятие, должно оставаться в покое, иначе оно не было бы темным, оно стало бы отчетливым понятием. – Отчетливое понятие должно быть таким, о котором можно указать признаки. Следовательно, оно, собственно, есть определенное понятие. Признак, если понимать то, что в нем есть правильного, есть не что иное, как определенность или простое содержание понятия, поскольку оно отличается от формы всеобщности. Но признак сначала не имеет именно этого более точного значения, а есть вообще лишь определение, посредством которого третье лицо запоминает предмет или понятие; поэтому он может быть очень случайным обстоятельством. Вообще он выражает не столько имманентность и существенность определения, сколько его отношение к внешнему рассудку. Если этот действительно есть рассудок, то он имеет перед собой понятие и запоминает его не через что иное, как через то, что есть в понятии. Но если это должно отличаться от него, то это есть знак или иное определение, принадлежащее представлению вещи, а не ее понятию. – Что такое неотчетливое понятие, можно оставить как излишнее.
Адекватное понятие, однако, есть нечто более высокое; здесь, собственно, витает соответствие понятия с реальностью, что есть уже не понятие как таковое, а идея. Если бы признак отчетливого понятия действительно должен был быть самой определенностью понятия, то логика оказалась бы в затруднении с простыми понятиями, которые, согласно другому делению, противопоставляются сложным. Ибо если бы от простого понятия требовалось указать истинный, то есть имманентный признак, то его не захотели бы считать простым; поскольку же таковой не указывается, оно не было бы отчетливым понятием. Здесь, однако, выручает ясное понятие. Единство, реальность и тому подобные определения считаются простыми понятиями, вероятно, лишь по той причине, что логики не смогли обнаружить их определенность и потому удовлетворились тем, чтобы иметь о них лишь ясное понятие, то есть, по сути, никакого.
Для определения, то есть для указания понятия, обычно требуется указание рода и видового отличия. Таким образом, оно дает понятие не как нечто простое, а в виде двух счетных составляющих. Однако из этого вовсе не следует, что такое понятие должно считаться составным.
В случае простого понятия, видимо, подразумевается абстрактная простота – единство, не содержащее в себе различия и определенности, а потому и не то единство, которое присуще понятию. Поскольку предмет существует в представлении, особенно в памяти, или же как абстрактная мыслительная определенность, он может быть совершенно простым. Даже наиболее богатый внутренне предмет – например, дух, природа, мир, даже Бог, – схваченный беспонятийно в простое представление столь же простого выражения: «дух», «природа», «мир», «Бог», – есть нечто простое, на чем сознание может остановиться, не выделяя дальше собственной определенности или признака. Но предметы сознания не должны оставаться этой простотой, не должны быть представлениями или абстрактными мыслительными определенностями – они должны быть поняты, то есть их простота должна быть определена вместе с их внутренним различием.
Составное же понятие – это, пожалуй, не более чем деревянное железо. О чем-то составном можно, конечно, иметь понятие, но составное понятие было бы чем-то худшим, чем материализм, который, правда, принимает субстанцию души за нечто составное, но все же рассматривает мышление как простое.
Невоспитанная рефлексия сразу же наталкивается на составление как на совершенно внешнее отношение, наихудшую форму, в которой вещи могут быть рассмотрены; даже наиболее низкие природы должны быть внутренним единством. То, что форма наинеистиннейшего наличного бытия переносится на Я, на понятие, – это больше, чем можно было ожидать, и должно рассматриваться как неуместное и варварское.
Далее, понятия преимущественно делятся на контрарные и контрадикторные.
Если бы при рассмотрении понятия речь шла о том, чтобы указать, какие бывают определенные понятия, то пришлось бы перечислить все возможные определенности, – ибо все определенности суть понятия, а значит, определенные понятия, – и все категории бытия, как и все определенности сущности, должны были бы быть перечислены среди видов понятий. Как, впрочем, и в логиках – в одной по произволу больше, в другой меньше – рассказывается, что бывают утвердительные, отрицательные, тождественные, условные, необходимые и т. д. понятия.
Поскольку такие определенности уже остались позади по природе самого понятия и потому, если они упоминаются при его рассмотрении, не встречаются на собственном месте, они допускают лишь поверхностные словесные объяснения и появляются здесь без всякого интереса.
В основе контрарных и контрадикторных понятий – различия, на которое здесь обращается особое внимание, – лежат рефлексивные определенности различия и противоположности. Они рассматриваются как два особых вида, то есть каждый как твердо стоящий сам по себе и безразличный к другому, без всякой мысли о диалектике и внутренней несостоятельности этих различий; словно то, что контрарно, не должно быть столь же необходимо определено как контрадикторное.
Природа и существенный переход рефлексивных форм, которые они выражают, были рассмотрены в своем месте. В понятии тождество развилось в всеобщность, различие – в особенность, а противоположность, возвращающаяся в основание, – в единичность. В этих формах те рефлексивные определенности существуют так, как они есть в своем понятии.
Всеобщее оказалось не только тождественным, но одновременно и различным, или контрарным, по отношению к особенному и единичному, а также и противоположным им, или контрадикторным; однако в этой противоположности оно тождественно с ними и их истинное основание, в котором они сняты. То же самое относится к особенности и единичности, которые точно так же суть тотальность рефлексивных определенностей.
Далее, понятия делятся на подчиненные и координированные – различие, которое ближе подходит к определенности понятия, а именно к отношению всеобщности и особенности, где эти выражения также были упомянуты мимоходом. Только обычно их тоже рассматривают как совершенно твердые отношения, и на этом основании выдвигается множество бесплодных положений о них.
"Самое пространное обсуждение этого касается вновь отношения контрарности и контрадикторности к субординации и координации. Поскольку суждение есть отношение определённых понятий, то лишь в нём должно раскрыться их истинное соотношение. Тот способ сравнения этих определений без мысли об их диалектике и без внимания к непрерывному изменению их определённости – или, вернее, к присущей им связи противоположных определений – превращает всё рассмотрение того, что в них согласуется или нет, словно бы эта согласованность или несогласованность есть нечто отдельное и пребывающее, во нечто совершенно бесплодное и лишённое содержания.
Великий Эйлер, бесконечно плодовитый и проницательный в постижении и комбинировании глубоких соотношений алгебраических величин, особенно же суховато-рассудочный Ламберт и другие пытались обозначить такого рода отношения понятийных определений с помощью линий, фигур и тому подобного; вообще ставилась цель возвысить логические способы отношения до уровня исчисления – или, вернее, на самом деле низвести их. Уже сама попытка обозначения сразу же обнаруживает свою несостоятельность, если сравнить природу знака и то, что должно быть обозначено. Понятийные определения – всеобщность, особенность и единичность – конечно, различны, как линии или буквы в алгебре; они, далее, также противоположны и потому допускают знаки плюса и минуса. Но они сами и тем более их отношения – даже если оставаться лишь на уровне субсумции и ингеренции – имеют совершенно иную, существенную природу, нежели буквы и линии и их отношения: равенство или различие величины, плюс и минус, или положение линий друг над другом, или их соединение в углы и пространственные положения, которые они образуют. Подобные предметы обладают по сравнению с ними той особенностью, что они внешни друг другу и имеют фиксированную определённость. Если же понятия берутся так, что соответствуют таким знакам, они перестают быть понятиями. Их определения – не нечто мёртво-неподвижное, как числа и линии, чьи отношения им не принадлежат; они суть живые движения; определённость одной стороны непосредственно внутренне присуща и другой; то, что для чисел и линий было бы совершенным противоречием, для природы понятия существенно.
Высшая математика, которая также продвигается к бесконечному и допускает противоречия, не может более использовать свои обычные знаки для представления таких определений. Для обозначения ещё весьма бедной понятием идеи бесконечного приближения двух ординат или приравнивания дуги к бесконечному числу бесконечно малых прямых линий она не делает ничего иного, кроме как рисует две прямые линии отдельно и вписывает в дугу прямые линии, но как отличные от неё; что же касается бесконечного, на котором здесь всё держится, она отсылает к представлению."
Примечания:
1. Контрарность и контрадикторность – термины логики, обозначающие разные типы противоположности.
2. Субсумция и ингеренция – подведение под понятие и присущность (отношения между понятиями).
3. Эйлер и Ламберт – математики, пытавшиеся формализовать логические отношения через геометрические и алгебраические символы.
4. "Живые движения" – гегелевская характеристика динамичной природы понятий в отличие от статичности математических объектов.
«Что прежде всего побудило к этой попытке, – это главным образом количественное соотношение, в котором всеобщность, особенность и единичность должны находиться друг к другу; всеобщее называется более широким, чем особенное и единичное, а особенное – более широким, чем единичное. Понятие есть конкретное и самое богатое, потому что оно есть основа и тотальность прежних определений – категорий бытия и рефлективных определений; поэтому они, конечно, выступают и в нём. Но его природа совершенно искажается, если их в нём всё ещё удерживают в той абстракции; если более широкий объём всеобщего понимается так, что оно есть нечто большее или большее количество, чем особенное и единичное. Как абсолютное основание, оно есть возможность количества, но в равной мере и качества, т. е. его определения столь же качественно различаются; поэтому они рассматриваются уже против их истины, если полагаются лишь под формой количества. Далее, рефлективное определение есть нечто относительное, в котором проявляется его противоположность; оно не находится во внешнем отношении, как количество. Но понятие есть больше, чем всё это; его определения – определённые понятия, по существу сами тотальность всех определений. Поэтому совершенно неподходяще, чтобы схватить такую внутреннюю тотальность, желать применять числовые и пространственные соотношения, в которых все определения распадаются; они, скорее, есть самое последнее и худшее средство, которое могло бы быть использовано. Природные соотношения, как, например, магнетизм, цветовые отношения, были бы бесконечно более высокими и истинными символами для этого. Поскольку человек обладает языком как свойственным разуму средством обозначения, то это праздная выдумка – искать более несовершенный способ представления и мучиться с ним. Понятие как таковое по существу может быть схвачено только духом, чьей собственностью оно не только является, но чьим чистым «Я» оно есть. Тщетно желать удерживать его посредством пространственных фигур и алгебраических знаков ради внешнего глаза и безпонятийного, механического способа обработки, вычисления. Также и всё другое, что должно служить символом, может в лучшем случае, как символы для природы Бога, возбуждать предчувствия и отзвуки понятия; но если серьёзно хотят выразить и познать понятие через них, то внешняя природа всех символов неадекватна для этого, и, скорее, отношение обратное: то, что в символах есть отзвук более высокого определения, сначала познаётся через понятие и только через отделение того чувственного приложения, которое предназначено его выражать, должно быть приближено к нему.»
1. Определенность как особенность.
Определенность, которая в сфере бытия была качеством, а в сущности – границей, в понятии становится особенностью. Но особенность – не внешняя граница, отсылающая к чему-то иному, а имманентный момент самого всеобщего. Всеобщее не противостоит особенному как чему-то чуждому – оно раскрывается через него, оставаясь у себя.
Особенное включает в себя всеобщее как свою субстанцию: подобно тому как род сохраняется в своих видах, так и всеобщее остается тождественным себе в особенном. Виды различаются не с всеобщим, а между собой, имея одну и ту же всеобщую основу.
2. Особенное как тотальность.
Особенное не просто содержит всеобщее, но и выражает его через свою определенность. Эта определенность образует сферу полноты, которую особенное должно исчерпать. Однако если брать особенное как простое различие, его полнота оказывается случайной, лишенной внутреннего единства.
Но особенность – не просто переходное различие, а принцип, тотальность в себе. Она определяется не извне, а через само всеобщее. Особенное – это всеобщее, которое само себя различает, полагая свою определенность.
3. Всеобщее и особенное как моменты понятия.
Всеобщее, определяя себя, становится особенным. Но это различение происходит не вовне, а внутри самого понятия:
– Всеобщее – неопределенная, чистая форма.
– Особенное – определенное всеобщее, его конкретное выражение.
Они не просто противопоставлены, а координированы: каждое есть особенное по отношению к другому. Их единство – в негативности, которая удерживает их как моменты единого понятия.
4. Критика формальных делений понятий.
Традиционная логика делит понятия на:
– Ясные и темные, отчетливые и неотчетливые – но это психологические, а не логические различия.
– Простые и сложные – но простота без внутренней определенности пуста, а сложность – внешнее соединение, не соответствующее природе понятия.
– Контрарные и контрадикторные – эти различия заимствованы из рефлексии (противоположность и противоречие), но в понятии они сняты в высшем единстве.
5. Рассудок и разум.
Рассудок фиксирует абстрактные определенности, придавая им видимость устойчивости. Но именно эта жесткость ведет к их диалектическому переходу в противоположность. Разум же схватывает понятие в его живой подвижности, где все моменты взаимосвязаны.
Попытки представить логические отношения математически (как у Эйлера или Ламберта) неудачны: понятия – не внешние знаки, а самодвижущиеся определения, которые нельзя выразить через линии или числа.
6. Итог: особенность как переход к единичности.
Особенность, будучи определенным всеобщим, снимает себя в единичности – третьем моменте понятия, где всеобщее и особенное достигают конкретного единства.
Ключевые тезисы:
– Особенное – не внешнее ограничение всеобщего, а его внутреннее развитие.
– Понятие есть тотальность, где различия (всеобщее, особенное, единичное) суть моменты одного движения.
– Формальная логика ошибочно закрепляет определения как неизменные, тогда как их истина – в диалектическом переходе.
– Живая природа понятия требует мыслить его как процесс, а не как набор застывших форм.
Проверочные вопросы по разделу «Особенное понятие».
1. Основные определения
1. Как Гегель определяет особенность в отличие от простой определенности бытия?
2. Почему особенность не является внешней границей понятия?
3. Как соотносятся всеобщее и особенное в понятии?
2. Диалектика всеобщего и особенного
4. Почему всеобщее, определяя себя, становится особенным?
5. Как особенное выражает всеобщее? Приведите пример (можно из науки или философии).
6. Почему различие между всеобщим и особенным – это не внешнее противопоставление, а внутренний момент понятия?
3. Критика формальной логики
7. В чем недостаток деления понятий на ясные/темные или простые/сложные с точки зрения Гегеля?
8. Почему контрарность и контрадикторность не исчерпывают природу понятия?
9. Как Гегель критикует попытки представить логические отношения через математические символы (как у Эйлера и Ламберта)?
4. Рассудок и разум
10. Чем рассудочное мышление отличается от разумного в понимании Гегеля?
11. Почему рассудок, фиксируя определения, одновременно подготавливает их диалектическое отрицание?
12. Как «абстрактная всеобщность» рассудка связана с конечностью понятий?
5. Переход к единичности
13. Почему особенность снимается в единичности?
14. Как три момента понятия (всеобщее, особенное, единичное) образуют тотальность?
6. Применение к реальности
15. Можете ли вы привести пример из науки, истории или искусства, где проявляется диалектика всеобщего и особенного?
16. Как гегелевское понимание особенности отличается от традиционного (например, в формальной логике)?
Эти вопросы помогут проверить:
– Понимание ключевых терминов (особенность, всеобщее, имманентный момент).
– Умение видеть диалектику в движении понятий.
– Критическое осмысление формально-логических подходов.
– Способность применять гегелевскую логику к конкретным примерам.
C. Единичное.
Единичность, как выяснилось, уже положена через особенность; последняя есть определенная всеобщность, следовательно, относящаяся к себе определенность, определенное определенное.
1. Прежде всего, единичность является, таким образом, как рефлексия понятия из его определенности в себя самое. Она есть опосредствование его через себя самого, поскольку его инобытие снова сделалось другим, благодаря чему понятие восстановлено как равное себе, но в определении абсолютной отрицательности.
Отрицательное во всеобщем, благодаря которому оно есть особенное, ранее было определено как двойственная видимость: поскольку оно есть видимость внутрь, особенное остается всеобщим; через видимость вовне оно есть определенное. Возвращение этой стороны во всеобщее двояко: либо через абстракцию, которая отбрасывает его и восходит к более высокой и высшей роду, либо через единичность, к которой всеобщее в самой определенности нисходит.
Здесь отходит боковой путь, на котором абстракция сходит с пути понятия и оставляет истину. Ее высшее и наивысшее всеобщее, к которому она возвышается, есть лишь все более опустошающаяся поверхность; презираемая ею единичность есть глубина, в которой понятие схватывает само себя и положено как понятие.
Всеобщность и особенность, с одной стороны, явились как моменты становления единичности. Но уже было показано, что они сами по себе суть тотальное понятие, следовательно, в единичности не переходят в другое, а лишь положено то, что они есть в себе и для себя.
Всеобщее есть для себя, потому что оно в себе есть абсолютное опосредствование, отношение к себе лишь как абсолютная отрицательность. Оно есть абстрактное всеобщее, поскольку это снятие есть внешнее действие и тем самым отбрасывание определенности. Эта отрицательность, правда, есть в абстрактном, но она остается вне его, как простое условие его; она есть сама абстракция, которая противостоит своему всеобщему, поэтому последнее не имеет в себе единичности и остается бессодержательным.
Жизнь, дух, Бог – так же, как и чистое понятие, абстракция не способна постичь именно потому, что она удерживает свои продукты, единичность, принцип индивидуальности и личности, и потому приходит лишь к безжизненным и бездуховным, бесцветным и бессодержательным всеобщностям.
Но единство понятия настолько нераздельно, что даже эти продукты абстракции, хотя они должны отбрасывать единичность, сами суть скорее единичные. Поскольку она возвышает конкретное во всеобщность, но всеобщее схватывает лишь как определенную всеобщность, то это и есть единичность, которая оказалась относящейся к себе определенностью.
Абстракция, таким образом, есть разделение конкретного и обособление его определений; через нее схватываются лишь отдельные свойства или моменты; ибо ее продукт должен содержать то, что она сама есть.
Однако различие этой единичности ее продуктов и единичности понятия состоит в том, что в первых единичное как содержание и всеобщее как форма различны между собой – потому что именно первое не есть абсолютная форма, не есть само понятие, или последнее не есть тотальность формы.
Но более близкое рассмотрение показывает, что абстрактное само есть единство единичного содержания и абстрактной всеобщности, следовательно, конкретное, противоположное тому, чем оно хочет быть.
Особенное по той же причине, что оно есть лишь определенное всеобщее, есть также единичное, и наоборот, поскольку единичное есть определенное всеобщее, оно столь же есть особенное.
Если держаться этой абстрактной определенности, то понятие имеет три особых определения: всеобщее, особенное и единичное; тогда как ранее только всеобщее и особенное указывались как виды особенного.
Поскольку единичность есть возвращение понятия как отрицательного в себя, то это возвращение само может быть поставлено абстракцией, которая в нем действительно снята, как безразличный момент рядом с другими и сосчитано.
Если единичность приводится как одна из особенных определений понятия, то особенность есть тотальность, которая объемлет все в себе; как эта тотальность она есть конкретное их, или сама единичность.
Она есть конкретное, но также, как было замечено ранее, как определенная всеобщность; так она есть непосредственное единство, в котором ни один из этих моментов не положен как различенный или как определяющий, и в этой форме она составит середину формального умозаключения.
Само собой бросается в глаза, что каждое определение, сделанное в предыдущем изложении понятия, непосредственно растворялось и терялось в своем другом. Всякое различие смешивается в рассмотрении, которое должно было бы изолировать и удерживать его.
Только простое представление, для которого абстрагирование изолировало их, способно твердо удерживать всеобщее, особенное и единичное раздельно; так они исчислимы, и для дальнейшего различия оно держится за совершенно внешнее различие бытия – количество, которое нигде менее уместно, чем здесь.
В единичности положено это истинное отношение – нераздельность определений понятия; ибо как отрицание отрицания она содержит противоположность их и в то же время его в его основе или единстве; слияние каждого с другим.
Поскольку в этой рефлексии в себе и для себя есть всеобщность, она по существу есть отрицательность определений понятия не только так, что она была бы лишь третьим, отличным от них, но теперь положено, что положенность есть в-себе-и-для-себя-бытие; то есть что принадлежащие различию определения сами суть каждое тотальность.
Возвращение определенного понятия в себя состоит в том, что оно имеет определение быть в своей определенности целым понятием.
2. Однако единичность есть не только возвращение понятия в себя, но непосредственно его утрата. Через единичность, как оно в ней есть в себе, оно выходит вне себя и вступает в действительность.
Абстракция, которая как душа единичности есть отношение отрицательного к отрицательному, как показано, не есть нечто внешнее для всеобщего и особенного, но имманентна им, и они через нее суть конкретное, содержание, единичное.
Но единичность как эта отрицательность есть определенная определенность, различение как таковое; через эту рефлексию различия в себя оно становится устойчивым; определение особенного впервые осуществляется через единичность; ибо она есть та абстракция, которая теперь именно как единичность есть положенная абстракция.
Единичное, таким образом, как относящаяся к себе отрицательность, есть непосредственное тождество отрицательного с собой; оно есть для-себя-сущее. Или оно есть абстракция, которая определяет понятие по его идеальному моменту бытия как непосредственное.
Так, единичное есть качественное одно или это. Согласно этому качеству, оно, во-первых, есть отталкивание себя от себя, благодаря чему предполагаются многие другие единицы; во-вторых, оно есть теперь отрицательное отношение к этим предполагаемым другим, и единичное, таким образом, исключающее.
Всеобщность, отнесенная к этим единичным как безразличным единицам – а отнесена она должна быть, поскольку она есть момент понятия единичности – есть лишь их общее.
Если под всеобщим понимается то, что обще многим единичным, то исходят из их безразличного существования, и в определение понятия примешивается непосредственность бытия.
Самое низкое представление, которое можно иметь о всеобщем в его отношении к единичному, есть это внешнее отношение его как лишь общего.
Единичное, которое в сфере рефлексии существования есть это, не имеет исключающего отношения к другому единому, которое принадлежит качественному для-себя-бытию.
Это есть как в себя рефлектированное одно для себя без отталкивания; или отталкивание в этой рефлексии слито с абстракцией в одно и есть рефлектирующее опосредствование, которое так есть в нем, что оно есть положенная, указанная извне непосредственность.
Это есть; оно есть непосредственное; но оно есть это лишь постольку, поскольку оно демонстрируется. Демонстрирование есть рефлектирующее движение, которое собирает себя в себя и полагает непосредственность, но как внешнюю себе.
Единичное, правда, также есть это как восстановленное из опосредствования непосредственное; но оно не имеет его вне себя, оно само есть отталкивающее отделение, положенная абстракция, но в своем отделении само есть положительное отношение.
Это абстрагирование единичного как рефлексия различия в себя есть, во-первых, полагание различенных как самостоятельных, в себя рефлектированных. Они суть непосредственные; но далее, это разделение есть рефлексия вообще, явление одного в другом; так они стоят в существенном отношении.
Они, далее, не просто сущие единичные друг против друга; такая множественность принадлежит бытию; единичность, полагающая себя как определенная, полагает себя не во внешнем различии, а в различии понятия; она, следовательно, исключает всеобщее из себя, но так как это момент ее самой, то столь же существенно относится к нему.
Понятие как это отношение своих самостоятельных определений потеряло себя; ибо тогда оно уже не есть положенное единство их, и они не суть более как моменты, как его видимость, а как сущие в себе и для себя.
Как единичность, оно возвращается в определенности в себя; тем самым определенное само стало тотальностью. Его возвращение в себя есть поэтому абсолютное, первоначальное разделение себя, или как единичность оно положено как суждение.
Единичность уже оказывается опосредована особенностью, которая представляет собой определённую всеобщность – то есть всеобщность, связанную с конкретным различием. Таким образом, особенность – это определённое определённое, то есть всеобщность, отнесённую к самой себе через свою специфику.
1. Единичность как возвращение понятия в себя
Единичность возникает как результат рефлексии понятия из своей определённости обратно в себя. Это движение опосредовано самим собой: понятие, проходя через своё инобытие (иное себе), восстанавливается в своей абсолютной отрицательности, то есть вновь становится равным себе, но уже в новом качестве.
– Отрицательное во всеобщем (то, что делает его особенным) ранее рассматривалось двояко:
– как видимость внутрь (особенное остаётся всеобщим),
– как видимость вовне (особенное становится определённым).
Возвращение к всеобщему возможно двумя путями:
1. Через абстракцию (отбрасывание определённости и движение к более высоким родам).
2. Через единичность (нисхождение всеобщего в конкретную определённость).
Абстракция, однако, уводит от истины: её высшие всеобщности становятся всё более пустыми, тогда как единичность – это глубина, в которой понятие обретает себя.
Всеобщность и особенность – не просто ступени к единичности, но и самостоятельные тотальности. Всеобщее существует для себя, поскольку оно есть абсолютное опосредствование (отношение к себе через отрицание). Однако абстрактное всеобщее отбрасывает определённость, оставаясь бессодержательным.
Пример: Жизнь, дух, Бог – это не абстракции, а конкретные единства, которые абстракция не может постичь, так как отбрасывает единичность (принцип индивидуальности), оставляя лишь мёртвые, бесцветные всеобщности.
Но даже продукты абстракции (которые должны были исключить единичность) сами оказываются единичными, поскольку конкретное, возведённое во всеобщность, остаётся определённой всеобщностью – а это и есть единичность.
– Особенное – это определённое всеобщее, а значит, оно также единично.
– Единичное – это определённое всеобщее, а значит, оно также особенное.
Если рассматривать эти определения формально, то понятие имеет три момента: всеобщее, особенное, единичное. Однако ранее выделялись только всеобщее и особенное как виды особенного.
Единичность – это возвращение понятия в себя через отрицание, но абстракция может представить это возвращение как просто один из моментов, лишённый внутренней связи.
Истинное отношение между определениями понятия раскрывается в их нераздельности:
– Единичность содержит в себе всеобщность и особенность как снятые моменты.
– Каждое определение (всеобщее, особенное, единичное) само есть тотальность, а не просто часть целого.
2. Единичность как выход понятия в действительность.
Единичность – не только возвращение понятия в себя, но и его выход вовне, переход в действительность.
– Единичное как отрицательность (различение) становится устойчивым определением.
– Оно есть для-себя-сущее, то есть качественно определённое одно (это).
– Как одно, оно отталкивает другие единицы (множественность).
– Как отрицательное, оно исключает иное, утверждая себя.
Всеобщность, соотнесённая с такими единичными, становится лишь их общим (внешним сходством). Это самое примитивное понимание всеобщего.
В сфере рефлексии единичное не просто исключает другое, но опосредовано им:
– Оно есть как непосредственное, но эта непосредственность задаётся через демонстрацию (внешнее указание).
– Его отрицательность – не просто разрыв, но и положительное отношение.
Единичное, исключая всеобщее, одновременно относится к нему, поскольку всеобщее – его собственный момент.
Итог:
Понятие, разворачиваясь в единичности, теряет себя как простое единство и переходит в суждение – разделение себя на самостоятельные определения.
Проверочные вопросы.
1. Как единичность связана с особенностью и всеобщностью?
2. Почему абстракция не может полностью постичь понятие?
3. В чём разница между абстрактным и конкретным всеобщим?
4. Как единичное соотносится с «одним» (качественной определённостью)?
5. Почему единичность – это не только возвращение понятия в себя, но и его выход в действительность?
6. Как всеобщее проявляется в отношении к единичным вещам?
7. Что означает, что единичное есть «отрицательное отношение» к другому?
8. Как понятие переходит в суждение через единичность?
Вторая глава. Суждение.
Суждение есть определенность, положенная в самом понятии. Определения понятия, или, как оказалось, то же самое – определенные понятия, уже рассматривались сами по себе; но это рассмотрение было скорее субъективной рефлексией или субъективной абстракцией. Однако понятие само есть это абстрагирование, противопоставление его определений есть его собственное определение. Суждение есть это полагание определенных понятий самим понятием. Суждение в этом смысле является иной функцией, чем постижение, или, точнее, иной функцией понятия, поскольку оно есть определение понятия через само себя, и дальнейшее развитие суждения – это различие суждений, которое есть дальнейшее определение понятия. Какие бывают определенные понятия и как эти определения необходимо возникают – это должно показаться в суждении.
Суждение поэтому можно назвать ближайшей реализацией понятия, поскольку реальность означает вступление в наличное бытие как определенное бытие вообще. Более конкретно природа этой реализации такова, что, во-первых, моменты понятия благодаря его рефлексии в себя или его единичности суть самостоятельные тотальности; во-вторых, единство понятия есть их отношение. Определения, рефлектированные в себя, суть определенные тотальности, столь же существенные в безразличном, бессвязном существовании, как и через взаимное опосредование друг с другом. Само определение есть тотальность лишь постольку, поскольку оно содержит эти тотальности и их отношение. Эта тотальность и есть суждение.
Оно содержит, во-первых, два самостоятельных момента, которые называются субъектом и предикатом. Что есть каждый из них, собственно, еще нельзя сказать; они еще неопределенны, ибо только через суждение они должны получить свою определенность. Поскольку суждение есть понятие как определенное, здесь присутствует лишь всеобщее различие между ними, состоящее в том, что суждение содержит определенное понятие в противоположность еще неопределенному. Субъект, таким образом, может быть взят по отношению к предикату как единичное по отношению к всеобщему, или же как особенное по отношению к всеобщему, или как единичное по отношению к особенному; поскольку они вообще противостоят друг другу как более определенное и более всеобщее.
Поэтому уместно и необходимо иметь для определений суждения эти названия – субъект и предикат; как названия они есть нечто неопределенное, что еще должно получить свои определения; и поэтому они не более чем названия. Определения понятия сами по себе не могли бы быть использованы для двух сторон суждения, отчасти по этой причине, отчасти же еще более потому, что природа определения понятия обнаруживает себя не как нечто абстрактное и застывшее, но как содержащее в себе свою противоположность и полагающее ее в себе; поскольку стороны суждения сами суть понятия, то есть тотальность его определений, они должны пройти через все эти определения и показать их в себе – будь то в абстрактной или конкретной форме.
