Актёрское мастерство и режиссура музыкального театра бесплатное чтение
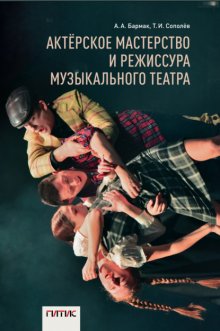
© Бармак А. А., Сополёв Т. И., 2020
© Издательство ГИТИС, 2020
Первый курс
Музыкальные упражнения и музыкальные этюды
Многолетние наблюдения за абитуриентами, стремящимися поступить на факультет актеров и режиссеров музыкального театра, свидетельствуют о том, что уровень знаний молодых людей о выбранной ими специальности оставляет желать лучшего.
В связи с этим возрастает роль теоретических занятий со студентами. Они должны получить представление о театре в целом, о методологии русского театра, ставшей благодаря ее создателям К. С. Станиславскому и Вл. И. Немировича-Данченко всемирно признанным культурным наследием. Студенты должны узнать о методологических открытиях великих режиссеров и педагогов в музыкальном театре и научиться применять их в своей работе.
Студенты должны понимать роль и значение выдающихся режиссеров, практиков оперного театра, создателей многих музыкальных спектаклей, вошедших в золотой фонд отечественного театрального искусства. Многие из них преподавали в ГИТИСе и, в сущности, заложили основы актерско-режиссерской школы ГИТИСа, в частности школы актеров и режиссеров музыкального театра. Они должны познакомиться с такими именами музыкального театра, как Л. В. Баратов, И. М. Туманов, Б. М. Мордвинов, И. М. Раппопорт, Б. А. Покровский, М. Б. Мордвинов, Г. П. Ансимов, Л. Д. Михайлов, Ю. А. Петров, М. А. Ошеровский и др. Все эти замечательные режиссеры были в то же время и создателями актерской и режиссерской методологии российского музыкального театра. Методологии, основанной на принципах системы К. С. Станиславского и театрального учения Вл. И. Немировича-Данченко. Ученики, а некоторые из них и соратники К. С. Станиславского, Вл. И. Немировича-Данченко, Вс. Э. Мейерхольда, Е. Б. Вахтангова, в своей педагогической работе основывались на фундаменте русской театральной школы, проповедовали методологию русского театра, в значительной мере успешно применяя ее и в своих спектаклях, и в своей педагогической работе с учениками. Именно овладение школой они ставили необходимой предпосылкой для их дальнейшего творчества.
При этом они, всегда будучи чуткими по отношению ко времени, эпохе, развивали принципы русской театральной школы, школы музыкального театра, никогда не отступали от принципов правды жизни человеческого духа, оставаясь предельно современными в поисках выразительных средств, отвечающих переживаемой эпохе. Именно их творческая и педагогическая деятельность доказала, что при скоротечности эстетических идеалов и мимолетности художественных форм всегда остается незыблемой методологическая школа русского театра и в музыкальной его ипостаси.
С первых же занятий на первом курсе студенты должны получать знания о том, что русская театральная школа, в том числе и школа музыкального театра, нашла в двадцатом веке свое максимальное воплощение в педагогической деятельности К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Рядом с ними надо назвать и имя великого русского артиста-певца Ф. И. Шаляпина, который был и театральным педагогом, воспитавшим целый ряд выдающихся актеров и оставившим нам ценнейшее теоретическое наследие.
Было бы полезным заставить учеников познакомиться с творческим литературным наследием Б. А. Покровского, Г. П. Ансимова, Л. Д. Михайлова, Ф. И. Шаляпина, С. Я. Лемешева. С книгами Г. В. Кристи, П. Румянцева, П. А. Маркова о музыкальных театрах и репетициях К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, об открытиях в оперном театре, сделанных этими великими режиссерами и педагогами. Особое место занимает при этом внимательное рассмотрение оперного творчества Вс. Э. Мейерхольда, его работа в Мариинском театре, его постановки оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» совместно с выдающимся дирижером С. А. Самосудом.
Режиссерской группе необходимо познакомиться с такими основными для методологии современного театра трудами, каковыми являются книги Н. М. Горчакова, А. Д. Попова, М. О. Кнебель, Г. А. Товстоногова, А. А. Гончарова, А. В. Эфроса и др. Само собой разумеется, что изучение классических трудов по методологии актерского искусства и режиссуры не должно заканчиваться на первом курсе, а должно быть распределено на все годы обучения. Нужно стараться пробудить у студентов жажду знаний, они должны понять, что в театре вообще и в музыкальном театре в частности многое было сделано до них, многое еще требует внимательного изучения и осмысления в соотношении с современным театральным процессом. Педагогам уже на первом курсе необходимо добиваться от студентов понимания того, что эстетика театра меняется и порою меняется очень быстро. Но что существуют незыблемые методологические ценности, знание, понимание и освоение которых необходимы при любых эстетических переменах эпохи. Нужно прививать студентам понимание того, что театральные формы могут быть самыми разными, их разнообразие бесконечно, современный театр дает, например, режиссерам такие средства выразительности, о которых раньше можно было только мечтать. Но понимание того, что при любых формах, какими бы они не были экстравагантными и обаятельными, все равно главное на сцене – это живой человек, главная задача актера – сотворение живого человеческого характера, образа подлинно живого человека должно начинаться уже на первом курсе. Студент должен прийти к пониманию того, что это безусловное требование к профессиям актера и режиссера, на котором зиждется искусство русского театра.
Целесообразно проводить семинары по прочитанным книгам, на которых студенты делали бы доклады по выбранным ими и кажущимся им актуальными для современного театра темам.
Практика совместного обучения режиссеров и актеров музыкального театра, прочно утвердившаяся на факультете музыкального театра ГИТИСа, реально сближает обучение с воспитанием, теорию с практикой и очевидно способствует формированию творческих индивидуальностей и профессионализации будущих режиссеров и актеров.
Один из основных принципов воспитания будущего художника музыкального театра, актера-певца – принцип неразрывности освоения специфических выразительных средств музыкального театра и овладения законами природы актерского творчества, когда одно невозможно без другого. Умение действовать и это действие выразить пением, словом, звуком, пластикой.
Необходимые составляющие режиссерского творчества в музыкальном театре – овладение всеми видами искусства, привлекаемыми для создания сценического образа: словом, музыкой, живописью, архитектурой, скульптурой, светописью и др.; знание принципов музыкальной драматургии и владение музыкой как средством раскрытия в человеке его эмоциональной глубины; понимание сути музыкального театра как детища театра и музыки.
Будущий курс факультета музыкального театра закладывается как самостоятельная творческая единица – мастерская как коллектив, лучше сказать, ансамбль индивидуальностей, еще в процессе вступительных экзаменов и даже еще раньше – в ходе предварительных консультаций с абитуриентами. Известно, что каков набор – таков будет и выпуск.
Проводя консультации и вступительные экзамены, надо очень хорошо понимать, что сценическая заразительность у актера музыкального театра может быть и очень часто бывает несколько иной, чем у актера драматического театра. Может быть даже совсем иной. По смыслу самой своей профессии наиболее заразительным, обаятельным становится актер музыкального театра именно в процессе действенного пения. Именно в пении раскрываются его способности к ярким внутренним видениям, воображение, фантазия, владение смысловой интонацией. Исключительно важно проверять способность абитуриента и в чтении, и, особенно, в пении к перемене задания, к изменению смысловой интонации в зависимости от события, поставленной задачи, перемены предлагаемых обстоятельств и т. п.
Основная цель приемных экзаменов по режиссерской специальности – проверка предрасположенности (способностей) абитуриента к избранной профессии и выявление его творческой индивидуальности. Отбор имеет свои особенности.
Важно определение как социально-психологических качеств поступающего (жизненного и профессионального опыта, личных творческих убеждений, волевых, интеллектуальных и эмоциональных характеристик), так и специальных творческих данных: фантазии и воображения; способности к образному, метафорическому мышлению; пластического видения; способности мыслить действенными и событийными категориями; достаточного для поступления в институт знания классической и современной музыки русских и зарубежных композиторов; хорошей подготовки в теории музыки и знаний в теории; способности к пространственно-временному восприятию; организационных качеств; осведомленности в сфере смежных искусств; художественного вкуса; ощущения стиля и жанра; наличия чувства юмора.
В самом начале занятий с первым курсом возникает вопрос, когда же необходимо привлекать музыку в процесс освоения актерского мастерства студентами. Это очень серьезный вопрос, и решает его каждая мастерская по-своему. Но все-таки вряд ли целесообразно откладывать встречу с музыкой, особенно при четырехгодичном цикле обучения. Главное здесь, для чего привлекается музыка и какие задача она решает. С первых же этапов соприкосновения с музыкой студенты должны постепенно научиться понимать, что музыка не может быть фоном, не является иллюстрацией настроения, не может заменить собой атмосферу спектакля. В музыке надо с первых же шагов научиться видеть толчок к действию, необходимо научиться «расчленять» музыку в соответствии с ее драматургией. Искать в музыкальном материале событийный ряд в соответствии с гармоническими, темповыми, интонационными и другими изменениями музыкального произведения. На первых порах, конечно, лучше привлекать инструментальный музыкальный материал не очень длинный, но в котором можно без труда отыскать все эти изменения, для того чтобы в соответствии с ними строить свое поведение и в упражнении, и, чуть позже, в этюде.
С первых же дней наряду с традиционными упражнениями, воспитывающими сценическое внимание, освобождающими мышцы, развивающими воображение и т. д., необходимо начинать работать с музыкой самыми разными способами.
Музыка в этой части актерского тренинга первого курса может участвовать почти во всех предложенных педагогами упражнениях: как сопровождение традиционных упражнений, дисциплинирующее студента, старающегося уловить все музыкально-драматические изменения в музыкальном материале, часто дающие упражнениям новые краски, а иногда и новые смыслы; как провокация, вызывающая конфликт и противодействие; как текст (материал) для исследования (анализа музыкального произведения); как стимул, рождающий новые эмоции; как контрапункт психофизическому самочувствию; как импульс, будоражащий творческую фантазию, и т. д. Но при одном условии – никогда музыка не может быть поводом к иллюстрации настроения, к изображению состояния, то есть к бездейственному пребыванию на площадке. Это одна из бед музыкального театра, когда актер, не получивший должного актерского воспитания, не прошедший основ актерской школы, склонен к игре эмоциями, пытаясь тем или иным состоянием передать всю сложность музыкальной ткани произведения. Напротив, студентов надо приучать к тому, что их действие может и должно быть перпендикулярным музыке.
Цели и задачи первого курса, фундаментального, исключительно важного, остались все теми же – освобождение психофизического аппарата студента: снятие мышечного зажима и психологическая свобода – необходимые предпосылки к дальнейшему творческому процессу обучения и воспитания. Успешное выполнение этой важнейшей задачи невозможно без освоения элементов внутренней техники актера на основе системы К. С. Станиславского и учения Вл. И. Немировича-Данченко, в результате чего студенты обретают умение «обоснованно, целесообразно и продуктивно» действовать в данных предлагаемых, в том числе и музыкальных, обстоятельствах.
Ведь именно на первом курсе закладывается тот фундамент актерской школы, на который опирается актер в своей последующей работе по овладению законами сценического искусства.
Студенты должны научиться пониманию того, что музыка является источником всех сценических задач актера, именно в ней он находит оправдание своего сценического поведения, она подсказывает актеру логику его сценических действий, в ней актер находит тот событийный ряд, который определяет его сквозное действие, она содержит в себе источники, питающие его внутреннюю жизнь, она окрашивает внутренний монолог актера, влияет на строй его мыслей и т. д. Иными словами, студент должен научиться относиться к музыке как к музыкальной драматургии. В музыкальном театре музыка только тогда вполне раскрывается и обретает силу огромного музыкально-художественного обобщения, когда она становится воплощенной на сцене драматургией в действиях актера, в поведении действующих лиц, в системе сценических событий.
Упражнения (практика)
Большая часть упражнений на темп – это, как правило, интенсивный движенческий тренинг, одна из задач которого – «сбивать» студентов контрастными переключениями из одного самочувствия в другое, внезапными переходами от одиночных упражнений к парным, ансамблевым и обратно и др.
Упражнение «Темп – дыхание» (акт.)
Разное дыхание: быстрое и долгое, вдохи и выдохи, резкие смены дыхательных темпов, когда надо «продышать» все тело. Добавляем музыку: дышим в унисон с музыкой, дышим поперек музыки. Делимся впечатлениями. Необходимо прийти к пониманию того, как разные темпы дыхания рождают различное психофизическое самочувствие.
Упражнение «Темп – касание» (акт.)
Делается парами. У первого завязаны глаза. Второй касается пальцами партнера. В разных темпах: быстро, в среднем темпе, медленно, очень медленно и т. д. Добавляем музыку. Темп касаний совпадает с музыкой. Не совпадает. Максимально расходится с музыкой. Делимся ощущениями, фиксируя эмоционально-чувственное содержание темпа.
Упражнение «Темп – время» (реж.)
Берем одну минуту чистого времени. Фиксируем ее с помощью секундомера. Считаем минуту про себя, по «внутренним часам». Повторяем несколько раз, находя баланс. Добавляем музыку. Отмеряем минуту музыки «внутренними часами». Слушаем самую разную музыку (симфоническую, джазовую, рок и т. д.) и пытаемся отмерить ту же самую минуту. Делимся впечатлениями, выясняя, как меняется энергетика человека за одну минуту под разную музыку.
Ритм как понятие неотделимо связан с нашими ощущениями. Динамика жизни в третьем тысячелетии предлагает нам огромное количество ритмов, у большинства людей жизнь существует в определенной ритмической схеме. Режиссеру и актеру необходимо не только ощущать ритмические схемы жизни, но и исследовать их, учась отображать на сцене.
Упражнение «Ритм – джаз» (акт.)
Слушаем джазовые импровизации. Сами пытаемся импровизировать с помощью подручных средств. Пытаемся создать свой ритмический рисунок, общее ощущение целостной композиции. Работаем двумя группами. Одна импровизирует: начинает лидер, он задает ритм, остальные включаются в композицию, состоящую из разных ритмических структур. Другая группа наблюдает. Меняемся группами. Другая группа – новый ритм. Сложнее: две группы работают параллельно, при этом каждая удерживает свой ритм. Делимся впечатлениями от работы друг друга. Кроме чувства ритма, это упражнение развивает актерское внимание, чувство партнерства и ощущение целостной композиции.
Упражнение «Ритм – мизансцена» (реж.)
Студенты-режиссеры должны придумать три-четыре статичных мизансцены (стоп-кадра), которые рассказали бы об одном событии. Последовательность и время фиксации каждой мизансцены и пауз между ними устанавливаются студентами самостоятельно. Наблюдаем визуальный потенциал ритма. Устанавливаем зависимость между важностью события и временем, требующимся для фиксации каждой мизансцены или паузы между ними. Добавляем музыку. Одну на все мизансцены. Разную на каждую мизансцену. Сравниваем результаты. Обсуждаем степень выразительности выполненного упражнения при различных способах взаимодействия с музыкой.
Существование актера, владеющего темпоритмическими структурами, становится гораздо более осмысленным. Основная масса упражнений на темпоритм базируется на сопоставлении собственно жизни и заданных ритмических схем.
Упражнение «Метроном» (акт.)
Используем метроном. Искусственный пульс происходящего. Реальные простые физические действия. Пульс ускоряется-замедляется, действие продолжается до логического завершения. Фиксируем ощущения от внутренних процессов, происходящих с актером вследствие смены пульса.
Упражнение «Звукошумовая партитура» (реж.)
Режиссеры с группой актеров рассказывают некий простой сюжет с помощью звукошумовой партитуры. Создают звуковой пейзаж, вводят событие, «рассказывают» историю. Передают настроение, атмосферу происходящего. Добавляем музыку. Создаем звукошумовую музыкальную партитуру. Анализируем разницу достигнутых творческих результатов с использованием музыки и без нее.
Или, к примеру, одно из самых известных упражнений первого курса, так называемая «печатная машинка», может быть выполнено студентами в сопровождении музыки, дающей определенные ритмы и темпы исполнения, меняющей размеры. Студенты должны с самого начала своих занятий приучаться к тому, что в будущей своей работе они обязаны будут учитывать весьма строгие временные рамки, отведенные тем или иным сценическим коллизиям композитором. Поэтому на первых порах так важно приучиться выполнять простейшие действия и упражнения в соответствии с теми «музыкальными предлагаемыми обстоятельствами», которые дает композитор даже в самых простых музыкальных пьесах.
Студенты должны стремиться к действенному пониманию, освоению музыкального материала, раскрывать скрытые в музыкальном произведении сценические коллизии, ведь музыка – мощный возбудитель сценического действия. Все это требует достаточной подготовки и постепенности. Здесь на помощь студентам должны прийти педагоги таких дисциплин, как «анализ музыкальной драматургии», «вокал», «ансамбль», «сольфеджио и теория музыки», «ритмика».
С первых же шагов студентов факультета музыкального театра следует предостеречь от свойственного почти каждому актеру музыкального театра изображению музыки, попыткам сыграть музыку. Особенно опасной для правильного хода обучения студентов является ситуация, при которой студент вместо того, чтобы нафантазировать конкретное действие, на первых порах это может быть простое физическое действие, стремится передать настроение, которое он почувствовал в музыке. Это приводит его к игре состояния, приучает к бездейственному пониманию музыки. Такое отношение к музыке не только бездейственно, но еще и очень поверхностно. Как правило, студент ориентируется либо на ритм музыкального произведения, либо на его мелодию, грубо говоря, веселую или грустную, либо на характерные признаки музыкального языка и в соответствие с таким пониманием музыки предлагает в упражнении или этюде то или иное состояние. Все это и есть, по сути, примитивная иллюстрация музыки взамен ее действенного понимания и наполнения. Еще и еще раз нужно напоминать студенту о том, что всегда нужно иметь в виду, что поведение актера на музыкальной сцене есть известный перпендикуляр к музыке.
Музыкальные этюды – пробы рождаются непосредственно на занятиях: пластические импровизации – «музыка, выраженная телом»; этюды на впечатление от музыки; одиночные этюды под условным названием «простые физические действия на классическую музыку» и другие этюды с практическим применением музыкальных понятий (темп, ритм, интонация, композиция).
Упражнение (практика)
Упражнение «Простые физические действия на классическую музыку» Студентам предоставлена полная свобода выбора. Нет приоритета в первичности выбора. У каждого первый импульс – свой.
Кто-то сначала решает, что он будет делать, и далее ищет адекватную выбранному действию классическую музыку (желательно симфоническую, без вокала). Кто-то выбирает музыку и пытается найти действие, которое может рождать именно эта музыка. Слушать хорошую музыку в больших количествах уже полезно для расширения сознания. Музыка – мощный возбудитель сценического действия. На первых показах педагоги вместе со студентами оценивают упражнение по нескольким критериям: подходит ли именно эта музыка именно этому физическому действию, изменяется ли действие в процессе выполнения упражнения относительно изменений в музыке, а также, есть ли перспектива у данной работы. То есть может ли данное упражнение вырасти в этюд. С выбранными для дальнейшей работы предложениями начинается работа. После многократного прослушивания музыки студенты вместе с педагогом на основе конструкции музыкального фрагмента сочиняют действенную конструкцию сценического этюда-упражнения. При этом важно, чтобы события, происходящие в этюде-упражнении, обязательно находили свое подтверждение в музыке. Находятся и анализируются изменения в выбранном музыкальном фрагменте. Пробуются варианты адекватных изменений в поведении студента. Студент сам сочиняет действенную партитуру, где части событийные должны совпасть с частями музыкальными. Как и в других разделах актерского мастерства, далеко не все пробы дают конечный результат – собственно музыкальный этюд, но польза от подобной работы несомненна. Взаимодействие с музыкой может быть весьма разнообразным: от иллюстрации (самого примитивного способа взаимодействия) до довольно сложной партитуры физических действий, включающих в себя контрапункт и перпендикулярное, относительно музыки, действие.
Главное, что хочется открыть в первокурсниках этими упражнениями, – способность слышать и, главное, понимать и чувствовать действие в музыке – слышать и ощущать ее как драматургический материал, как полнокровный текст, как действенную интонацию. Воспринимать ее как импульс к сочинению и находить свои индивидуальные способы выражения своего впечатления от музыки;
взаимодействовать с музыкой: соединяться с ней, растворяться в ней, конфликтовать с ней, противодействовать ей; будить фантазию и учиться выражать ее невербально, самыми разными способами. Искать и находить в каждой музыкальной композиции свое личное, субъективное…
Музыка – гениальный помощник в построении собственно этюда с началом, развитием, кульминацией и финалом. Хорошая работа – когда партитура поведения студента, положенная на музыку, дает дополнительный объем происходящему.
По сути, сценическая жизнь при желании может быть представлена как оркестровая партитура, в которой у каждого элемента прописана своя партия. Не зря же в актерской практике существует термин «протокол поведения», или «партитура поведения». Если учесть, что одна из главных задач артиста – передать чувственную природу своего эмоционального переживания, то переоценить положительное влияние музыки на становление актерского аппарата невозможно. Сценическое существование актера, в принципе, является трансляцией энергии, и что, как не музыка, может помочь ему расширить эти возможности.
Музыка в театре, в музыкальной драматургии – в опере, оперетте, мюзикле, музыкальной драме, музыкальной комедии – всегда неразрывно связана с человеком, его поступками, характером, его борьбой. Музыки, не несущей конкретного, то есть действенного смысла, в оперном театре не существует, так же, как не существует в музыкальном театре персонажа или конфликта без предназначенной ему и насыщающей его музыки. В музыкальном театре связь театра и музыки неразрывна и крепка. Театр своей действенной силой и конкретностью оплодотворяет музыку, и музыка приобретает новое, еще неведомое свойство – насыщать удивительной, огромной эмоциональностью заложенную в театральном действии мысль.
Особенность профессии режиссера музыкального театра и состоит в том, чтобы соединить две природы – театр и музыку, не относя музыку к разряду шумовых эффектов, как это часто делается в кино или в драматическом театре. Подлинная гигантская сила музыки – в слиянии и взаимном обогащении с театром. Она раскрывает всю свою силу тогда, когда сливается с действенной партитурой, а поведение человека, его поступки, отношения, его мысли сращиваются с музыкальной партитурой.
Умение воспринимать музыку не только в ее собственной прелести, но и в ее действенных возможностях – черта профессии режиссера музыкального театра.
Когда студенты освоят такие важные на первом курсе упражнения, как «память физических действий», то и эти упражнения могут найти свое воплощение в рамках определенного музыкального материала. Лучше, если это будут небольшие инструментальные произведения с простой структурой, обладающие достаточно ясным музыкальным языком. Если, осваивая «память физических действий», студент свободен в длительности исполняемого упражнения, то в условиях музыкального этюда он должен, не изменяя тщательности, последовательности и точности совершаемых им физических действий, выполнить их в строгом соответствии со временем, в которое укладывается музыкальная пьеса.
Музыкальное произведение, как бы просто по языку они ни было, всегда обладает определенной мелодией, гармонией, ладом и целым комплексом специфических музыкальных художественных средств, что очень часто приводит музыкального актера к игре состояния, изображению чувства, что продиктовано поверхностным восприятием музыки и стремлением изобразить ту эмоциональную атмосферу, которую, как ему кажется, угадывает в ней актер. Это, пожалуй, самый непродуктивный путь в музыкальном театре.
Поэтому так важно научить студента точному и конкретному физическому действию в рамках самой разнообразной по характеру музыки. С первых же шагов приучить студента к такому пониманию музыки, при котором для него в первую очередь встает задача выполнения конкретного действия – оно, конечно, никогда не бывает только физическим, а всегда психофизическим.
Усложняя выполнение упражнения на «память физических действий», можно вводить в упражнение музыкальную пьесу, обладающую сравнительно простой драматургией. Такую пьесу, в которой студент может четко различить одно-два изменения – темповые, ритмические, гармонические, перемены размера и т. д. Внимательно слушая музыкальное произведение, студент строит партитуру своих физических действий в соответствии с изменениями музыкального материала. Это должно приучить его к тому, что любое изменение музыкального материала, даже на самых первых этапах обучения, связано прежде всего с изменениями в действии, а иногда и с изменением действия, которое осуществляет студент, а не, как это часто бывает, с переменой настроения. Желательно, чтобы на одну и ту же музыку было сделано несколько этюдов разными студентами.
Обычно одной из важнейших составляющих на начальном этапе овладения вокальным искусством является работа над вокализом, бессловесным вокальным произведением. Как правило, в работу берутся относительно простые вокализы. Тем не менее исполнение вокализа уже есть начало вокального исполнительства. Должно признать весьма полезным включение вокализов в учебный процесс овладения элементами актерского мастерства. И здесь полезным представляется включение вокализа в упражнения на «память физических действий». С самых первых шагов по освоению своей профессии студент должен понять, что процесс вокала, пения непременно должен быть связан с действием на сцене. Процесс пения и физическая жизнь актера на сцене взаимосвязаны и весьма зависят одно от другого. Этот важнейший принцип музыкального театра студенты должны начать постигать в самых простых упражнениях первого курса.
Надо обратить внимание на то, что было бы полезно выполнять один и тот же ряд физических действий, используя разные по характеру и настроению вокализы. Физическое действие должно быть выполнено последовательно и тщательно при исполнении студентом вокализа, написанного быстрым темпом, медленно, протяжно, весело, грустно, в танцевальном ритме.
Довольно часто упражнения на «память физических действий» исполняют сразу несколько студентов. В таком случае очень полезно использовать навыки студентов, получаемые ими на предмете «вокальный ансамбль». Можно взять небольшие законченные вокальные ансамбли, можно самим создать вокальный ансамбль на основе какой-нибудь песни, романса. Дальше начинается интереснейшая работа, в которой студенты приучаются к тому, что в вокально-музыкальном ансамбле они, находясь в рамках строгих законов музыкальной гармонии, каждый осуществляет свою конкретную физическую задачу. Интересно разложить физические действия, выполняемые студентами «по голосам», в зависимости от количества голосов в произведении. Кто-то из студентов «ведет» нижний голос, кто-то – верхний, мелодию верхнего голоса, а кто-то – средний. Постепенно усложняя задачи, можно брать в работу и полифонические произведения. Это могут быть полифонические произведения имитационного склада, например фуги И. С. Баха двух-, трех- и четырехголосные, его же двух-, трехголосные инвенции. А также произведения полифонии контрастного типа, совмещающие в себе по вертикали две, три и более контрастные мелодии, например фортепианная транскрипция Ф. Листа знаменитого квартета из последнего акта оперы Дж. Верди «Риголетто». Такого рода музыкальные куски могут быть положены в основу целого ряда физических действий, выполняемых студентами, уже не как упражнения на память физических действий, а как настоящие целесообразные физические действия в определенных предлагаемых обстоятельствах. Здесь есть большой простор для фантазии, для самых различных придумок, все из которых должны приучить студента к тому, что строгое следование законам гармонии и сольфеджио не отменяет свободы и импровизации физической жизни актера.
Позже может начаться работа над массовыми упражнениямиэтюдами. Сначала это могут быть групповые физические действия, связанные с какой-то определенной работой, в которой участвует довольно большое количество человек, например стройка, уборка помещения, работа на конвейере и т. п. Постепенно можно вводить в эти упражнения события. Музыкальной основой для таких массовых упражнений-этюдов могут быть куски симфонических произведений, в которых отчетливо проявляется контраст главной и побочной партий в экспозиции, развитие этих тем в разработке формы, появление их на новом уровне в репризах сонатного аллегро. Например, «Неоконченная симфония» Франца Шуберта (си минор) или великая Пятая симфония П. И. Чайковского (ми минор).
Такое же взаимодействие с музыкой следует находить и в упражнениях на «физическое самочувствие», в упражнениях «работа», когда студент должен выйти на площадку и произвести какую-то конкретную работу – что-то склеить, вырезать, собрать и т. д., то есть совершить очень точные и конкретные физические действия, в результате которых возникнет осязаемый результат. И это упражнение, которое поначалу растягивается на неопределенное время, должно быть «упорядочено» исполнением вокализа. При этом, что исключительно важно, ни ритм, ни темп, ни размер, ни так называемое настроение музыкального произведения никак не влияют на характер и строгую последовательность выполняемых студентом конкретных и целесообразных физических действий.
В мировом искусстве мы имеем, пожалуй, самый знаменитый этюд на физические действия – конкретную работу. Это блистательная сцена бритья из великого фильма Ч. Чаплина «Великий диктатор». Вся эта сцена, в сущности, самый настоящий этюд на физические действия, поставлена на музыку «Венгерского танца № 5» И. Брамса. Действия героя точно соответствуют драматургии музыки И. Брамса и от этого становятся невероятно экспрессивными и выразительными. Это зажигательное, полное юмора произведение написано композитором в рондообразной форме, с повторяющимися рефренами, перемежающимися самыми разнообразными эпизодами. То есть представляет собой замечательный материал для построения и одиночного, и массового этюдов. Запомнилось одно из упражнений на эту тему, выполненное студентами первого курса мастерской замечательного педагога Г. П. Ансимова. Этюд назывался «Торт для короля». Это было, по сути, массовое упражнение на память физических действий. На кухне готовится тесто и всяческие ингредиенты для торта. Каждая группа студентов решает свою задачу по построению кондитерского чуда. Слуги накрывают на стол и т. д. В конце музыкальной пьесы торт водружают на стол. Все действия студентов точно соответствовали многочисленным изменениям в драматургии, тому, что в значительной степени эту драматургию образовывает рефрен, и разнообразные эпизоды действия студентов становились с каждым рефреном интереснее и с каждой переменой музыкального эпизода – подробнее и насыщеннее. Этюд тренировал не только привычку к непрерывному подробному целесообразному физическому действию, но и фантазию студентов, их чувство юмора, столь необходимое на сцене и, конечно, действенную ориентацию в музыкальном материале, понимание его как череды событий, которые могут быть связаны непрерывным сквозным действием.
Хорошо известны упражнения на так называемое «одушевление» предметов. Близко к нему упражнение на одушевление растений. Интересно в этом смысле упражнение, как правило, массовое, которое называется «сад», «огород». В этих заданиях студенты как бы превращаются в растения, цветы, плоды, как подскажет фантазия и позволят физические данные студента. В этих упражнениях студенты как бы проходят весь жизненный цикл растения от семечка до созревания. И это упражнение может быть выполнено в тесном сплетении с музыкальной драматургией. Наиболее подходящей музыкальной основой для такого рода упражнений может быть музыкальное произведение с ярко выраженным остинатным рисунком и вариациями на постоянную мелодию, например знаменитое Болеро М. Равеля.
Что касается режиссеров, то в первом семестре, кроме актерского тренинга, в котором они участвуют в обязательном порядке, у них есть и свои взаимоотношения с музыкой.
Упражнение (практика)
Композиция связана с общим ощущением целостности. Конечно, в театре актеру очень важно ощущать себя частью единого целого, но создание общей композиции спектакля – задача, безусловно, режиссерская. Почувствовать композицию, вероятно, как раз и означает суметь охватить внутренним взором и слухом всю (вплоть до мельчайших деталей) структуру будущего спектакля.
Упражнение «Короткие формы» (реж.)
Режиссерам раздаются короткие музыкальные произведения. Они должны прослушать их один раз и тут же придумать и осуществить сценическое воплощение. Не используя музыку. Важно попытаться передать свое субъективное только что возникшее эмоциональное ощущение от услышанного материала. На что натолкнула музыка? На микрособытие? На пластическую композицию? На создание атмосферы? На конкретное физическое самочувствие? Тренируется фантазия, творческое мышление, и музыка является прекрасным возбудителем для проявления этих качеств. Для этого упражнения хорошо подойдут, например, небольшие музыкальные произведения С. С. Прокофьева «Мимолетности» или его же «Сарказмы».
С музыкой, с музыкальной драматургией могут и должны быть связаны и одиночные этюды на событие. И здесь полезно привлекать вокализ. Студент существует в определенных предлагаемых обстоятельствах, в конкретном событии, которое изменяет его действия, заставляет принять то или иное решение и т. д., при этом исполняя вокализ. И в данном упражнении стоит привлекать самые разные по характеру, ритму, темпу, размеру вокально-музыкальные произведения. Такого рода упражнения и этюды должны привести студента к пониманию того, что процесс пения возможен при самых разных физических действиях и в самых разных предлагаемых обстоятельствах. Нужно научиться заниматься на сцене делом, то есть действием, конкретным и продуктивным, и понимать, что само по себе это конкретное дело никак не зависит от характера исполняемого музыкального произведения. Разумеется, речь идет о самых начальных этапах взаимодействия студента с музыкой. Дальше на старших курсах начнется серьезная работа по анализу музыкальной драматургии, по действенному анализу музыкальной драматургии – на этом этапе, конечно, задачи, встающие перед студентом, очень усложняются. Тут крайне важны последовательность и постепенность введения музыки в актерское действие.
Известны так называемые этюды на «органическое молчание». Это всегда трудная задача для студентов. Необходимо найти и оправдать такие предлагаемые обстоятельства и такое событие в этюде, которые безусловно оправдывают молчание в нем партнеров. Как правило, этюды на «органическое молчание» являются своеобразным переходным этапом к полноценным парным этюдам на событие. К этому переходному этапу можно, полезно и нужно добавить парные этюды на событие, в которых общение между партнерами происходит с помощью исполняемого одним из них вокализа. Вокализом можно приказать, попросить, заставить и вообще осуществить целый ряд задач, направленных на изменение поведения партнера. Может быть и «диалог вокализов», то есть взаимодействие партнеров, – разрешение сценического конфликта при помощи вокализов.
Следующий этап введения музыки, причем уже именно как музыкальной драматургии, связан с овладением таким важным элементом актерского мастерства, как «внутренний монолог». Начинать овладение этим элементом студенты должны с самого начала своих занятий. Серьезным подспорьем в этом деле обычно выступает живопись. Изучение портрета, попытка сочинения внутреннего монолога лица, изображенного на портрете, анализ мизансцены тела, данной художником картины, которая тесно связана с ходом мысли и внутренней жизнью изображенного на портрете лица, и многие другие параметры изучения портрета дают студенту возможность привыкнуть к тому, что на сцене внутренний монолог непрерывен.
Вполне традиционные режиссерские задания по живописи – «Портрет» и «Картина» – обязательно требуют и музыкального решения. Режиссер для своего этюда по портрету или впоследствии по картине должен подобрать музыкальный фрагмент, адекватный выбранному материалу, и в соответствии со своим режиссерским замыслом. Это не просто! Особенно на первом курсе. Особенно в бытовом окружении музыкального, в основном «ритмического», очень часто «мусорного» фона, которым мы, к сожалению, буквально опутаны в повседневной жизни. Надо учиться заново слышать музыку, вырабатывать собственные (относительно профессии прежде всего) музыкальные критерии и учиться соотносить их с видеорядом, с мизансценированием (пусть поначалу и довольно скромным), с текстом и, главное, с живым человеком на сцене.
Начинает ли музыка этот мини-спектакль или завершает, решает режиссер. Она может точно соответствовать эпохе портрета, а может быть совсем из другого времени. Важен эмоционально-действенный градус разгаданной человеческой истории. И здесь ни в коем случае нельзя допускать того, чтобы музыка была музыкальным фоном, постоянно объясняющим, что происходит на сцене.
Студенту-актеру было бы полезно совместить работу над «внутренним монологом», анализом «внутреннего монолога» действующего лица, изображенного на портрете, с работой над романсом, песней. В зависимости от времени создания произведения живописи, его автора, лица, изображенного на портрете, это могут быть романсы А. Н. Верстовского, М. И. Глинки, А. Л. Гурилева, П. П. Булахова, А. Е. Варламова, А. А. Алябьева, а также более сложные по музыкальному языку музыкально-вокальные произведения А. С. Даргомыжского, П. И. Чайковского, С. И. Танеева, Н. А. Римского-Корсакова, М. П. Мусоргского, С. В. Рахманинова, Н. К. Метнера, А. К. Лядова, Д. Д. Шостаковича, Г. В. Свиридова и других замечательных композиторов. Попытка найти музыкальновокальное произведение, которое, по мнению студента, соответствует внутреннему монологу портрета, и исполнение этого произведения как бы от имени лица, изображенного на портрете, как его «внутренний монолог», переведенный на язык музыки и вокала, в данном случае романса или песни, представляется исключительно полезной. Это ступенька в освоении того, что в искусстве актера музыкального театра называется «действенное пение».
Следующий, и более сложный, этап освоения действенного существования в музыке – это одиночный и парный этюды на событие. Студенты должны научиться тому, чтобы их действия в этюде, направленные на преодоление события, которое является драматургией этюда, совпадали бы с теми изменениями, которые он находит в музыкальной драматургии произведения, взятого в основу этюда. Много раз прослушивая музыкальное произведение, студент фантазирует предлагаемые обстоятельства, события – исходное и главное, определяет кульминацию и развязку. Анализ умом должен переходить в непосредственное действие на площадке, в анализ действием, которым студент проверяет правильность своего анализа музыкальной драматургии. Импровизирует в музыкальных предлагаемых обстоятельствах. Для таких этюдов-импровизаций нужно выбирать не очень длинные инструментальные произведения с четко выраженной драматургией, как правило, с двумя-тремя резкими переменами – темповыми, ритмическими, гармоническими, метрическими и т. п. Большим подспорьем в этой сложной, но увлекательной работе студентов служат произведения С. С. Прокофьева «Сарказмы», «Мимолетности», «Сказки старой бабушки», М. П. Мусоргского «Картинки с выставки» или, например, замечательный цикл Д. Д. Шостаковича «24 прелюдии для фортепиано», опус 34.
Во втором семестре музыке уделяется не меньшее внимание. Продолжая музыкальный тренинг, актеры и режиссеры среди других заданий получают ставшее уже традиционным задание «Музыкальные наблюдения». Стоит, пожалуй, подчеркнуть – именно наблюдения. Не пародии на эстрадных исполнителей, каковым это задание было известно в течение довольно многих лет, а наблюдения. Музыкальные наблюдения – за эстрадными исполнителями (чаще «ретроисполнителями», ибо большинство современных героев эстрады и шоу-бизнеса самопародийны, лишены какой-либо глубины, и большой пользы в повторении студентами их «ужимок и прыжков» как-то не видится), за артистами оперы (чаще в концертном исполнении, но иногда и в сценических оперных партиях), за инструменталистами (пианистами, скрипачами, виолончелистами и т. д.), дирижерами и за целым оркестром (симфоническим оркестром, джазовым коллективом или оркестром народных инструментов). Студенты сами выбирают объект наблюдения. Задание может выполняться как вживую, так и под фонограмму.
Если студенты поют вживую, то важно передать не только характерные черты поведения, но и присущее данному исполнителю звучание. Но отдельно надо бы остановиться на исполнении этого задания под фонограмму. Недостаточное внимание к этому типу музыкальных наблюдений обусловлено негативным и пренебрежительным отношением к «фанере» на профессиональной эстрадной сцене.
Но это абсолютно разные вещи. Использование фонограммы на профессиональной сцене пусть останется на совести исполнителей, а вот польза от упражнения «Музыкальные наблюдения» под фонограмму – несомненна. Поясним… Сутью любых актерских наблюдений всегда останется поиск «зерна образа». Поиск внешних и внутренних черт объекта, манеры поведения, особенностей, присущих только этому человеку, ярких запоминающихся проявлений выбранного персонажа и т. д. Так вот, в имитации (музыкальном наблюдении под фонограмму) ко всему этому набору добавляется весьма сложная вещь – энергия поющего человека. Добиться мощной энергии поющего человека, автоматически возникающей при звукоизвлечении, без самого звукоизвлечения – это очень непростая задача. Но выполнимая. Приносящая огромную пользу собственно актерскому аппарату. Кроме того, тренирующая дыхание в соединении со сценическим действием. Давно замечено, что прыгун, тренирующийся с гантелями на ногах, прыгает без гантелей с утроенной силой. В нашем случае это тоже работает. Тренировка активного извлечения энергии с помощью музыки весьма и весьма продуктивна. Кроме того, имитация дает возможность студентам, несмотря на пока довольно скромные голосовые данные, выбирать для этого упражнения великих оперных певцов (певиц), что представляется очень интересным, а в случае пения вживую это закрыло бы от них огромный пласт мировой музыкальной культуры. Освоив технику исполнения (извлечения энергии), можно на основе имеющегося музыкального материала попытаться построить и этюд, имеющий в основе музыкальное наблюдение.
Упражнения (практика)
Упражнение «Оркестр» И тут возможны варианты. Например, предлагается создать небольшой оркестр со студентами курса, оснастив его всем, что под руку попадется. Это могут быть не только музыкальные инструменты, но и различные бытовые предметы: доска для стирки, двуручная пила, чугунная сковородка, ложки, вилки, пустые консервные банки, стеклянные бутылки, наполненные водой до разных уровней, и др. Хорошо бы разучить и исполнить небольшое музыкальное сочинение. Весьма полезное, развивающее упражнение. Второй вариант – симфонический или джазовый коллектив, играющий «на память физических действий». Надо найти произведение, распределить инструменты, добиться владения каждым инструментом, опираясь «на память физических действий», разучить партитуру по каждой группе инструментов и по каждому инструменту в отдельности и затем точно ее исполнить. Эффектное и очень полезное упражнение.
Режиссеры во втором семестре, конечно, продолжают работу с музыкой. Одно из музыкальных заданий для режиссеров во втором семестре – оперная увертюра (ouverture (фр.) – начало). После работы с живописью и скульптурой переход на музыку закономерен.
К реальной музыке от «музыки застывшей». В оперной увертюре нет еще вокала (по крайней мере, в классической) – чаще всего это как бы краткое изложение основных тем оперы. Увертюра как бы предупреждает зрителя о том, что ему предстоит увидеть и услышать сегодня на спектакле. Существует увертюра и как самостоятельное музыкальное произведение, но нас в данном случае интересует именно оперная, определяющая образ будущего спектакля, что, собственно, и должно заинтересовать студента-режиссера. Задание непростое. Надо учиться слушать музыку, учиться выделять основную тему, слышать ее развитие, взаимодействие с другими темами, то есть – заниматься, пусть пока еще на самом элементарном уровне, музыкальной драматургией. Варианты решения этого задания могут быть разными: увертюра как визуальный образ будущего спектакля, или как этюд, подводящий к органичному началу собственно спектакля, или как метафорический образ спектакля и т. д.
Параллельно с этим должна продолжаться работа студентов над массовыми этюдами-упражнениями, одной из важнейших задач которой является тренировка актерского существования в самых разных музыкальных обстоятельствах, ритмах, темпах, метрах и т. п. При этом очень важно добиваться от студентов такого существования в этюде-упражнении, при котором сценическая физическая жизнь студента ни в коем случае не была бы параллельной музыке, но всегда «противоречила» ей, создавая своеобразный действенный перпендикуляр к ней. Это должно привить актеру-певцу навыки свободного существования на сцене, и прежде всего от темпов музыкального произведения, то есть избежать одной из самых распространенных ошибок оперных певцов, когда их физическая жизнь на сцене полностью подчинена музыкальным темпам, зависит от них. В то время как она должна зависеть от сценических событий. Очень хорошим примером для такого рода упражнений может служить, например, начало второго акта оперы Р. К. Щедрина «Не только любовь», в котором чередуются частушечные напевы в самых разных музыкальных темпах. Все начало второго акта представляет собой изумительное темпоритмическое разнообразие. При этом захватывающем и очень эмоциональном разнообразии довольно легко потерять смысл тех событий, которые лежат за ним. Важно определить исходное и главное события картины и построить существование на сцене героев оперы, пока еще участников этюда, на основе этих событий, в конкретных предлагаемых обстоятельствах, при этом свободно музицируя в исполнении частушек, свободно оперируя темпами музыки, но физически существуя «перпендикулярно» к ней.
К таким массовым музыкальным этюдам-упражнениям, одиночным и парным этюдам на основе музыкальной драматургии должны подойти студенты в конце первого года обучения.
На зачет по режиссуре и актерскому мастерству первого семестра, кроме упражнений и этюдов на освоение элементов сценического действия в простых предлагаемых обстоятельствах, выносятся музыкальные упражнения и музыкальные этюды.
На экзамен по режиссуре и актерскому мастерству второго семестра выносятся более сложные этюды на музыкальные произведения.
Музыкально-актерский тренинг должен продолжаться и на втором курсе, параллельно с работой над драматическими отрывками (при условии пятилетнего цикла обучения). Для того чтобы на втором семестре второго курса студенты могли встретиться с собственно музыкальной драматургией оперы в соответствии с их вокальной подготовкой.
Второй курс
Драматические, музыкально-драматические и музыкальные отрывки
Актерское мастерство
Современная программа обучения актера музыкального театра рассчитана на четыре года обучения. Нельзя признать, что этот срок является достаточным для подготовки актера музыкального театра. В отличие от актера драматического театра, чей психофизический аппарат можно считать вполне развитым и готовым к деятельности в условиях производственного процесса, тот же аппарат у актеров музыкального театра не вполне формируется к концу четвертого года обучения. Основное выразительное средство актера музыкального театра – это его голос и владение навыками действенного пения. Этот процесс физиологический в своей основе, и он требует определенного времени на формирование у студента более или менее свободного владения вокальной техникой, без освоения которой не приходится говорить о действенном пении. Наиболее выверенный и давно уже укорененный в практике воспитания актера-певца – пятилетний цикл обучения.
Тем более важно тщательно подходить к задачам действенного пения и совмещения этого процесса с готовностью студента к выполнению тех или иных действенных музыкально-вокальных задач.
Именно на втором курсе согласно современной программе обучения должно происходить первое соприкосновение студента с музыкальной драматургией. И, следовательно, именно в этот момент он совершает и первые шаги к настоящему пониманию процесса действенного пения. До этого момента он занимается вокалом в аудитории с педагогом по вокалу. Эти уроки не ставят перед собой задачу собственно действенного пения, то есть приобретения навыков органического перехода вокальной техники в искусство пения – в пение действенное.
В условиях четырехлетнего цикла обучения по специальности «актер музыкального театра» возрастает роль второго года обучения.
Знания и навыки, полученные студентом на первом курсе обучения, должны быть не только закреплены, но и развиты в работе над музыкальной драматургией. Встреча с музыкальной драматургией, а точнее говоря, с оперной драматургией, так же важна и так же трудна для студента музыкального театра, как встреча с литературной драматургией актера драматического театра. Но в то же время она более сложна именно в силу соотношения вокальной, голосовой подготовки студента и тех задач, которые ставит перед ним дальнейшее освоение актерского мастерства. И здесь надо сразу же сказать о проблемах выбора подходящего репертуара. Далеко не все произведения оперной драматургии бывают именно в этом аспекте подходящими для студента второго курса. Но и откладывать встречу студентов с оперной драматургией нельзя.
Второй курс требует от студента освоения элементов актерского мастерства в условиях, предложенных автором, музыкальным драматургом.
На данном этапе он должен после освоения правильного существования в этюдах, созданных, сымпровизированных им самим, перейти к природе существования в предлагаемых обстоятельствах и событиях, данных автором, причем автором – музыкальным драматургом. То есть перед ним впервые возникает важнейшая проблема, не теряя навыков импровизационного самочувствия на сцене, присвоить логику действий персонажа в природе драматургии музыкальной, сделать ее своей логикой. Перед ним впервые ставится во всей полноте основной вопрос действующего на сцене актера – как сделать логику поведения действующего лица собственной логикой поведения. Разумеется, что освоение этой сложной проблемы должно протекать при понимании специфики музыкального театра, в котором при всей важности спетого слова как итога всей внутренней жизни актера сам по себе литературный текст не всегда бывает достаточно художественным и, как правило, всегда уступает музыке. Но так же, как в драматическом театре важен не текст сам по себе, а подтекст и поведение действующих лиц, их взаимоотношения, так и в музыкальном театре мы должны стремиться к правильному поведению музыкального артиста на сцене, выстраивать отношения и существование актеров-певцов в событиях, данных композитором. Такое понимание своих задач необходимо прививать студенту в его первых соприкосновениях с музыкальной, оперной драматургией.
В связи с этим возникает необходимость научить студентов пониманию того, что представляет собой музыкальная драматургия. Прежде всего, и это самое трудное для студента, научить его понимать и воспринимать музыкальную драматургию ни в коем случае не как музыкальную иллюстрацию собственно литературного текста. С таким отношением к музыкальной драматургии как к музыке, более или менее точно и полно иллюстрирующей, и только, литературный текст музыкально-сценического произведения, к сожалению, до сих пор приходится сталкиваться в процессе работы со студентом над тем или иным отрывком, будь то отрывок из оперы, оперетты, мюзикла, рок-оперы.
С пониманием и восприятием музыки в музыкальной драматургии только как сюжета гармоний и, что естественно для подавляющего большинства оперных артистов, как сюжета мелодий мы встречаемся повсеместно. Но именно поэтому обстоятельства современного музыкального театра настоятельно требуют от учебного заведения готовить актеров-певцов, способных создать на музыкальной сцене жизнь человеческого духа, а это невозможно сделать, не овладев в полной мере процессом сценического действия. Готовить, воспитывать актеров-певцов, а не просто солистов-вокалистов, тщательно следующих музыкальным ремаркам и указаниям композитора, но, по сути, эксплуатирующих музыку, живущих за счет музыки, то есть просто вокализирующих, как бы не был сложен и заразителен сам процесс вокализации.
Студент должен прийти к пониманию того, что совершенство и красота вокала имеют, конечно, в музыкальном театре огромное значение, было бы странным этот факт отрицать, но что они становятся вредными, когда ничего, кроме самих себя, не выражают. Когда вместо процесса действенного пения мы сталкиваемся со своего рода вокальным самолюбованием, в котором нет места правде человеческого существования, принесенного в жертву, во имя псевдокрасоты самого процесса звукоизвлечения, вокальной техники, даже не искусства вокала, повторяем, как бы оно само по себе не было виртуозно.
Со всей ответственностью можно утверждать, что такое облегченное понимание выразительного пения как только свободного владения приемами вокального мастерства можно встретить среди большого количества молодых людей, решивших посвятить себя искусству пения. К сожалению, и об этом необходимо сказать открыто, значительное число вокальных педагогов поддерживают такое отношение к своему искусству у студентов. Часто это обосновано тем, что сам вокальный педагог не очень осведомлен в методологии актерского мастерства, и его призывы к выразительности пения по сути означают искусственную эмоциональную окраску того или иного момента музыкального-вокального текста. И эта искусственная эмоциональность, проще говоря, призыв педагога к изображению того или иного чувства, то есть требование результата в ущерб действенному процессу, является грубейшей ошибкой с точки зрения методологии. Требование результата, не основанное на глубокой разработке внутреннего и внешнего действия, анализе предлагаемых обстоятельств, не основанное на точном знании сквозного действия и тех событий, которые происходят в процессе сценического существования артиста, делают его исполнение бессмысленным, фальшивым. И никакая вокальная виртуозность, о которой просто нелепо говорить в условиях учебного процесса на втором курсе, не спасет студента-исполнителя от фальши его сценической жизни.
