Парус в горах. История о тех, кто живет там, где другие не выживают бесплатное чтение
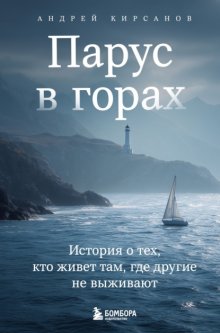
Серия «Мир глазами путешественников»
© Кирсанов А.В., текст, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Отзывы на книгу
«На память надежды нет: время идет, многое стирается. Рассказ Андрея Кирсанова, как старый альбом с фотографиями, помог вернуться в экспедицию, почувствовать запах острова.
Вообще, удивительно, как автору удалось передать жизнелюбивый характер Гогланда – мало кому известного скопления древних глыб в окружении воды. Неподготовленному посетителю остров мог показаться образом из песни группы Tequilajazzz:
- Все так просто —
- Лодки остов,
- Дремлют звезды,
- Дышит остров…
Но Кирсанов умеет разглядеть детали, передать краски, передать монологи аборигенов. Я сидел с ними там, на кухне избушки, за кружкой чая, слушал рассказы, перебиваемые шумом прибоя. Смотритель маяка, 15 лет проживший на острове, осторожно, даже вполголоса, поведал историю своей непростой жизни. Благодаря рассказу Андрея я снова оказался на колченогой табуретке в домике смотрителя.
Помню, меня тогда что-то беспокоило, пугало даже – такими переживаниями обычно не делятся с чужими людьми, однако в разговоре с этим добродушным человеком хотелось быть взаимно откровенным. Однажды ночью я увидел на берегу острова 20 или 30, а может, и 50 пар зеленых в свете луны глаз. Они смотрели на меня не моргая. Мягко говоря, было неуютно. Смотритель посмеялся: “Это енотовидные собаки. Их тут прорва. Дикие, пугливые. К человеку никогда не подойдут”.
Енотовидные собаки. Таких я видел только в энциклопедии. При свете дня они бродили по острову, а по ночам приходили к лагерю в поисках еды.
Я как будто вновь разглядел их глаза за строками текста Андрея.
Собак мне остров так и не показал. Что ж, будет повод вернуться и разыскать их, а еще надо отвезти смотрителю маяка этот рассказ».
Евгений Еремкин, пресс-секретарь Русского исторического общества, Москва
«Книга путешественника и практика-арабиста Андрея Кирсанова под названием “Парус в горах” открывает перед читателем возможность углубиться в историю, традиции и культуру стран Залива и в том числе больше узнать о традиционных для этих мест морских судах, их судьбе и судьбах людей, с ними связанных сквозь столетия.
Почему выбран такой подход? Будучи профессионально и творчески погруженным в арабский мир, автор прекрасно понимает, насколько важно рассматривать Ближний Восток – во всем его ярком многообразии в стремительно меняющейся действительности – через анализ фундаментальных основ.
Только так можно дать второе рождение “морскому наследию Аравии”, сохранить традиции арабского судоходства и судостроительства.
На страницах книги – дыхание моря, паруса Востока, истории ныряльщиков за жемчугом и покорителей глубин. С энтузиазмом рассказывая о том, что прожил сам, автор заражает жаждой открытий всякого смелого читателя.
Традиционные арабские парусные суда доу, используемые в различных странах, таких как Катар, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Йемен, Индия, Занзибар, веками соединяли земли, культуры, народы, смыслы через таинство морского пути, уникальные технологии кораблестроения, передаваемые из поколения в поколение. Все здесь звучит многогранно и символично, все знаково, важно и совсем не случайно. Красота пустынь и могущество морских вод, золотое величие зноя и песков – все это создает теплую атмосферу путешествия не только по волнам, но и по горизонтам человеческих судеб и странам, возникающим перед нашими глазами. Имена героев не вымышлены, а принадлежат реальным людям с настоящей судьбой и историей.
Как истинный исследователь, историк и журналист, автор переносит нас в совершенно новые измерения, раскрывая тайны и помогая прочувствовать слова героя книги Юсуфа: “Море ведь живое, и это один из его секретов”.
В итоге книга становится добрым путеводителем по тонким мирам на современном Востоке, мирам и традициям, почти исчезающим и требующим чуткого внимания, и мы сами имеем шанс стать частичкой этого загадочного и живого наследия».
Вячеслав Елисеев, руководитель и основатель агентства Job for Arabists, Дубай
«Я жадно вчитываюсь в твои строчки. Отличный слог и повествование».
Александр Панов, режиссер-документалист, Новая Зеландия, Окленд
«Вы меня вернули в юность! Если хотите это напечатать, я Вам буду очень признательна. Все правильно».
Тамара Грачева, Союз блокадников Ленинграда, Москва
Вместо предисловия
Посвящается моей жене Дарье и дочери Таисии, которые подарили мне веру в лучшее и любовь
Каждый ищет свою дорогу, призвание и самого себя.
Мои поиски начались с разных уголков Земли: с рязанской глуши, российского Дальнего Востока и Камчатки, аравийских пустынь и затерянных, не хоженных туристом арабских маршрутов, с Австралии и Новой Зеландии. Искал себя, спутницу, профессию и место под солнцем, где, как и любой обладающий свободным выбором человек, мог бы заниматься любимым делом, растить детей и создавать что-то полезное для окружающих, своей семьи и себя.
Эта книга – итог нескольких лет работы. Результат наблюдений, дневниковых записей, интервью и встреч с интересными людьми, которые рассказали о своей профессии, родине, жизненном опыте.
В ней описывается мой путь журналиста – я начал его в 2008 году, когда, окончив педагогический университет, стал редактором титров и суфлера на арабском телеканале Russia Today. А к завершению этой книги я приблизился уже в качестве корреспондента московского офиса саудовского телеканала Asharq News, совместного проекта с Блумберг.
Она также о горах и горных приключениях, об океане, встреча с которым, уверен, самое удивительное, что может произойти в жизни.
Перед вами моя песня – гимн самобытной, богатой культуре Ближнего Востока и Северной Африки. И дань благодарности арабскому языку, который кормит меня все эти годы и открывает для меня все новые возможности. Не пытаясь интерпретировать региональные процессы – но признавая, что они ключ к пониманию арабского мира, – я собрал истории простых людей, мало кому известных за пределами их круга, и, конечно, истории мест и традиций.
Еще в ней рассказывается о фильме «Люди большой воды» – международном кинопроекте, над которым мне посчастливилось работать с уникальной командой отечественных и зарубежных специалистов. Сейчас это мой главный проект в области документального кино и журналистики.
Эта книга также о тех, кто посвятил свою жизнь морю и парусу, о безграничной красоте яхтенного спорта. Убежден, что их истории будут интересны любому. Яхтсмен, может, узнает о чем-то новом в профессиональной сфере, а неискушенный человек – об удивительных открытиях, которые я сделал на другом конце земного шара, в далеком заливе Хаураки в Новой Зеландии.
Истории моих друзей-журналистов и жителей разных регионов здесь изложены без прикрас – безусловно, с известной долей субъективности, неизбежной в рамках интервью. О своей жизни я старался написать искренне и честно – как журналист, который в первую очередь рассказчик и свидетель событий и лишь потом аналитик.
Я верю, что эти страницы помогут читателю освежить представления о современной географии и краем глаза заглянуть в уже ушедший XX век, где сирийский мастер деревянной мозаики «фусайфиса» в старом квартале Дамаска с любовью создает новый шедевр – шахматную доску, где ловец жемчуга погружается в опасные воды Персидского залива, чтобы добыть жемчужину. И где помощник смотрителя камчатского маяка выходит к морю, в котором промышляют браконьеры, а впереди бежит маленький пес, нюх которого – единственное, что может предостеречь их обоих от встречи с медведем.
Герои книги обуздывают волны и поднимаются в небо, строят часовни в заснеженных ущельях и идут под парусом сквозь шторма через океан, проводят смелые гуманитарные миссии в охваченных конфликтом зонах. Они исследуют, ищут, пишут картины и творят. ОНИ ЖИВУТ.
Эта книга также попытка посмотреть в XXI век, где британско-южноафриканский спортсмен-экстремал совершает опаснейшие заплывы в Северном Ледовитом океане с единственной целью – привлечь внимание людей к защите Мирового океана. И где португальские профессионалы-серферы тестируют новейшую экипировку, покоряя гигантские волны в Назаре, высота которых зимой достигает 30 метров…
Приятного вам прочтения!
Часть 1
Крайние точки на карте
Глава 1
Иордания. Начало пути арабиста-востоковеда
Середина февраля 2006 года. Со своего пассажирского сиденья смотрю на загородный пейзаж за окном. Снег облепляет лобовое стекло, дворники работают безостановочно. Трудно поверить, но там, на юге, зимой тоже бывает снег и пронизывающий холод… Мы едем в Шереметьево, за рулем отец. Через несколько часов у меня самолет в Иорданию, это одно из самых популярных направлений для практики арабского. Лечу по студенческому обмену в Амман почти на полгода, в Центр языков при государственном Иорданском университете. Сбывается моя мечта с первого курса – оказаться в арабской стране, чтобы учиться, знакомиться, понимать язык в повседневной жизни, путешествовать и открывать новое… Звонит телефон. Это Уаэль аль-Неджим, он заменял других преподавателей у нас в МПГУ на нескольких парах.
– Салям алейкум, Уаэль.
– Ва-алейкум ас-салям, Андрей, – говорит он. – Должен кое-что сказать по поводу твоего жилья в Иордании.
Кажется, звонит он неспроста. Мы договаривались с Уаэлем, что я временно остановлюсь у его брата, который в отъезде.
Поясняю: Иорданский университет не предоставляет парням-студентам общежитие, они ищут жилье сами. А для девушек есть несколько корпусов. Правда, там есть определенные ограничения – кажется, надо возвращаться в общежитие до восьми часов вечера.
– Что, какие-то новости от брата?
– Да, проживать у него не получится, – коротко отвечает Уаэль.
Итак, в Аммане придется срочно искать жилье – я узнаю об этом за пару часов до вылета. Причем с финансами у меня, честно говоря, туго – в том смысле, чтобы ежемесячно платить за аренду. С этим грузом мыслей сажусь в самолет.
А все началось на первом курсе. На факультете социологии, экономики и права в МПГУ имени Ленина, где я учился, набирали студентов изучать арабский язык. Признаться, у меня не было четкого представления, где и кто на нем говорит и как он может мне пригодиться. Я просто попробовал: пришел на первый открытый урок и сел за парту, не подозревая, что этот язык изменит мою жизнь и определит вектор профессионального развития на многие годы вперед. Наш первый преподаватель Саид Хайбулович Кямилев – всемирно известный востоковед, директор Института исламской цивилизации. Родился в 1937 году в Москве в семье известного тюрколога и литературоведа Хайбулы Кямилева. Лично знал короля Марокко Хасана II – 21-го монарха из династии Алауитов. В совершенстве владеет и литературным арабским языком, и марокканским диалектом. Надо сказать, что диалектный арабский очень сильно отличается от языка газет, радио и телевидения.
На этом занятии мы говорили о культуре арабского мира, его традициях и обычаях. И конечно, о строении самого языка, который нам ментально непривычен, одно написание справа налево чего стоит. Я полюбил арабский с первого занятия и начал погружаться в историю Ближнего Востока. Потом, достигнув определенных успехов, не пропускал ни одной межвузовской олимпиады по арабскому языку, участвовал в творческих вечерах – играл Ходжу Насреддина.
И вот на четвертом курсе открылась перспектива поездки в Иорданию. Кстати, если на первом курсе нас было почти 50 человек, то лишь четверо выдержали эту дистанцию: вместе со мной полетели еще три девушки – Ира, Светлана и Кристина.
Вечером наш лайнер приземлился в аэропорту имени королевы Иордании Алии. До столицы чуть больше 30 километров. Нас встречал другой брат Уаэля – Усама, владелец небольшого кафе Cupid Cafe, в которое мы сразу по прибытии и заглянули.
7 февраля
Как долго собирался открыть эту тетрадь и начать писать…
Сейчас я в квартире брата Усамы и Уаэля – Самии. Он уехал в Саудовскую Аравию, и сегодняшней ночью я тут полновластный хозяин.
До сих пор не известно, где буду жить эти полгода: еще до посадки узнал от Уаэля, что размещение у Фаляха по каким-то причинам невозможно (решил не говорить об этом родителям и другу Диме, никого не хотел расстраивать). Может, сниму жилье, а может, буду жить у Усамы – сейчас меня это не особенно волнует. Поставил диск с альбомом Эннио Морриконе и Дулсе Понтеш, который купил за день до отъезда, музыка звучит во всю мощь – я полон энергии, несмотря на долгий перелет и всю эту суету по приезде.
В аэропорту нас встречал Усама и наш земляк Станислав – человек из посольства. Затем отвезли девушек в общежитие и поехали в кафе Усамы, там ждали Фаляха, но он так и не появился.
Как только ступил на эту землю, сразу почувствовал особенность местного воздуха – он здесь свежий, насыщенный влагой, словно до моря рукой подать.
Нужно ли говорить, что этот воздух вскружил мне голову. Огромное счастье оказаться в стране, о которой мечтал с первого курса. С другой стороны, чувствую первые признаки выгорания и нуждаюсь в звуках русской речи. Одно утешение – в Аммане много наших и мы будем держаться вместе.
8 февраля
За мной заехал Усама и отвез меня в университет. Я толком еще не знал, где будет экзамен, во сколько, но мой новый знакомый Фади помог мне найти Центр языков и во всем разобраться.
Опоздав минут на 20, вхожу в класс – там почти одни корейцы, несколько американцев и, кажется, один англичанин. Увидел наших девушек, они уже писали ответы и читали какие-то тексты.
Экзамен несложный: один текст об истории футбола, другой – о деятельности ООН. Больше всего меня вдохновила свободная беседа с преподавателем.
После экзамена завтракали все вместе с Фади (он наполовину русский, наполовину палестинец) в одном арабском ресторанчике. Уже вечер, а я до сих пор не хочу есть, такие сытные иорданские блюда. Фади, кстати, ест один раз в день. На столе не было ничего мясного – только фрукты, овощи, бобовые, оливки и, конечно, арабский хлеб. Арабы почти всегда едят руками, отламывая небольшой кусочек хлеба и окуная его в бобовый соус – аль-фуль: в арабской кухне, как и в греческой, основные продукты – оливковое масло и бобы, особенно фасоль. Салат из огурцов и помидоров с луком и петрушкой напоминает наш летний салат, только чуть острее. Весь стол уставлен блюдами. Если это был завтрак, то королевский. Мы, городские русские, терялись в этом изобилии.
Затем сделали фото для студенческих билетов и поехали осматривать город. Но… Как мало в тебе истории, о Амман! Или меня обмануло первое впечатление? Практически ни одного исторического здания, а ведь люди живут здесь много тысячелетий. Все дело в том, что один из древнейших городов Ближнего Востока – всего лишь преемник древних поселений. Его построили на семи холмах – говорят, их символизирует семиконечная звезда на иорданском флаге, – несколько раз он был разрушен землетрясениями, но вырастал заново.
И потому он братски близок мне, этот молодой Амман.
Раббат-Аммон – так называли его в библейские времена. А потом еще и Филадельфия, в честь египетского царя Птолемея II по прозвищу Филадельфос, что значит «братолюбивый».
Итак, я видел дома в основном современные, невысокие, до пяти этажей, и вдали множество вилл, окруженных небольшими садами. Улочки – взлетающие на холмы, ныряющие в долины, виляющие то влево, то вправо, – заставили меня вспомнить Афины. Но в иорданской столице мало зелени (почти не бывает дождей), в основном растут финиковые пальмы, кипарисы и финикийский можжевельник.
Нетрудно заметить четкое разделение на районы – по-арабски adwar: вот там район фешенебельных магазинов, а там район кафе и закусочных. Или район частных вилл.
Мы пока не выбрали день, чтобы посетить исторический центр с остатками римских построек.
Что касается ислама, то, по словам самих арабов, в Иордании он не так сильно влияет на частную жизнь, как, например, в Ираке или Саудовской Аравии. Но свои правила, конечно, диктует. Мои компаньонки – Ира, Светлана и Кристина рассказывают, что проснулись под звуки азана, призыва к всеобщей молитве. Пять раз в день, когда муэдзин призывает мусульман к молитве, все убирают звук в автомагнитолах, делают тише телевизор, и сейчас в кафе Усамы, где я пишу эти строки, во время предвечерней молитвы замолкла музыка. Хотя, отмечу для себя, мало кто молится.
9 февраля
Амман называют еще Белым городом – многие его дома сложены из белого камня, известняка. Сегодня утром вспомнил об этом во время сильного снегопада: город стал неузнаваемым под белым покровом, и впервые в жизни я увидел пальмы в снегу.
Приехал в университет к девяти утра, все было закрыто. Амманцы играли в снежки – для них это редкость.
Затем отправился в Cupid Cafe, потому что не удалось позавтракать во вчерашнем арабском заведении, оно было закрыто – все закрыто! Усама сам приготовил еду, получилось очень даже неплохо.
В торговом центре Mecca Mall зашли в сувенирный магазинчик. Чего там только нет: мозаика из мелких камней (напоминающая, насколько знаю по иллюстрациям, ранневизантийскую напольную мозаику в Джераше, куда мы собираемся отправиться в марте), кувшины, чашки, латунные кофейники с художественным травлением и изогнутым изливом, посуда ручной чеканки, шкатулки, украшенные перламутровой мозаикой «фусайфиса», небольшие ковры… Но больше всего меня тронули различные предметы, вырезанные арабами из оливкового дерева. Это преимущественно христианские фигуры, например, Христа и учеников на Тайной вечере или Девы Марии. Очень красивые работы. Еще там можно купить освященную землю и воду из Палестины (после арабо-израильских войн 1948–1949 и 1967 годов здесь обосновались сотни тысяч палестинских беженцев, и сегодня около 55 % населения Иордании – палестинские арабы). Нашел здесь Библию, второе название Евангелия – Книга Жизни.
Поражает информационное единство иорданцев. Конечно, можно все объяснить осведомленностью работников сферы услуг, но это не отменяет моего удивления. Я сел в такси, чтобы доехать от университета до кафе Усамы. Адреса не знал, но достаточно было произнести – Cupid Cafe, – как водитель тут же позвонил с моего телефона Усаме. Последовал разговор в родственном духе:
– Салям алейкум, брат!
– Ва-алейкум ас-салам, старина.
– Как твои дела?
– Слава богу, все хорошо. Что у тебя нового?
– Все порядок, но погода сегодня…
– Да… Но дай бог, завтра будет лучше.
– Ин ша Аллах! Слушай, где твоя кафешка?
При встрече иорданцы никогда не начнут с главного: поговорят о том о сем, обменяются новостями, пошутят и только потом приступят к делу. Эта особенность Востока – что-то более древнее, первичное по сравнению, например, с формой обычной европейской вежливости.
10 февраля
Прекрасный день, я слышал голос матери и сейчас понимаю смысл того хадиса: «Рай – под ногами матерей». Ее голос согрел мне душу, и теперь, я знаю, ничто не позволит мне сбиться с моего пути…
11 февраля
Сегодня пришел в Центр языков за результатами экзаменов.
Вхожу, поднимаюсь в класс и вижу наших девушек, которые разговаривают с Тауфиком из центра.
– Ну как дела? Вы давно здесь?
– Хорошо, только пришли. Ты знаешь свой результат?
– Нет, но хотел бы…
– У тебя третий уровень.
(Всего в Центре языков шесть уровней, шестой – самый высокий.)
– Не может быть! Вы шутите, я нормально написал. А вы на каком?
– Все на пятом.
– Поздравляю, – вздыхаю я и ловлю взгляд Тауфика.
Он, естественно, ничего не понимает по-русски, но, кажется, догадывается, что девушки меня разыгрывают.
– Пожалуйста, садись, – говорит он мне на арабском.
– На каком я уровне?
– На шестом.
– Вот это да! Не ожидал.
Действительно, экзамен я сдал наилучшим образом. Моя первая победа в этой стране! Искренне радуюсь за девушек – пятый уровень, только Светлана на третьем, но, уверен, в ближайшие дни ее переведут на уровень выше.
12 февраля. Первый день учебы
В моей группе почти одни американцы и корейцы. Есть один англичанин, два парня и две девушки из Турции. Есть сын йеменца и ливанки. А еще поляк Янек и – приятная неожиданность – Даша с Украины (учила арабский в Киеве, потом в Сирии и Ливане).
Группа хорошая, очень приветливые люди.
Наш преподаватель Али – царь шуток, первое же занятие построил в форме остроумной беседы, которая захватила нас. Когда мы вышли из аудитории, Кристина спросила: «Вы что там, египетские сериалы смотрели? Смеялись весь урок!»
Действительно, у нас лучшие преподаватели.
Завтра должны поехать в Вади-Рам.
Сейчас вечер, сижу в парке университета с книгой Алексея Ухтомского и чувствую необъяснимое счастье, когда читаю: «…видеть и любить друг в друге их алтари, а не задворки». Или: «встречный человек таков, каким ты его заслужил».
17 февраля
Какое-то время я жил в районе Сувейлах, довольно далеко от университета (это не самый благоприятный район Аммана, фактически его пригород), а сейчас снимаю комнату в новой квартире, где, правда, приходится делить общую площадь с другими студентами. В Центр языков хожу пешком. Это уже четвертая моя квартира в Аммане, и надеюсь, что в ней и останусь до конца учебы.
До сих пор удивляюсь, выходя из дома, что под ногами не скрипит снег – как поздними ночами в московских дворах, когда возвращаешься от друзей. Думаю, еще долго буду ежиться по инерции от этого южного ветра, ни на секунду не забывая, что в родных краях сейчас морозы. Здесь же вечерами и особенно ночами просто зябко, но мне не привыкать – есть опыт ночевок в походных палатках при минус 2.
В конце дня, перед тем как приступить к арабскому, согреваюсь под горячим душем, надеваю шорты, тонкие шерстяные бабушкины носки и рубашку. Янек, мой компаньон по комнате, ходит в двух штанах и кофте и шутя называет меня сибиряком: «Точно русский – закален морозами».
Иорданских женщин на улице можно увидеть исключительно в сопровождении мужчины (родственника или мужа) или за рулем автомобиля. Сколько здесь живу, а только раз заметил иорданку с сумками, идущую одну из магазина.
И уже спокойно воспринимаю традиционную одежду мусульманок, кроме, пожалуй, тех случаев, когда полностью спрятано лицо. В белых хиджабах есть хотя бы намек на элегантность, но в черных – что-то пугающее. Бывает, и глаза скрыты – просто черный никаб, полностью закрывающий голову.
Лишь немногие ходят без платков и накидок, и это, наверное, туристки.
При встрече иорданки очень редко обмениваются поцелуями в щеку. Чаще приветствуют друг друга легким рукопожатием. Так же при встрече мужчины с женщиной: если она согласна, пожми ей руку.
В мужской среде, напротив, приняты поцелуи в щеку – как это было на Руси, да и вообще в те старые добрые времена, когда каждый считал ближнего братом.
И еще: юноше и девушке в Иордании непозволительно ходить под руку, тем более обнявшись. Это вызов традициям. И только после помолвки юноша может появиться в доме возлюбленной.
Зачастую законной возможностью свидания для молодых людей становится совместная учеба. Например, Фадия и Хусейн встречаются в университете и нигде больше. В тот день, когда я с ними познакомился, Хусейн проводил Фадию до главных ворот, попрощался с ней и вернулся ко мне.
В некоторые заведения в Аммане могут запретить вход для чисто мужской компании – возможно, из соображений безопасности. Вчера был четверг, мы с Фади и Анасом хотели зайти в один из ресторанов Mecca Mall, но охрана преградила нам дорогу: без девушек нельзя. И так каждый четверг и пятницу (выходной день в Иордании).
Что касается дискотек и танцевальных клубов, тут наоборот – многие заведения открыты только для мужчин.
Мои московские однокурсницы после посещения Mecca Mall пожаловались мне:
– На нас смотрят все ребята, все мужчины оборачиваются.
– Наденьте платки – и все будет нормально.
– Да уж, нашелся советчик. Просто мы белые и без спутников.
Но однажды Ира заметила: «Андрей, на тебя арабские девушки во все глаза смотрят!» Я пожимаю плечами: наверное, они просто видят во мне интуриста, заграничную диковинку.
Да, в Аммане будто заново и с особенной гордостью осознаю, что я русский. Нужно было уйти с головой в почти шестилетнее увлечение Китаем, Японией, стихотворными формами восточной поэзии (хайку, рубаи, газель), затем Африкой, различной этнической музыкой, наконец, Востоком, арабским миром, чтобы здесь, в Аммане, за тысячи километров от дома, вернуться к истокам…
Понимаю, что рано или поздно это должно было произойти, жалею лишь об одном – что не могу поутру, еще затемно, встать и босиком по росе пойти встречать рассвет, побежать по широкому русскому полю за деревней.
Не могу обнять тех, кого так сильно люблю! Но верю: это будет.
В моей скромной дорожной библиотеке книги Жуковского, Лескова, Волошина, Короленко, Серафимовича («Железный поток» – история похода красноармейцев и кубанской бедноты на Северный Кавказ в 1918 году). «Москва и москвичи» Гиляровского. Наконец, Библия и томик Алексея Ухтомского – две книги, которые помогают приближаться к истине и следовать любви, поддерживают меня в пути.
А еще с моим багажом в Амман прибыли альбомы по искусству. «Пейзаж в русской живописи», подарок однокурсниц. Брюллов – почти год я ждал случая, чтобы открыть этот альбом, и открыл его здесь. Маленькие репродукции картин Третьяковки: «Днепр утром» Куинджи – ширь и головокружительный простор, «Вечерний звон» Левитана – смотришь, и душа наполняется теплом, «Молчание» Нестерова – невольно вспоминаешь нашу северную природу. И конечно, Саврасов и Айвазовский.
Несколько дней назад прочитал книгу о героическом восхождении Николая Орлова на пик Ленина в 1993 году.
Я взял с собой в Иорданию любимые, самые необходимые мне фотографии: мама и сестра Ксения в Югославии, брат Никита, крестная с Лифтерисом, семейные фото из Крыма, Тулы, снимки, где мы все вместе – с Альбиной и Димой в новогодних костюмах – и где мы с друзьями в Бородино.
Как-то после занятий я сидел в одиночестве на втором этаже и читал историю того восхождения. Пришли двое ребят заниматься переводом с арабского. Познакомился с ними, разговорились. Один из Турции, другой, Надим, – палестинец. Выяснилось, что Надим знаком с русской литературой, его брат учился в России. Я даже привстал на месте – этот парень знает Достоевского, Толстого, Пушкина. Называет русские книги, пусть с ошибками, с неправильными ударениями. Может, он их даже не открывал, но как же впечатляет, когда слышишь от ближневосточного араба названия романов наших классиков!
Попросил меня написать все русские буквы с транскрипцией – хочет учить русский.
18 февраля
Снился наш лес. Строй высоких сосен. Воздух прозрачный, чистый, пьянящий. Один, как в невесомости, перепрыгиваю через овраги и ручьи…
Потом вдруг оказываюсь с друзьями в деревне. Тихо речка бежит. Отвязываю лодку, отталкиваюсь от деревянного помоста и плыву… Яркий незабываемый сон, недолгое и бесплотное прикосновение к родине.
3 марта
21-ю весну своей жизни встречаю здесь, в Иордании, вдали от семьи и друзей, от капели, просевших сугробов, весенних ручьев. Здесь уже лето. А хочется видеть, как тают снега под нестойким мартовским солнцем, как река в деревне с каждой неделей становится все шире, как первоцветы пробиваются сквозь перезимовавшую листву.
«Все-таки наш климат уникален, – вспоминаю слова мамы. – Люди в южных странах и не замечают, как проходит год, для них все время лето. А у нас меняются сезоны, осенью с нетерпением ждешь первого снега, а к весне уже скучаешь по теплу и солнцу».
Теперь понимаю, насколько это так. Времена года у нас неповторимо прекрасны. Услышать бы пение скворцов и вдохнуть родной воздух, который уже пахнет теплом…
4 марта
Поездка в город Пелла и к границе Палестины и Сирии.
Провожали закат с видом на Тивериадское озеро!
Учусь быть собой.
6 марта
Завтра очень важный день – буду рассказывать на уроке о русском искусстве. Раз в неделю каждый из нас выступает с монологом на выбранную тему. Сейчас перевожу на арабский слова – пейзаж, меценат, сюжет картины – и вообще штудирую всю лексику, которая относится к живописи.
Приготовил текст о Брюллове, Васильеве, Поленове. Покажу репродукции из альбомов, взятых с собой. С недавних пор моя формула успеха – не думать о нем, а стремиться подарить то, что хорошо знаешь и любишь. Поэтому хочу преподнести друзьям в группе самое лучшее, по моему мнению, в нашей живописи. Очень надеюсь, что будет Меглин – девушка из Канады.
И второе: завтра у меня встреча с преподавательницей из МГИМО Еленой Владимировной.
А еще на первой паре получил длинное сообщение от друга детства Димы Болбота, он написал о найденных предках. И вот что я решил: этим летом непременно поеду в Рязань, на родину деда.
10 марта
Грандиозный римский амфитеатр – 6000 мест, базар, сувенирные лавочки… Побывали с Янеком в центре города. А точнее, в центре старого города, далеко не престижном районе. Здесь живет беднота – домишки, как в Непале, лепятся один к другому на склонах холмов.
С первого дня пребывания в Аммане ищу в черте города православный храм. Были с Усамой в районе Ар-Рабия, но там католический, а недалеко от университета – протестантский. И вот сегодня оказались в современном деловом районе Абдали. Вышли через плотный встречный людской поток на главную площадь и увидели колокольню храма Благовещения. Рядом мечеть короля Абдаллы I с голубым мозаичным куполом, а также коптская церковь.
– Сегодня пятница, как думаешь, открыт?
– Не знаю, давай посмотрим расписание службы.
Потом каким-то образом мы оказались в трапезной, где обедали и мирно беседовали прихожане. Они пригласили нас за стол, а их доброжелательность сняла мою неловкость. Отведали традиционное блюдо – мансаф, это баранина в йогуртовом соусе с рисом и кедровыми орехами. Среди этих благочестивых людей я чувствовал себя почти дома.
Не считаю себя набожным и храм посещаю нечасто, но здесь свою веру храню в сердце словно жемчужину. Вдали от Родины каждый глубже понимает, что с родными местами связывает именно вера, язык и культура.
– Когда служба в храме? – спросил я сидящего рядом с нами иорданца.
– Совсем скоро, минут через десять.
И действительно, вскоре раздался хорошо знакомый медный басовый гул – колокольный звон. После азана, который приходилось слышать ежедневно, мне словно бальзам на сердце пролился.
Мы вошли внутрь.
Этот православный храм в византийском стиле был построен в 1962 году и внутри напоминает католический – деревянные скамьи, мужчины и женщины сидят отдельно. Но в остальном атмосфера наша, родная. Иконостас, мозаика, фрески под куполом, свечи горят… Давно не был в такой обстановке.
За два дня до вылета в Амман, в воскресенье, специально съездил в одну московскую церковь на утреннюю службу – душа просила перед разлукой, и вот сегодня я снова в храме. Там, где соединяются сердца, чтобы покориться Любви и Истине в Боге.
11 марта
Прекрасный день, одна из лучших экскурсий.
Сегодня ездили в Мадабу и на гору Нево, откуда Моисей увидел Землю обетованную.
Иду по древнему городу, его история так же запутанна, как маленькие улочки, разбегающиеся на моем пути. В этом неспешном городском ритме отдыхаю от суеты Аммана.
Мадаба упоминается в Ветхом Завете как Медева и земли Моава: когда израильтяне, направляясь из Египта под руководством Моисея, захватили моавитские земли, «всю равнину Медеву до Дивона» определил Моисей «колену сынов Рувимовых по племенам их»[1].
Во времена Римской империи Мадаба входила в состав Аравии Петрейской, тогда отмечается расцвет города, который усилился с распространением христианства.
В 614 году город был серьезно разрушен во время персидского нашествия. Но его удалось восстановить, и он просуществовал, уже при арабах, до 749 года, когда его практически полностью уничтожило землетрясение.
В начале XIX века Мадабу посетили европейские путешественники – исследователи Востока: немец Ульрих Зеетцен, а следом за ним – швейцарский востоковед Иоганн Людвиг Буркхардт.
В 1880-х годах после кровавых межплеменных конфликтов на западе Иордании 2 тысячи христиан из родов аль-Азейзат, аль-Курайш и аль-Муайаа переселились из Керака в Мадабу и ее окрестности. Это переселение возглавили священники из Иерусалима. Под домами новых жителей Мадабы были найдены древние мозаичные шедевры, среди которых самый известный – карта Ближнего Востока новозаветных времен на полу церкви Святого Георгия, созданная в 560–565 годах н. э.
На карте из более чем 2 млн мозаичных квадратиков (желтого, коричневого, черного, серого, белого, фиолетового цвета, а также оттенков красного и зелено-голубого) изображены холмы и долины, деревни и поселки в Палестине, Иерусалим, Амман, Керак и Петра. Регион на карте простирается на западе до Средиземного моря, на юге – до Мемфиса и Александрии, а на севере предположительно до Гебала, более известного под своим греческим названием – Библ (современный город Джубейль в Ливане). Можно увидеть на ней и священный источник пророка Елисея – святилище с красным куполом (поток воды сбегает к многобашенному городу Иерихону, окруженному пальмами).
Также в Мадабе находится церковь Апостолов, возведенная в 578 году – эта дата указана на центральном мозаичном медальоне. Храм был обнаружен в 1902 году, и в нем поистине великолепные мозаики.
Не могу здесь снова не упомянуть о фусайфиса – так арабы называют мозаику и из камня, и из дерева и перламутра, которой украшают шкатулки и футляры. Иорданцы передают эти традиции из поколения в поколение, подражая древнеримским мастерам (я имею в виду мозаики из камня). Хочу привезти в Москву то, что может удивить моих друзей и семью.
Но главная цель нашей сегодняшней поездки, для меня по крайней мере, – это гора Нево (Сиягха) и храм Моисея.
Эта гора находится в 7 километрах от Мадабы. В Ветхом Завете о ней говорится не раз («И отправились [израильтяне] из Алмон-Дифлафаима, и расположились на горах Аваримских пред Нево» (Числа 33:47), «И призвал Господь Моисея на гору Нево, сказав “взойди на сию гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Моавитской, против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую Я даю во владение сынам Израилевым; И умри на горе, на которую ты взойдешь”» (Втор. 32:48–50).
В ясный день с Нево (833 м над уровнем моря) можно увидеть Русскую звонницу на Елеонской (Масличной) горе в Иерусалиме. Но сегодня было видно только Мертвое море, Иудейские горы и долину Иордана.
Не успеваю описать то, что видел и, главное, чувствовал там. Скажу лишь о благоговении, охватившем меня в древнем храме с мозаичным полом. Мне кажется, это самое спокойное и искреннее место из тех, где я когда-либо был.
14 марта
Я по-прежнему одинок в этой стране.
15 марта
Сегодня прохладно, плюс 15–16. Небо в облаках, слабый ветерок.
На второй паре у Жасмин читали текст о Нобелевской премии и ее лауреатах. Много говорили об Америке, России и Иране в связи с последними событиями.
После обеда вместе с Кристиной и Светой поехали в институт к Фади, в район Аль-Аквас, где иногда я встречаю рассвет. Играли в боулинг.
На обратном пути открылся красивый вид на долину прямо под нами. Почему-то кажется, что в Новой Зеландии, о которой мне рассказывала Кристина, должны быть такие же изумительные ландшафты.
Я продолжаю искренне восхищаться гостеприимством этих людей: мы заехали в один достаточно дорогой магазин арабских сладостей, девушки набрали много всего и собрались расплатиться, но хозяин удивился и сказал, что для них это совершенно бесплатно.
18 марта
Проснулся, как обычно, в 7.20, позавтракал нашей домашней кашей («мафтуль»), и мы поехали. В этой поездке Елены Владимировны с нами не было, она на несколько дней улетела в Ливан.
В дороге читал статью о Лучано Паваротти – в разделе культуры газеты Al-Ghad. Мировое турне знаменитого тенора охватывает более 20 городов. Он собирается оставить оперу и открыть музыкальную школу в Барселоне. Я смотрел в окно и вспоминал рождественский концерт Хосе Каррераса, на который однажды повезло попасть.
Минут через 50 мы прибыли в Аджлун, провинцию Иордании на северо-западе королевства. Она затерялась в можжевеловых лесах. На вершине горы Джебель-Ауф (1240 м) стоит крепость ар-Рабад. Ее построили в 1184–1185 годах по решению двоюродного брата Салаха ад-Дина – Изеддина Усамы бен Мунказа. Сначала был возведен квадратный бастион с башней на каждом углу. А в 1214–1215 годах мамлюкский правитель Айбак ибн Адбалла расширил его и добавил по две башни на восточную и южную стены и одну на северо-востоке. Раньше здесь находился христианский монастырь, поэтому на камнях крепости можно заметить высеченные кресты.
У нас был один час, и мы обошли абсолютно все.
А потом поехали в Джераш (это к северу от Аммана, на полпути к Ирбиду). Первое упоминание о нем встречается в «Иудейских древностях» Иосифа Флавия. Римляне назвали город Герасой.
Я намеренно отстал от нашей студенческой группы, бродил по улицам, вымощенным каменными плитами, и воображение рисовало мне многолюдный и шумный торговый город.
Исследователи обнаружили в этих местах следы оседлой жизни каменного века и поселений бронзового и железного веков в районе Южных ворот.
В 63 году до н. э. Джераш вошел в объединение десяти эллинистических городов – Декаполис, созданное для прикрытия южных границ Римской империи от кочевников (в него, кстати, входила и Филадельфия – нынешний Амман). На пути из Тира к Галилейскому морю (то есть Тивериадскому озеру) по городам Декаполиса, или Десятиградия, путешествовал Иисус Христос.
В 106 году Джераш становится частью римской провинции Аравии Петрейской и именно под эгидой Рима, даже утратив самостоятельность, переживает период расцвета.
Угасание города началось в 235 году со смертью императора Александра Севера и продолжилось весь III век.
Во второй половине IV века в Джераше усиливается влияние христианства: строятся церкви, в городе размещается резиденция епископа.
В 636 году византийцы потерпели поражение от арабов в битве при Ярмуке и отдали победителям часть земель на Ближнем Востоке, в том числе и Джераш.
В 749 году он был разрушен землетрясением. А потом селевые потоки с возвышенностей занесли город толстым слоем песка и законсервировали его более чем на тысячу лет.
Поэтому Джераш иногда называют Помпеями Востока.
На знакомство с городом было отведено два с половиной часа.
После Южных ворот сразу выходишь на Овальную площадь, или Форум, и по центральной улице идешь мимо рынка (Мацеллума) к Южному Тетрапилону. Почти идеально прямая центральная улица – Кардо Максимус – завершается Северными воротами.
Ловлю себя на том, что не вижу следов прошедших веков, город как будто новый. И только на камнях время оставило свой отпечаток, чтобы каждый прикоснувшийся к ним испытал священный трепет. Подобный трепет я чувствовал, прикасаясь к камням Парфенона на афинском Акрополе.
С нашей студенческой группой мы дошли до конца улицы и свернули налево, поднялись к Северному театру. У главного храма (посвященного Артемиде, покровительнице Джераша) я сфотографировался с итальянками. Снова все разбрелись, и снова я один бродил по городу, спустился к жилым домам и термам и направился к Южному театру. Там играл королевский оркестр военных музыкантов, слышалась дробь барабанов и звуки волынки. Музыканты были одеты в длинные традиционные арабские рубахи дишдаши и куфии (арафатки) с укалями.
Забрался на верхний ряд прекрасно сохранившегося амфитеатра, чтобы полюбоваться панорамой.
Потом встретил Иру с турецким студентом Юсуфом. Экскурсия подходила к концу, и в оставшееся время я еще раз прошелся по древним улицам и заглянул в Фонтанный двор, где византийцы каждый год отмечали чудо превращения воды в вино, сотворенное Иисусом.
20 марта
Наконец проходит это ощущение ненужности, письма друзей согревают сердце.
27 марта
День был грустным – мы опять не получили визу и икаму (разрешение на временное проживание) – до этой минуты.
Встречался с Мухаммадом, сейчас вернулся домой. За ужином Янек рассказал, что 7 апреля будет марафон по маршруту Амман – Мертвое море. Классическая олимпийская дистанция, 42 км. Янек уже записался, завтра поеду и я.
С утра начинаю тренироваться.
31 марта
Каждое утро по 10 км, вчера после футбола – 15. Забег будет серьезным. Конечно, пробегу столько, сколько смогу. Есть желание победить, а именно достичь финиша. А еще, уверен, есть воля и выносливость. Здесь соревнуешься только с собой. Знаю по опыту: на старте полон сил, потом проступают первые признаки усталости, ноги тяжелеют, и вот уже бежишь словно робот, мысли уходят прочь, ничего не ощущаешь…
7 апреля
Прекрасный день – получили икаму. Преодолел 20 кругов на большом поле университета.
Снова пишу ночью. Надо выспаться перед завтрашним марафоном.
Ладно, если после 42 км останемся живы с Янеком, продолжу свои записи.
Иду спать.
8 апреля (пятница)
Счастье от осознания того, что справился и победил себя!
Итак, мы встали в 5.20, слегка перекусили и поехали. Старт в 7 утра.
Потрясающие пейзажи, долина с виноградниками, дорога на первом 12-километровом отрезке то вверх, то вниз, потом 30 км – по наклонной, перед финишем – почти прямая.
На старте было достаточно холодно. Я чувствовал, что мои кеды до сих пор не высохли после вчерашней пробежки под дождем. К середине дня воздух стал жарким, но сегодня, слава богу, долина была укутана дымкой и солнце не так палило.
Янек сразу вышел вперед, а я отстал и бежал в своем ритме.
Превосходные виды, просторы открывали второе дыхание – и окрыляли. В тот же день я написал Диме: брат, если бы не мысль о тебе, о тех, кто мне так дорог, и, главное, о стране, имя которой я скандировал на финише, я бы не справился.
К моему удивлению и восхищению, с нами бежали и люди, которым за 60, потом мы их встретили на финишной прямой.
На первых километрах несколько раз я обгонял забавную пару бегунов из Германии. При моем приближении они перекидывались парой слов на немецком и ускорялись, но я продолжал держать выбранный темп, нисколько не соревнуясь с ними, не нарушая свое правило – победить самого себя.
Когда за холмом блеснуло Мертвое море, бежал уже из последних сил, на автомате, не помышляя о чем-либо, кроме финиша и отдыха. На этом этапе со мной поравнялся фургон организаторов забега. Арабы, бурно жестикулируя из его открытой двери, предложили сесть в машину. Я замотал головой, но они и шутливо, и настойчиво приглашали в машину. И хотя искушение было велико, я не собирался сдаваться. Моей целью было бороться до конца.
Финишную прямую я пересекал со слезами счастья на глазах. С чувством, что представляю Россию, свой народ, семью и близких мне людей… Оказалось, это даже не преувеличение: потом я узнал, что был единственным русским участником марафона. Как, впрочем, и Янек – единственным поляком.
Ноги гудели, я их почти не чувствовал. Вообще-то организаторы предоставляют услуги массажистов – я обратился к ним, говорю, ноги сводит судорогами, но они мне отказали, мол, уже закрылись. Слишком долго бежал – больше пяти часов. Не самый, конечно, блестящий результат для такой дистанции, но я им гордился, как, наверное, ни один из участников. Это было мое личное достижение, испытание силы и характера.
Остался смотреть награждение, искренне радовался за этих людей. Первое и второе места заняли иорданцы, третье – саудиец, в ультрамарафоне (47 км) призовые места тоже были у спортсменов из арабских стран.
Было и женское награждение… Никогда бы не подумал, что у этих нежных и с виду хрупких созданий столько силы и желания победить.
Сегодняшний день – один из самых ярких в моей жизни.
Сейчас вечер, отдыхаю перед завтрашней поездкой в Умм-Кайс, на Тивериадское озеро.
UPD: Свой стартовый номер участника с черными цифрами на красном фоне – 331 – я сохранил на память. Над цифрами слова – «Иордания», «Мертвое море», «Ультрамарафон», а внизу слоган «Пробеги к самой низкой точке на Земле»[2]. И конечно, логотип спонсора забега. Рядом слова – «Жизнь хороша». С обратной стороны организаторами написано от руки по-английски мое имя. Этот марафон усилил мое увлечение бегом и подтолкнул к участию в соревнованиях на разные дистанции в России и за рубежом.
9 апреля
Умм-Кайс (древнее название – Гадара) – древний укрепленный город. Путь к нему не близок, около 110 км к северу от Аммана. Он стоит на вершине холма, а где-то недалеко сходятся границы Сирии, Израиля и Иордании.
На протяжении всей поездки ноги не давали покоя, после вчерашней нагрузки болели и с трудом сгибались, поэтому на всех пеших экскурсиях я переставлял их как аист.
Когда мы достигли Умм-Кайса, нам открылся удивительный вид на Тивериадское озеро – Галилейское море. Здесь Иисус исцелил одержимого, жившего в похоронных пещерах среди саркофагов, попросту говоря, изгнал бесов, которые вселились в свиней и бросились с высокого холма в море.
Город входил в состав греко-римского Декаполиса. Римские дороги, руины двух театров, квартал османской застройки, ипподром, черные базальтовые плиты и колонны, монументальные башенные ворота… У городских ворот на дороге, ведущей к галилейскому побережью, археологи раскопали остатки пятиапсидной базилики IV века. Она была построена над древнеримской усыпальницей – как предполагается, на месте совершенного Иисусом чуда.
С этого холма открывается вид на Голанские высоты и пленительную для меня Палестину.
9 апреля
Сдал последний экзамен у Али.
10 апреля
После учебы встретил своего товарища Мухаммада.
– Какие планы на сегодня?
– Пока никаких.
– Поехали в старый город, – предложил я.
– Давай.
В три часа дня мы уже были в Восточном Аммане. На улицах, что удивительно для центра, немноголюдно: многие школы и предприятия закрыты – люди протестуют против объявленного правительством повышения цен на газ, бензин и другие виды топлива. В Иордании готовят еду только на газе, и уже поэтому повышение чувствительно для каждой семьи.
Мы сразу пошли осматривать одну из главных достопримечательностей столицы королевства – римский театр II века. Он относится к периоду, когда город был известен как Филадельфия и рассчитан примерно на 6 тысяч зрителей. В наше время здесь проводятся книжные ярмарки, концерты, церемонии вручения призов Амманского марафона.
Зашли в сувенирную лавку Фарида, где я заказал мозаику с Деревом жизни из Мадабы – в четверг перед концертом, наверное, приеду заберу.
После небольшой прогулки ужинали в ресторане «Хашим». Это одно из старейших заведений Аммана, в которое позднее однажды заглянул даже король с семейством. На стенах фотографии старого Аммана, вырезки из газет. Атмосферный вид на старый город. В «Хашиме» всего два официанта, и оба египтяне, один обслуживает в зале, а другой на улице, где столики под навесом.
Попробовал фалафель – небольшие шарики из перемолотого нута с добавлением фасоли и пряностей, жаренные в масле до появления хрустящей корочки.
Никогда ужин не обходится без хумуса, картофеля и, конечно, горячего хлеба.
Очень милое место.
Когда возвращались домой, застали закат над Амманом.
13 апреля
Светят звезды… Прекрасное настроение.
В кармане моей куртки билет на завтра до Акабы. Город между горами и морем. Сальвадор с Марией уже там. Совсем скоро увижу Красное море!
Но все по порядку.
Вчера у нас был День культуры Турции. Ребята потрясающе подготовились, чувствуется их единство.
Посмотрели два фильма о Турции, послушали выступления наших студентов, потом было угощение – восточные сладости, очень вкусно.
После чего маленькая девочка рассказывала о своей жизни и читала стихи на турецком. Она рассказывала о своей стране, а я слушал и думал о России.
Кстати, недавно узнал, что с нами учится дочь премьер-министра Турции Сумея Эрдоган, очень милая и скромная девушка, ходит без охраны. Несколько раз говорил с ней на арабском.
14 апреля
В 3.50 наш автобус прибыл в Акабу. Меня встретили Сальвадор с Марией, которые приехали сюда еще вчера. В «кафешке под деревом» нас ждали их друзья Серхио, Фади и Яхья.
Сразу же искупался, вода потрясающая. Заплыл далеко за буйки. К семи вечера солнце садилось за горы Синая. А ночью уже видны огни соседнего Эйлата.
15 апреля
Проводили наших друзей-палестинцев в Амман и поехали на дикий пляж в 15 км от Акабы.
Бывают минуты, которые никогда не забыть. Когда ты совсем один перед бескрайним синим морем. И морской бриз в лицо, и чайки высоко в небе…
Идешь вдоль берега, волны приятно хлещут по ногам. И незаметно стирают твои следы на песке.
Вечером отправился в гавань. Познакомился с хозяевами одной яхты.
– Приезжай в следующую пятницу вместе с друзьями – выйдем в открытое море, – предложил Абдулла.
– Если получится – это было бы здорово.
Потом еще долго гулял по ночной Акабе.
16 апреля
Проснулся в девять. Потом встали Серхио, Мария и Сальвадор. Позавтракали вместе, и я сразу побежал на море, а ребята – покупать билеты обратно в Амман.
22 апреля
Прошло уже больше недели с нашей поездки в Петру, и я наконец сел писать об этом небольшом путешествии.
Вместе с другими студентами Центра языков мы посетили величественную Петру на юге страны.
Этот древний город набатеев расположен примерно в 100 км к северо-востоку от Акабы, и ему не меньше 4 тысяч лет. Еще до исхода евреев из Египта здесь была земля семитского этноса эдомитян, которые считаются потомками Исава (брата Иакова).
Исследователи пишут, что столицу Эдома Селу, которая упоминается в Ветхом Завете[3], в 797 году до н. э. захватил царь Иудеи Амасия. Он переименовал ее в Иокфеил. Слово «села», как и греческое «петра», переводится как «скала». Остатки эдомитского поселения здесь были найдены археологами на горе Джебель Умм аль-Бияра – в самом сердце Петры. Эдомское царство занимало довольно обширную территорию.
Набатеи в этих местах появились в VIII в. до н. э. Доподлинно неизвестно, кем они были и откуда взялись.
По одной версии, они пришли на территорию Иордании из Ассирии (слово «набат» – ассирийское), то есть с востока. Косвенно это подтверждает факт ассирийско-эдомитских войн, которые разыгрались в VII веке до н. э.
Другая версия называет их родиной север Аравийского полуострова. Считается, что оттуда пришли некие арабские племена и мирно слились с местным населением. Так на обширных территориях возникла набатейская культура. Наконец, есть версия, что набатеи могли прийти из далекого Йемена – и принести оттуда познания в мелиорации и земледелии.
Одно исследователи считают бесспорным: в 312 году до н. э. государство в скалах существовало.
Петра встречает широкой долиной, мы идем все вместе. Очень жарко.
Я беседую с папой палестинца Самира Ясиром, в то время как Света и Кристина – с румыном, а Ира – с Янеком.
По дороге познакомился с соотечественниками – две пары из Питера, в Иордании они на пять дней прямиком с Кипра. При входе в ущелье снова встречаю их.
То и дело слышим грохот копыт и каждый раз отходим с опаской в сторону – бедуины проносятся на лошадях, совершенно не разбирая дороги.
Вступаем в ущелье Сик. Оно образовалось в результате тектонического сдвига, когда песчаниковая скала раскололась на две половины. Водные потоки отполировали дно глубокой узкой скальной расселины. А в самом конце ущелье образует коридор не больше трех метров шириной. Отвесные стены над головой прячут солнце от глаз.
И вот открывается великое зрелище – Эль-Хазне. Храм одного из трех набатейских царей – Ареты (Хариса) IV, либо Ареты III, или же Ободата II (это I век до н. э.) – целиком вырезан в скале и украшен фигурами персонажей, связанных с загробной жизнью. Здесь есть и орлы, забирающие души, и танцующие амазонки.
Фасад Эль-Хазне увенчан каменным сосудом. Бедуины поверили в местную легенду, будто в нем спрятаны сокровища фараона, и, стремясь разрушить сосуд, стреляли по нему из ружей. Они надеялись, что на них прольется настоящий золотой дождь. Сосуд уцелел, а выбоины от пуль видны на нем до сих пор.
В просторном дворе много туристов, у всех глаза на лоб лезут от удивления. Сооружение действительно впечатляющее.
Дальше горы расступаются.
Мы проходим мимо амфитеатра, также вырубленного в скале. Он построен в 4–27 годах н. э., то есть задолго до римлян. На 33 рядах могли разместиться до 8500 зрителей. Здесь проводились поэтические чтения и спектакли, а также бои гладиаторов.
Справа от нас некрополи.
Через пару километров останавливаемся в каменном тупике, тут два ресторана, а если повернуть на юг, начинается лестница к монастырю Ад-Дейр.
Я потерял из вида Иру и Свету с Кристиной. Самира тоже давно не видел. Поднимаюсь дальше к монастырю по ступеням, вырубленным в скале (кто-то говорит, их 850, кто-то – 900 с лишним), и вспоминаю наше с отцом восхождение на гору Моисея, как утренний холод пробирал нас тогда до костей.
Восхождение заняло около часа, очень утомительно, но величие гор укрепляет дух и придает сил, и кругом захватывающе красиво.
Достигаю монастыря, солнце клонится к закату. Набатейский храм стоит в абсолютном одиночестве в далекой северной части горы Джебель, он тоже вырезан в скале. Его высота 45, ширина – 50 метров.
Потом выхожу на смотровую площадку прямо над обрывом. Здесь было бы здорово встретить рассвет.
Невдалеке слышен перебор струн, это араб играет на уде – музыкальном инструменте с коротким грифом вроде нашей лютни.
Спускаюсь вниз, встречаю наших друзей из Турции, они очень устали.
Набатейское царство находилось на территории современных Иордании, Израиля, Сирии и Саудовской Аравии. Его столица Петра была одним из крупнейших торговых центров Средиземноморья и вплоть до 106 года, когда римский император Траян превратил Набатейское царство в провинцию Аравия, процветающим городом. В Ветхом Завете Петра упоминается как Села и Иокфеил.
Здесь проходили евреи во время Исхода. По одной из местных легенд, источник в долине Вади-Муса (долина Моисея) около Петры – именно то место, где Моисей ударил жезлом по скале и из камня потекла вода[4]. В Библии говорится, что ему не было позволено ступить на Землю обетованную, потому что, желая извести воду из скалы, он ударил по камню жезлом, а не ограничился словом, как велел Господь[5].
Но он смог увидеть свою цель с горы Нево.
Аарон, брат Моисея и пророчицы Мариам, умер на территории современной Иордании и был погребен в Петре на горе Ор, которая сейчас называется Джебель-Харун. Позже на вершине горы были построены византийская церковь и мусульманский мавзолей.
Также Петра была, возможно, последней стоянкой на пути в Вифлеем трех волхвов (это Каспар, Мельхиор, Валтасар), которые несли ладан, золото и смирну в дар младенцу Иисусу[6]. А упоминаемый в Послании к Коринфянам Арета – это набатейский царь, правивший Петрой.
Когда в Византийской империи распространилось христианство, Петра получила епископа, а одна из гробниц в V веке преобразована в церковь, в настоящее время она известна как Гробница с урной (на ее вершине была урна, похожая на ту, что обстреливали бедуины в Эль-Хазне, отсюда и название). Во время недавних раскопок были найдены еще три церкви, одна из которых имеет красочный мозаичный пол.
24 мая, 8.05
День рождения Шостаковича. Оркестр Московской филармонии выступает в Токио и других городах Японии, а также Сеуле. Дирижирует Федосеев.
Вчера Черногория стала независимой. Нет больше Югославии.
Вечером ходил в гости к испанцам Марии, Серхио, Анне и Сальвадору.
25 мая
День независимости Иордании – у нас каникулы!
Разговаривал с мамой, она говорит, что Никиту я не узнаю, когда вернусь.
Нас с испанским студентом Бесенте пригласил в гости Насыр, мой палестинский друг. В 14.30 мы встретились с Насыром в районе Джебель-Хусейн.
Познакомились с его папой – он объездил полмира, был знаком с Че Геварой и Фиделем Кастро, жил и работал в России.
Его жена Салям потрясающая женщина, выглядит очень молодо для своего возраста. Училась пять лет в Баку, мы смогли поговорить на русском.
Нам повезло присутствовать на традиционном праздничном обеде. Ох уж эти палестинские блюда – захотелось открыть арабский ресторан в Москве, так вкусно!
Потом все вместе сидели в старом городе в кафе под открытым небом, где обычно собираются поэты. На стенах – фотографии побывавших здесь знаменитостей, а еще литографии шотландского художника и путешественника по Египту и Ближнему Востоку Дэвида Робертса.
По итогам выпускных экзаменов я получил одну из высших оценок Центра языков – В+ (85 %). У меня в руках был заветный диплом о прохождении курсов арабского языка. Но главное, мой лексикон пополнился огромным количеством новых слов и выражений. Общение на арабском – круглые сутки напролет – полностью развязало мне язык.
После окончания учебы мы с Янеком и турком Юсуфом отправились в Вади-эль-Муджиб, долину реки Эль-Муджиб, которая протекает по заповедной территории и впадает в Мертвое море.
6 июня (переписано из походной тетради)
…не знаю, сколько сейчас времени, не знаю, где мы.
Солнце почти за горизонтом, вспыхивают его прощальные лучи.
Весь день мы шли по колено в воде, сейчас разбили лагерь, в нашем костре редко потрескивают дрова. Юсуф с Янеком пьют чай, а у меня выдалась минута вспомнить о родных, и я думаю о своей сестре.
Прохладный свежий ветерок, гуляющий с утра, после полудня превратился в суховей. Сегодня жара была около 38 градусов.
Река шумит…
Темнеет.
Луна освещает долину.
7 июня
Проснулись рано, отправились в путь, не позавтракав, из-за проблемы с водой, которая была на исходе. Дело в том, что перед выходом в Вади-эль-Муджиб мы на все дни похода распределили воду на троих. Но Юсуф, впервые оказавшись в полевых условиях, посчитал, что воду можно пить без ограничений, и в первый же день исчерпал наш лимит.
Мы поднимаемся в горы, разбиваем небольшой лагерь неподалеку от стоянки бедуинов и завтракаем у них, узнаем путь к источникам и продолжаем восхождение.
На пути встречаем Абдуллу, местного жителя, который выращивает здесь оливки. Наконец доходим до источника, где долгожданная тень и прохлада. Подкрепляемся дыней, подаренной бедуинами.
Дальше нас ждет крутой спуск обратно в долину реки, снова идем по колено в воде, временами купаемся в речных лагунах.
Когда солнце уже село за горизонт, доходим до ущелья.
Здесь нас встречает очень сильное течение.
Мы шли весь день, силы на исходе. И вот доходим до водопада, шум воды не дает расслышать друг друга.
Возвращаемся обратно, дорогу освещает лишь луна.
Я иду первым. Мысли о моей подруге из Турции Марве придают сил. Течение реки то и дело сбивает с ног, но мы двигаемся дальше.
Наконец доходим до места, разбиваем лагерь. Ночуем в ущелье. Янек с Юсуфом спят, я их охраняю, поддерживая костер: здесь встречаются опасные животные, а также скорпионы. Скоро сменим друг друга.
Думаю о всех своих – сейчас бы их сюда. Это Сергей Николаевич Мусатов (учитель истории, который брал нас в горы), мои братья – Вася с Димой.
Я скучал по трудностям. Сегодняшний день – то, что надо.
8 июня
Встаем до рассвета. Небо нежно-голубое.
Собираем лагерь, и сразу в путь. Немного погодя находим дорогу из ущелья. Поднимаемся – Мертвое море как на ладони, земли Палестины освещены лучами восходящего солнца. Нам нужно покинуть заповедник незамеченными, так как мы находились на его территории без разрешения.
Выходим, ловим попутную машину. По дороге домой останавливаемся и завтракаем у одного из арабов, который гостеприимно пригласил нас к себе, его зовут Мухаммад.
По пути в Амман вспоминаю этот трек марафона.
9 июня
День вступления на престол короля Абдаллы.
10 июня
Годовщина Арабского восстания.
20 июня
Утром были с Марвой в офисе Royal Jordanian, и через десять дней, даст бог, буду дома.
Позавчера оказались в древнем Ирак-аль-Амире («Пещеры принца»), провели там полдня, посетили производство тканей, на котором используют древние технологии, а также фабрику стеклянных изделий.
А вчера ездили на гору Нево, земли Палестины снова прятались в дымке… Потом посетили Мадабу, самый христианский город в Иордании, который так мне по душе.
28 июня
С Марвой ездили в центр города, где она записывалась на скрипку.
Снова думал о нашей деревне, о том, что приеду, выйду ночью из дома в поле, лягу в траву под июльским небом и буду долго смотреть на далекие звезды.
30 июня. 17.58
Взлетели!
От моей Родины, семьи и друзей меня отделяют три с половиной часа.
Домой, домой, домой!
Задержался я.
UPD: Потом два года подряд я прилетал в Иорданию, искал здесь работу, хотел остаться жить в Аммане, а также переводил книгу Джебрана Халиля Джебрана «Песок и пена от волн» с арабского на русский в надежде ее потом издать. Но повторить приключения первой поездки мне не удалось.
Во время третьего визита, в 2008 году, я прошел повторное крещение в водах реки Иордан. В один из дней мы с друзьями Фади и Абдуллой поехали на границу с Израилем.
В Эль-Махтасе собрались паломники. Здесь, согласно Евангелиям, Иисус Христос принял крещение от пророка Яхьи, которого христиане называют Иоанном Крестителем. Надеваю приобретенную специально для этого дня белую длинную рубаху и с благоговением захожу в воду. Река неглубокая. На той стороне уже другое государство – по руслу этой священной реки проходит граница. Осенив себя крестным знамением и прочитав молитву, я три раза погружаюсь в воды Иордана и затем выхожу на берег. Паломники, приезжающие сюда из разных уголков мира, повторяют эту вековую традицию. В этом, если задуматься, есть что-то мистическое. Ведь так было и при Христе.
Луай Абу аль-Сауд – доктор философии, профессор археологии в Национальном университете Ан-Наджа в Наблусе – говорит, что люди жили здесь издавна. Благодаря знакомству с ним у меня появилась возможность узнать подробнее об истории этих мест.
– Эль-Махтас существовал еще за 3500 лет до нашей эры, – сообщает он. – Можно с уверенностью утверждать, что во все прошедшие с момента его зарождения эпохи – бронзовый и железный века, эллинистический, римский и византийский периоды, различные этапы мусульманской истории, когда Эль-Махтас стал местом религиозного паломничества, – здесь кипела жизнь. Поселение было известно людям еще до Рождества Христова, мир ему.
Я спрашиваю у него, что было с рекой Иордан в древние века.
– Русло реки осталось примерно тем же, однако из-за изменений климата, которые мы все сейчас наблюдаем, она частично пересохла. Но если мы посмотрим на древнюю мозаичную карту, обнаруженную в церкви в Мадабе, то увидим на ней изображение лодок и кораблей, плывущих по Иордану.
В VI веке – а это византийская эпоха, когда Палестина принадлежала Византийской империи – Иордан был поистине полноводным. Суда ходили только в пределах реки и только на определенное расстояние. В северной части Мертвого моря, в месте впадения в него реки Иордан, сегодня известном как переход Эль-Карама, тоже существовало судоходство.
Как мне удалось выяснить, это место и его окрестности были известны до прихода Христа. В 1996–1997 годах Департамент древностей Иордании проводил здесь археологические раскопки. Исследователи обнаружили несколько рукотворных водоемов римского времени, а также доказательства того, что люди обитали в этой местности еще в бронзовом веке и в период эллинизма.
Историки исходят из того, что христиане стали совершать паломничество в Палестину после того, как император Константин I в 313 году нашей эры сделал христианство официальной религией Византийской империи. Начало паломничествам положила Елена, мать императора. В 325 году нашей эры она посетила Палестину и основала три храма в священных местах, связанных с Христом: церковь Благовещения в Назарете, ознаменовавшую Пришествие Христово, базилику Рождества Христова в Вифлееме – в честь Рождения Христа, и храм Воскресения Христова (храм Гроба Господня) в Иерусалиме – там, где земная жизнь Христа окончилась. Так что совершать паломничество и почитать эти места христиане начали еще в византийские времена.
В беседе с Луаем Абу аль-Саудом я также спрашиваю, кто из самых знаменитых людей посещал Эль-Махтас. «На мой взгляд, Иоанн Павел II, – отвечает он. – В 2000 году, во время своего знаменитого визита, он встретился здесь с местным духовенством, в частности с католиками».
Еще мне любопытно узнать о храме в районе Эль-Махтаса, возведенном Русской православной церковью.
– Здесь два основных объекта – холм пророка Илии и церковь Иоанна Предтечи, – говорит профессор. – Русскую церковь стали строить по соглашению между правительствами России и Иордании и при взаимодействии профильных комитетов. Все это результат широкого сотрудничества между частным и государственным секторами экономики в сфере развития туризма. Церковь была построена на площади десять дунамов (10 тыс. кв. м) на пожертвования российского инвестора Евгения Новицкого.
После Шестидневной войны 1967 года граница между Израилем и Иорданией стала проходить по реке. Причем оба государства заминировали берега. Лишь с подписанием мирного договора в 1994 году и последующим за ним разминированием восточного берега (западный начали полномасштабно очищать от мин только в 2018 году) ученые смогли исследовать святое место.
Исследователи до сих пор спорят, на каком именно берегу – западном или восточном – был крещен Иисус. Есть много версий и догадок, доказывающих ту или иную точку зрения.
При всех этих бесконечных спорах Эль-Махтас остается одной из главных исторических и культовых достопримечательностей в Иорданском Хашимитском Королевстве и святыней для всего христианского мира.
Глава 2
Корни
За окном небольшие, малоизвестные поселения: Кораблино, Ряжск, Александро-Невский… Никогда раньше здесь не был. Путь дальний, дорога разбита, автобус скрипит тормозами и подпрыгивает на каждой кочке. Я еду к самому югу Рязанской губернии. Пункт назначения – село Заборово, недалеко от границы с Тамбовской областью. Там родился мой дед Анатолий Васильевич Крысанов.
Собирался в эту поездку давно, и вот летом 2011-го выехал в Рязань – сначала посетил есенинские места, село Константиново, потом заглянул к своему другу и коллеге с телеканала RT Михаилу Киселеву – и, наконец, выстроив новый маршрут, направился еще южнее, к черноземным угодьям, в родовое имение белого генерала, героя Русско-турецкой войны 1877–1878 годов Михаила Дмитриевича Скобелева.
Не знаю, что меня ждет впереди, но есть зыбкая надежда увидеть дом деда.
Моя бабушка Антонина Григорьевна Шилова приезжала в Заборово много лет назад, но с тех пор как дед уехал в город, они больше в деревню не возвращались. И далеко ехать, и сложно на перекладных. Бабушка рассказывала, что там остались Филимоновы, с которыми дружила семья деда, – тетя Вера и дядя Володя, соседи. Их, конечно, я тоже хотел повидать.
В самом разгаре лето, жарко, все тонет в зелени. За окном расстилаются поля, проплывают леса, мелькают деревни. Солнце добрым кругом скользит по высокому куполу неба.
Я выехал ранним утром, рассчитывая к обеду добраться до Заборово. В этой деревне (ее старое название – село Спасское) похоронен Скобелев, у которого, по нашей семейной легенде, кто-то из родственников отца служил объездчиком верховых лошадей. Неизвестно, правда ли это, но каждый из нас чувствует причастность к великой судьбе белого генерала.
К обеду подъезжаем к месту. В сильном волнении выхожу из автобуса и оказываюсь в самой обычной русской деревне в одну улицу, по сторонам которой стоят дома с огородами. Посреди луга пасется конь на привязи. У пруда хлопочут гуси. Мимо пролетают мальчишки на велосипедах и исчезают за бугром. Бабушка рассказывала, что в нашем доме сделали сельский магазин, а где-то напротив должны жить Филимоновы. Иду дальше, на улице никого. Смотрю – вывеска «Магазин» над крыльцом кирпичного, отдельно стоящего дома с зарешеченными окнами. Дверь открыта. Вхожу внутрь через темные сени, заставленные коробками, и сразу окутывает приятная прохлада. Стены небесно-голубые, уютные. Две женщины о чем-то толкуют с продавщицей. Пахнет свежим хлебом, который, видимо, привезли утром. Гудит холодильник.
– Добрый день, – говорю.
– Добрый день, сынок, – отвечают.
Оглядываю помещение – деревянные полки с консервами, пачками крупы, рядами бутылок – и вдруг вижу русскую печь. Выкрашена в цвет стен вместе с чугунной заслонкой и дверкой. Поэтому сразу не бросилась в глаза.
– Здесь родился мой дед, – выдыхаю я, не скрывая восторга. – Это наш дом. Вот и печка осталась.
Женщины с любопытством изучают меня: надо же, бывает такое…
– А как ваша фамилия? – спрашивает продавщица.
– Кирсанов. Но у деда была – Крысанов, – отвечаю.
Печь здоровенная, с плитой. Настоящая, хоть и выглядит как декорация. Сердце наполняется радостью. Все в этом доме можно представить по рассказам бабушки. И как ветер завывал в трубе. И как были натоплены комнаты. И как его обитатели вечером собирались за столом.
Женщины еще что-то спросили – и мои искренние ответы заслужили мне право спросить у них, в свою очередь, где живут Филимоновы.
– Да почти напротив, второй дом по правой стороне.
И снова щурюсь от солнца на сонной улице. Вот и второй дом, открываю калитку, захожу во двор. Никого… Прямо со ступенек крыльца стучу в окно.
Отдергивается занавеска, и за стеклом показывается лицо хозяйки.
– Добрый день! – кричу я. – Можно вас на минуту?
Лицо снова пропадает, и вскоре на крыльцо выходит хозяйка.
– Я ищу тетю Веру Филимонову, – говорю.
– А ты кто будешь? – спрашивает она осторожно.
– Я Кирсанов Андрей, внук Анатолия Васильевича, который вон в том доме жил.
– Ишь ты. А ну-ка поподробнее! – Она недоверчиво всматривается в мое лицо.
– Вы Антонину Григорьевну помните?
– Положим, помню.
– Это моя бабушка.
– Разве?.. – с сомнением качает она головой.
– Да, – отвечаю я. – Похож?
– А чего тебе надо?
– Приехал дом увидеть, в котором дед родился.
– Чего-то не очень похож… Небось наследство ищешь, проходимец? А ну как сейчас мужиков позову, они тебе мигом покажут!
Ловлю себя на мысли, что при жизни деда я ни разу здесь не был, отец тоже ни разу, и мы эту семью ни разу не видели. Мне немного не по себе от ее угроз. Вдруг и вправду позовет местных с вилами, и поминай как звали… И я начинаю рассказывать о наших родственниках, перечисляя всех, кого только могу вспомнить.
Она внимательно слушает и, кажется, понемногу начинает мне верить.
Я в деталях привожу все семейные истории, называю имена, которые в основном слышал от бабушки, и, похоже, мне удается убедить ее, что моя миссия бескорыстна. Выражение ее лица смягчается, глаза теплеют, что ли.
– Да, я тетя Вера Филимонова, – говорит она. – И хорошо помню твою бабушку. Ну ты меня удивил… Сейчас Володю позову.
Заходит в дом и через какое-то время возвращается с дядей Володей. Мы знакомимся с ним, он достает сигарету и с удовольствием закуривает. Беседуем на крыльце. Он тоже хорошо знал деда. И мне не верится даже, что я здесь и нашел эту семью.
