Тень инженера Красина. Историческое исследование бесплатное чтение
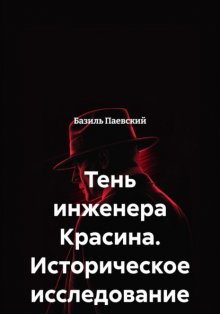
В юности автор читал всё, что не приколочено, да и приколоченное тоже. И вот попалась мне книга из серии ЖЗЛ о подвигах пламенного революционера Леонида Красина. Там глава, живописующая арест Красина в Куоккале и последующие попытки революционеров освободить его из тюрьмы. С перестрелками, взрывами, Красина застукала охрана при попытке пилить решетку в камере! И после всего этого Красина отпустили! Вышел срок содержания, а улик нет! Тогда я подумал, что полиция при царе была наводнена дебилами, ей-богу! Однако это удивление впоследствии натолкнуло на мысль изучить подробней, что там было на самом деле. Вот результат многолетнего изучения темы.
Исследование жизни и деятельности легендарного революционера и террориста, интеллигентного человека и талантливого инженера Леонида Красина, человека, окутанного тайной. Можно сказать, что книга представляет собой детективное расследование. Вполне вероятно, что Красин был не только и не столько революционером, он точно не был заурядным провокатором Охранного отделения, он был суперагентом охранки в среде революционеров и не был выявлен, и мы попытаемся это доказать. Какой-нибудь Фандорин – парень из песочницы в сравнении с Красиным. При этом Фандорин – вымышленный персонаж, а Красин настоящий.
Между прочим, «великий конспиратор» Красин не занимался такой ерундой, как многие другие и даже великий Ленин с Троцкими, мазались сажей, подвязывали повязки, типа зубы болят, переодевались, фальшивые документы имели и так далее. Нет, Красин так не делал с определенного времени, он просто под своим именем в своей неизменно элегантной, по последней моде одежде занимался такими делами, за которые по законам Империи его могли и повесить, а уж каторга просто гарантирована. То есть Красин вообще не скрывался, да и зачем, если тебя не ищут, а знают, кто ты и где живешь даже.
На самом деле, конечно, невозможно сказать на 100%, что Красин был агентом охранки, но на 99% можно. Процент этот недостающий на удачу, мало ли, иногда человек и в лотерею может выиграть большой куш. Хотя, судя по фактам биографии Красина, он выигрывал совершенно чудесным образом множество раз. А это уже улика для любого исследователя.
Автору Красин симпатичен, его нельзя отнести к предателям чего-либо. Революции, например. Самих революционеров Красин спасал лично, пусть и делал это для создания репутации в революционной среде, но разве это имеет значение для людей, которых он спас от виселицы? Он умел дружить. И борьба с революцией, как мы смеем утверждать, была не предательством, а служением империи против бесов революции, желавших уничтожить спокойный ход развития общества революционными потрясениями. Правильно или неправильно поступал Красин? Бог ему судья.
На нем много крови, ведь его бомбами убивали не только чиновников, полицейских и военных, но и просто прохожих. Мы далеки от оправдания таких поступков. У Красина вполне мог быть и другой взгляд на все это. И да, та кровь, которая была на нем, не идет ни в какое сравнение с реками крови, пролитой в революции, Гражданской войне, в ходе репрессий и т. д.
Красин не был иконой, он был вполне живым человеком и в молодости, и не только, он нравился женщинам, и они ему тоже. Заботился о будущем детей. О своих товарищах по террору, знакомых и родственниках. Это важно для понимания человеческих качеств. Впрочем, хватит тянуть кота за хвост, приступим к изложению фактов жизни нашего героя.
Глава 1. Революционер, или суперагент?
Ледокол «Святогор», построенный в Англии для России в 1916 году, в 1927 году был переименован в память о советском партийном деятеле Леониде Красине. «Красин» – ледокол спас экспедицию Умберто Нобиле, потерпевшую дерижаблекастрову в Арктике в 1928 году.
В 1950-х годах ледокол прошел модернизацию в ГДР и работал аж до 1972 года! Все-таки умеют строить англичане и немцы. После модернизации облик ледокола изменился. Сегодня ледокол «Красин» в виде музея стоит в С.Петербурге у набережной Лейтенанта Шмидта.
Леонид Борисович Красин (клички Никитич, Лошадь, Юхансон, Винтер). Родился 15 июля 1870, Курган – умер 24 ноября 1926, в Лондоне.
Участник социал-демократического движения в России с 1890, член ЦК РСДРП в 1903—1907, член ЦК ВКП(б) в 1924—1926; советский государственный и партийный деятель, член ЦИК СССР 1—3 созывов. Это официальная биография Л.Б.Красина, вошедшая в историю. Однако не всё в этой биографии вяжется одно с другим, просто никому в голову не приходило исследовать жизнь и приключения Леонида
Красина не как икону революции 1905-1907 годов, а как обычного, противоречивого и во всех отношениях талантливого человека.
«Многоликий партийный лидер и главный финансист большевистской фракции, Красин был убежденным террористом. Соблазнительная идея произвести государственный переворот с помощью динамита осенила его, когда он еще учился в Петербургском технологическом институте. «Ну а как же отрицать целесообразность террора, – спрашивал он у своих друзей социал-демократов, – если, скажем, технический прогресс в области взрывчатых веществ позволил бы осуществлять террористические акты не с громоздкими бомбами, а со снарядами величиной в грецкий орех?». Человек просчитанной цели, одаренный авантюрист, лишенный сомнений и сантиментов, он руководил всей легальной, полулегальной и нелегальной деятельностью большевиков в период великой российской смуты 1905–1907 годов. Неутомимый заговорщик и первоклассный конспиратор, пользовался непререкаемым авторитетом у сподвижников…
Высокий и стройный, элегантный и холеный, ироничный и обаятельный, он производил неизгладимое впечатление на внушаемых женщин и азартных мужчин, подавлял их своим интеллектом и волей, а подчас и принуждал выполнять его распоряжения безропотно, словно под гипнозом. Природная сметливость и неотразимая дерзость помогали ему обкладывать данью все оппозиционные слои российского общества. Актрисы и адвокаты, инженеры и врачи, чиновники и даже отдельные банкиры регулярно выплачивали его агентам денежные суммы для пополнения партийной казны…» (The New Times).
Эта характеристика Леонида Красина из газеты The New Times полностью соответствует образу, сложившемуся в истории. Недостает только нескольких штрихов…
Красин – организатор многочисленных убийств, неудавшийся фальшивомонетчик, что очень вероятно, революционер-провокатор более высокого класса, чем знаменитый руководитель Боевой организации эсеров Евно Азеф. В конце концов Азеф провалился. Точнее, его сдали, но это другая история. А ведь был еще тот герой в революционной среде. У матерых эсеровских боевиков, не раз ходивших убивать в организованных Азефом покушениях, в голове не укладывалось: как так может быть, Азеф – провокатор?! Ему даже дали уйти с суда чести, когда было уже всем понятно, что да, Азеф – провокатор. Рука не поднялась убивать вдохновителя убийств царских сатрапов!
Красина его подручные боевики социал-демократы (большевики) считали полубогом. Интересно, что и он умел дружить и никогда не оставлял свои заботы об этих «отмороженных» людях. Уже после революции 1917 года Красин многих своих бывших соратников пристроил на службу Советской власти, а некоторых взял работать к себе уже, будучи наркомом и представителем Советов в Англии и во Франции. Он и бывшего мужа своей жены взял к себе на работу. Красин умел дружить.
Интересно, что при поразительной разнице между Красиным и Азефом, у них удивительно много общего. Начиная от железного спокойствия, склонности «рисковать». Даже если тебя крышует руководство политического сыска империи, риск, конечно, есть. Тебя могут разоблачить свои же товарищи, и сама охранка может при случае разменять на решение проблемы с вышестоящим руководством. Нет агента – нет и проблемы превышения полномочий.
Азеф и Красин имели общую страсть к красивой, если не сказать роскошной жизни (включая выезд чистокровных лошадей, это Bentley, выражаясь современным языком), оба были неравнодушны к женщинам, ну и женщины к ним, с той лишь разницей, что Азеф внешне напоминал «жабу», а Красин – красавец мужчина, заканчивая тем, что Азеф начинал свою инженерную карьеру с попытки устроиться в компанию «Шуккерт», но получил предложение поработать на охранку, а Красин в «Сименс-Шуккерт» заканчивал свою неполитическую деятельность, отойдя от делания революции.
Принципиальным отличием Азефа и Красина можно считать то, что Азеф попал в агенты охранки ради денег. Красин деньги умел зарабатывать, что же его-то могло сподвигнуть к сотрудничеству, если это сотрудничество было на самом деле? Желание бороться с бесами революции? Такие люди тоже встречались в революционной среде! Боролись с революцией, так сказать, изнутри, всем сердцем ненавидели революционеров, считая, что они погубят Россию. Нужно признаться, что исторически они оказались не так уж и далеки от истины. Красин не похож на идейного борца с революцией, как собственно и на идейного революционера. Вероятно, так легла его карта жизни. Не нашел другого выхода в безвыходной ситуации?
Раз уж взялись расследовать, то эти, вероятные нюансы жизни нашего героя подробно рассмотрим позже.
И все же насколько могут быть обоснованы подозрения, что Красин был двойным агентом?
«Теоретиком в широком смысле Красин не был. Но это был очень образованный и проницательный, а, главное, очень умный человек, с широкими идейными интересами», – Лев Троцкий. Лев Давидович познакомился с Красиным в 1903 году в Киеве и увидел Леонида Борисовича таким: главное очень умным…
Прямых улик работы Л.Б.Красина на охранку, разумеется, нет и быть не может. Проколы нужно искать в мелочах, а этих мелочей много, как увидит уважаемый читатель из дальнейшего повествования. Красин – человек без тени, как сам он себя называл, а она есть, если присмотреться. Красин отбрасывает причудливую тень. Вот эту тень мы и будем рассматривать.
"Такое преступление, как тайная служба в политической полиции, вообще говоря, за исключением совершенно единичных случаев, не может быть доказано совершенно определенными уликами и столь конкретными фактами, которые мог бы проверить всякий сторонний человек", – считал В.И. Ульянов(Ленин). Тут уж с Ильичем точно не поспорить. Именно потому, что прямых улик никогда не было, все революционные партии боролись с провокаторами в своей среде, используя косвенные улики, некоторым революционерам – это стоило жизни. Подозревали очень многих, интересно, что самого Красина в провокаторстве не подозревали никогда! Само по себе – это почти чудо!
Глава 2. «Первоклассный конспиратор»
Родился Леонид Красин в семье мелкого чиновника в городе Кургане Тобольской губернии.
Его отец, Борис Иванович Красин, был вполне приличным человеком, хотя и «отъявленный коррупционер», его осудили и выслали в отдаленные места Сибири. Из Сибири в Сибирь. В конце века 19-го он служил в Московской земской управе, заведовал участком шоссейной дороги.
Борис Иванович Красин начал трудиться полицейским надзирателем и дорос по службе в полиции до заседателя в Курганском окружном полицейском управлении. Имел чин XIV класса – коллежский регистратор, чин этот дворянства не давал, а только почетное потомственное гражданство. То есть Леонид Красин был потомственным почетным гражданином Империи, таковых было 0,3% населения. Были и особые права у почетных граждан, как то свобода от телесных наказаний, от подушного оклада и от рекрутской повинности. В целом это пережитки сословного строя, ну примерно как дифференциация граждан по цвету штанов. Хотя нам, возможно, и сегодня этого не хватает. Да, но мы отвлеклись.
Дед Леонида, Иван Васильевич Красин, дослужился до титулярного советника. Это в Табели о рангах чин IX класса, соответствовал капитану пехоты (по-современному это звание майор). Чин давал право на личное дворянство и официальное обращение – «Ваше благородие».
Прадед Леонида Красина, Василий Ефимович, был городничим в Ишиме с 1812 года. То есть по отцовской линии Леонид Борисович Красин был потомственным полицейским! Но это само по себе еще ничего не значит.
Мама Леонида, Антонина Григорьевна Красина (в девичестве Кропанина), купеческая дочь и сестра городского головы Кургана Ивана Григорьевича Кропанина. Городской голова должность выборная, избирали на четыре года, утверждался кандидат самим императором – это руководитель самоуправления, и подчинялся он губернатору.
Дед Леонида по материнской линии, купец Григорий Иванович Кропанин. Прадед, Иван Ильич Кропанин, из крестьян деревни Галкиной и на заре 19 века, в 1799-1801 годах, числился купцом 3 гильдии. Капитал купца 3 гильдии по жалованной грамоте 1794 года должен был составлять не менее 2 тыс. рублей. Такие купцы производили мелочную торговлю по городу и уезду, содержали трактиры, постоялые дворы, занимались ремеслом.
В общем, по линии матери предки Леонида Красина тоже приличные люди – купцы.
И купцы, и полицейские, все эти люди, предки Леонида Красина, очень далеки от всяких революционных настроений. Это, конечно, не имеет значения, но, между прочим, не лишнее.
Для своего времени Леонид Красин был даже слишком образованным человеком. Плюс ум и разнообразные таланты, чего ж, кажется, не жить счастливо? Так он и жил счастливо, насколько это вообще возможно. Все относительно.
Окончил Леонид Тюменское Александровское реальное училище в 1887 году. Реальное училище, это, собственно, гимназия с техническим уклоном: «общее образование, приспособленное к практическим потребностям и к приобретению технических познаний». Давала право поступать в технические вузы, до 1888 года было ограничение на поступление в университеты.
Интересный факт, в здании этого училища в 1941 – 1945 годах хранили тело вождя мирового пролетариата товарища Ленина. Как тесен мир!
По свидетельству проезжавшего через Тюмень американца Джорджа Кеннана, журналиста, путешественника и чудака из американского общества «Друзей русской свободы», оборудование лабораторий и технических классов Александровского реального училища было на уровне Массачусетского технологического института, что находится в Бостоне.
Красину в 1887 году исполнилось 17 лет, и он поступил в Санкт-Петербургский технологический институт (ныне технологический университет).
Учился в 1887—1891 годах в кузнице кадров передовых технологий, технологическом институте, и учился отлично. Обязательная форма студента технологического института была Леониду к лицу.
Фуражка с козырьком, околыш фуражки из синего бархата. Мундир с девятью желтыми металлическими гладкими пуговицами. Пальто. Все: мундир, пальто, фуражка, темно-зеленого сукна. Шаровары темно-серые. Галстук черный, перчатки белые, замшевые. Башлык общего образца верблюжьего цвета.
Да любой молодой человек в таком наряде будет выглядеть завидным женихом! Красин носил такую форму четыре года.
И время было в России прелюбопытное – время реформ, призванных поставить Империю в ряд передовых государств мира. Начиная от отмены крепостного права 1861 года, реформы 70-80-х годов делали страну все более свободной, и вот, казалось, еще чуточку, и будет вам конституция, а вместе с ней что…? Мир, труд, май, жвачка? Толком никто не мог представить, что же будет-то, но понятно кивали на Европу. Вот, типа, как надо жить!
Ну и, конечно, передовой отряд прогрессивных людей, а это молодежь, прилагал все силы и способности, кто во что горазд, для приближения этой заветной мечты. То есть, если по Достоевскому, наступило время бесов.
Разумеется, юный (20 лет) красавец студент Леонид Красин не мог остаться в стороне. Кто-то умный сказал, что если ты в молодости не был революционером, то, возможно, ты просто подонок. Что-то в этом смысле.
…И случилась с Красиным роковая любовь. Юный Леонид полюбил всем сердцем барышню Любу Миловидову. Это и понятно, гормоны. С каждым случается. Любовь Васильевна не чуралась революционных кружков студенчества, тогда это было модно. Тайна собраний, прекрасные юноши, разгоряченные идеями освобождения порабощенного народа и вообще это хайп конца XIX века!
Там и сказал Леонид Красин свое запомнившееся соратникам сакраментальное утверждение: «…как же отрицать целесообразность террора, если, скажем, технический прогресс в области взрывчатых веществ позволил бы осуществлять террористические акты не с громоздкими бомбами, а со снарядами величиной с грецкий орех?» Понятно, что Люба Миловидова запала, и не без взаимности, на этого красавца-бомбиста-теоретика.
Красин участвовал в деятельности оппозиционных студенческих кружков, в том числе марксистского кружка Бруснева. Оставаться в стороне от такого любопытного, возвышенного, ну как же освободить от оков эксплуатации трудящихся, дела, и к тому же Люба там бывала, Красин не мог. Он и участвовал. В 1890 году ненадолго его выслали из Петербурга. Первый звонок всевидящего ока прозвенел. Красин не обратил внимания, в 20 лет всё кажется несерьезным, а жизнь бесконечной. На следующий год, в 1891-м, за участие в студенческой демонстрации во время похорон писателя Н. В. Шелгунова Красин был исключен из института и выслан из С.-Петербурга. Не помогали Красину и «изощренные» методы конспирации с переодеванием.
«Красин… явился на квартиру Бруснева, где-то на Бронницкой, сменил в его комнате свою студенческую одежду (смотрите выше описание формы технологического института) на высокие сапоги, косоворотку, какое-то поношенное пальто и шапку, надвинутую на самые брови, выпачкал себе руки и немного лицо сажей из печной трубы, чтобы придать себе вид мастерового, и бойко вышел по направлению к Обводному каналу…» – вспоминал один из революционеров.
Потом, уже в зрелой жизни, «великий конспиратор» Красин не занимался такой ерундой и просто под своим именем в своей неизменно элегантной, по последней моде одежде занимался тем, за что по законам Империи его могли и повесить. Теоретически.
Впрочем, подобная «конспирация» помогла Ленину, замотанному в платок, добраться-таки до Смольного, пусть и после успешно проведенного переворота в Петрограде. Тогда, правда, у Временного правительства не было охранки, чтобы вязать вождя пролетариата прямо в платках и кепках. Помогло переодевание, то ли в матроса, то ли в женское платье, и Александру Керенскому. Хотя сам Керенский отрицал всю оставшуюся жизнь переодевание в женское платье. Люди же настолько злы и завистливы, что не перестают считать это переодевание правдой. Сила пропаганды!
Красин, как и положено юному революционеру, много читал, он привел в своих воспоминаниях краткий список «обязательной» литературы. С некоторым сарказмом Красин пишет: «А если к этому еще прочесть брошюру Льва Тихомирова («Почему я перестал быть революционером», 1888 г.), то теоретическая подготовка революционера может считаться законченной, и ему можно и должно идти немедленно в практическую работу».1
Само по себе это вроде бы ни о чем не говорит, однако Красин читал Тихомирова и вспоминал это многие годы спустя. Странно, что из революционеров только он, Красин, об этой судьбоносной брошюре и вспоминал. Эта брошюра могла сыграть свою роль в формировании мировоззрения Красина.
Тихомиров Лев Александрович (1852-1923). Как и Красин, модно было, как теперь, тик-ток, в студенческие годы (1871-1873 гг.) Тихомиров – активный член кружка «чайковцев», вел пропаганду среди рабочих. Это было главное дело «чайковцев» – пропаганда. Расшатывали устои. Делались попытки наладить работу и в деревне.
В начале 1874 года полиция арестовала многих «чайковцев», в том числе князя Петра Кропоткина (будущий идеолог анархизма), но это не остановило намеченного «чайковцами» на 1874 год «хождения в народ». Народ от них шарахался, ибо злоумышляли против царя, а это скрепы, царь-то святое! Вот и сдавали крестьяне «просветителей» в полицию.
После ареста «чайковцев» (11 ноября 1873 г.) Тихомиров был привлечен вместе с другими к делу 193-х. Отделался легким наказанием (вменено предварительное заключение). Собственно, Красин тоже легко отделался по делу кружка Бруснева. Тихомиров участвует в создании партии «Земля и Воля», входит в редакцию ее органа – «Земля и Воля». Ярый сторонник политической борьбы и террористических методов Тихомиров (Красин тоже сторонник терроризма, по крайней мере, за ним сохранилась такая репутация, возможно, мнимая) участвует в Липецком съезде в 1879 г. Один из застрельщиков раскола «Земли и Воли». Член Исполкома Народной Воли, Тихомиров играет руководящую роль в этой организации. В эмиграции с 1883 года, создает при участии П.Л. Лаврова «Вестник Народной Воли»… И вскоре превращается в ярого защитника самодержавия.
Опубликовал в 1888 г. брошюру «Почему я перестал быть революционером» и подал верноподданническое прошение царю Александру III. Тихомиров возвращается в Россию и становится сотрудником, а затем редактором реакционных «Московских Ведомостей».
На страницах газеты Тихомиров усиленно крепил основные скрепы России – защищал самодержавие и православие. И получил от императора наградную золотую чернильницу.
Красина чернильницей не награждали, хотя могли бы, ну, не чернильницу, а золотой браунинг или золотой муляж бомбы, которые так удачно делали в его подпольных мастерских.
Почему Красин указал брошюру Тихомирова!? Сам осознал, что не готов народ русский к свободе, не готов! Или очередная случайность?
Странностей в биографии Красина много.
Вынужденный сделать перерыв в учебе, Красин поступил на военную службу вольноопределяющимся в военно-техническую часть в Нижнем Новгороде. По закону Красин мог пойти в вольноопределяющиеся по второму разряду, как не имевший документа о высшем образовании. Хотя он успел проучиться в технологическом институте почти четыре года! Через 4 месяца службы Красин мог стать унтер-офицером (сержант по-современному), а через 1 год и 6 месяцев службы вольноопределяющийся имел право сдать экзамен на производство в офицеры запаса, получить погоны прапорщика. Таким образом, Красин проходил обязательную с 1874 года в империи военную службу и мог вполне прилично скоротать время до восстановления в институте. В середине 19 века из вольноопределяющихся (в том числе и дворяне) вышла половина генералов и 60 процентов офицеров русской армии. Поэтому армейские офицеры считали хорошим тоном обращаться к вольноопределяющимся на «вы» и говорить им «господин», хотя устав этого не требовал2. То есть, следует полагать, что в то время Красин стремился как-то свернуть со скользкого пути юного революционера и найти свое место под солнцем империи? Красин никогда не вспоминал о каких-то конкретных революционных делах в тот период своей жизни. Упоминает об этом вскользь.
Красин в тот период, очевидно, пытался найти выход из сложного положения, в котором оказался из-за связи с революционными кружками. Стать военным и в перспективе офицером значило вернуться в общество, перестать быть изгоем.
И всё, кажется, шло на лад, когда в мае 1892 года всё за тот же грех участия в кружке Бруснева Красин был арестован и помещен в одиночную камеру Таганской тюрьмы! Таки вспомнила охранка о Красине.
Люба, Любочка Миловидова, милый Любанчик, как он назовет ее в своем последнем в жизни письме уже в 1926 году, вот то главное, что Красин потерял, хотя рухнуло всё: и надежды получить диплом инженера, и хорошие перспективы приличной работы.
Любовь Васильевна недолго горевала по поводу высылки Леонида и вышла замуж за приличного человека г-на Кудрявского. Революция революцией, а для женщины строить семью важней. Но как-то у них не заладилось, и Любовь Васильевна развелась. Не отпускала Любу мечта о Леониде Красине?
В одиночке Таганки в Москве Красин просидел почти год, до конца марта 1893 года. Как вспоминал Красин: «…после первых же дней я вполне вошел в колею тюремной жизни… Довольно скоро нашел средство восстанавливать душевное равновесие, когда оно начинало колебаться. Работа или вообще какое-нибудь сосредоточенное, упорное занятие оказались этим действительным средством. Не имея ни книг, ни бумаги, я занимался математическими задачами, используя найденный гвоздь и штукатурку стен.
Из мякиша хлеба… сделал шахматы… Посадив в свободный чайник пойманного клопа и наблюдая в течение месяцев, как он в процессе голодания превращался почти в прозрачную пластинку»3. Немного садистических наклонностей будущему вождю террористов-большевиков не помешало.
Пока Красин издевался над клопом в тюрьме, «восходила звезда» Сергея Зубатова – чиновника особых поручений в Московском охранном отделении. Неужели за год сидения Красина в тюрьме Зубатов не опробовал свои специфические таланты по склонению «оступившихся» талантливых молодых людей к сотрудничеству с властью в борьбе с «бесами» революции?
С 1889 года Зубатов был чиновником для особых поручений в Московском охранном. Возглавлял работу с секретной агентурой, как человек, «вполне знакомый с её деятельностью», сам в юности революцией увлекался. Зубатов обладал выдающимися способностями «разговорить» революционеров на откровенные показания и вербовки в секретные агенты. Он предпочитал убеждать за чашкой чая заблудшие души, особенно тех, кто казался ему интересным персонажем. Тут Красин, конечно же, для Зубатова архиинтересный, даже уникальный персонаж. Зубатов находил аргументы, доказывая, что молодой человек может гораздо больше пользы родине, если будет сотрудничать с властью. Зубатов приобрел обширную секретную агентуру в революционной среде не только в Москве, но и по всей России. Московское охранное отделение при Зубатове раскрыло и ликвидировало многие революционные организации: партия «Народного права»(Натансон, Тютчев), петербургская «Группа народовольцев», кружок Ивана Распутина, готовивший покушение на царя, и кружок Бруснева в апреле 1892 года. Именно по делу Бруснева Красин и загремел в Таганскую тюрьму! То есть Красин вполне мог пройти через заботы Зубатова4.
Самого Бруснева в апреле 1892 года арестовали жандармы Московского охранного отделения. В мае взяли и Красина. При аресте московских брусневцев у них был найден адрес Красина, так, по крайней мере, он сам пишет в воспоминаниях. Бруснев был осуждён по обвинению в распространении нелегальной литературы, отбыл 4 года в тюрьме и отправлен на 10 лет в ссылку в солнечную Якутию. Другого участника кружка Бруснева Фёдора Афанасьева (кличка «Отец») арестовали 19 сентября 1892 года. Афанасьева три года продержали в тюрьме и выслали на родину. Царские «сатрапы» были не без чувства юмора. Родился Афанасьев в деревне Язвищи.
Красин, в отличие от других брусневцев, был освобожден и отправлен в Тулу для окончания военной службы в 12-м пехотном полку! То есть, по сути, вернули Красина туда, где взяли. Видимо, не нашли, что ему можно было бы предъявить достойное наказания? Или начали с молодым, безусловно талантливым человеком свою игру в «зубатовщину»?
Кстати, поводом для ареста Бруснева и начала разгрома его организации послужила присылка из-за границы нелегальной литературы от группы «Освобождение труда»5. Об этом «транспорте» литературы стало известно полиции, начались аресты. То есть их, грубо говоря, сдали.
Отбыв воинскую повинность, Красин из Тулы поехал в Крым, где жил до декабря 1894 г. под надзором полиции.
В августе 1894 г. по случаю приезда Александра III в Ливадию на всякий случай был выслан из Крыма, работал на строительстве Харьково-Балашовской железной дороги в Воронежской губернии рабочим, затем десятником. Там в 1895-м в очередной раз Красина арестовали по тому же делу Бруснева и приговорили к ссылке в Иркутск, где тогда жили его родители, на 3 года. Не абы какое наказание, но что с них взять, царские сатрапы, они и есть царские. Это ж не сталинские чудо-богатыри в ежовых рукавицах, попади Красин в их руки, кто знает, что писала бы ныне официальная история о Красине. Но Красин не дожил, на свое счастье, до Большой чистки.
Отбывая ссылку дома у родителей, он работал на строительстве железной дороги, в том числе на инженерной должности (несмотря на отсутствие диплома).
В 1897 году Красин вернулся из ссылки в европейскую часть России и поступил в Харьковский технологический институт, который окончил в 1900 году.
Стоп, стоп, стоп! А что такое произошло в Харькове?
Глава 3 Харьков – начало карьеры
Стоп, стоп, стоп… Что произошло в 1897 году? Именно с этого года карьера Красина как студента, революционера, талантливого инженера и первоклассного конспиратора пошла на подъем. Даже это не то слово. Карьера взлетела, как еще не изобретенная тогда баллистическая ракета! Охранка, которая еще недавно гоняла несчастного студента-недоучку, вольноопределяющегося и вечно попадающегося юношу-революционера то в ссылку, то в тюрьму, то из Крыма в Сибирь, вдруг, словно по команде, надела шоры и принципиально не стала замечать бурную нелегальную деятельность сначала студента, а затем инженера Красина. Кстати сказать, точно так же охранка «не замечала» и другого инженера-электротехника, Евно Азефа, руководителя боевиков партии эсеров и по совместительству агента Охранного отделения империи. Охранное отделение (полное наименование – Отделение по охранению общественной безопасности и порядка, просторечное – «охранка»).
Историк Тимоти О`Коннор, видимо очень влюбленный в своего героя Красина, в обширной статье «Инженер революции. Леонид Борисович Красин» подробно излагает бедствия молодого человека в харьковский период жизни.
«По окончании срока ссылки в Иркутске 1 апреля 1897 г. власти не разрешили Красину вернуться в Европейскую Россию. Гласный надзор за ним полиции был попросту заменен на негласный. Приказом министра внутренних дел ему было запрещено в течение двух лет – до 1 апреля 1899 г. жить в Москве, Петербурге и Петербургской губернии, а также в университетских городах. Таким образом, Красин остался в Иркутске, продолжая работать на 16-м участке Байкальской железной дороги. Леонид Борисович надеялся вернуться в Петербургский технологический институт и продолжить свое образование. 21 июня 1897 г. начальник 16-го участка написал инженеру-путейцу Красину рекомендательное письмо для института, в котором высоко оценил его как специалиста. Одновременно брат Герман и мать, жившие в Москве, подали прошения в высшие инстанции, хлопоча о возвращении Леонида Борисовича в Европейскую Россию для завершения учебы, желательно в Петербурге. 18 августа министр внутренних дел поставил Антонину Григорьевну в известность, что если Рижский политехнический или Харьковский технологический институты согласятся принять ее сына, то он может поселиться в этих городах. В свою очередь, 4 сентября Красин тоже получил извещение: въезд в Москву, Петербург и Петербургскую губернию был для него по-прежнему закрыт.
Осенью 1897 г. Харьковский технологический институт принял Красина на третий курс химического факультета. Леонид приехал в Харьков в январе 1898 г. к началу второго семестра… Ректор института В.Л. Кирпичев предупредил Красина, что ведение пропаганды и участие в беспорядках, демонстрациях и запрещенных обществах повлечет за собой немедленное отчисление. Проигнорировав это предостережение, Красин присоединился к студенческому движению».
Именно в это время вдруг начинает пробиваться необычайный талант Красина – «конспиратора». То есть Красин по-прежнему фигурировал в отчетах жандармов как неисправимый юноша – участник студенческих беспорядков, однако его перестали терроризировать за эти шалости! Почему?
Есть и «объяснение» причины, как пишет сам Красин: «Учение мое в Харьковском институте было довольно оригинальным. В действительности я почти все время проводил на различных железнодорожных работах; …являясь в Харьков только на короткое время, чтобы сдать очередные зачеты и экзамены. …студенческие забастовки и другие волнения повторялись по нескольку раз в год. Попадая в такие периоды в Харьков, я, конечно, не отставал от общего движения, вследствие чего и был увольняем из института за это время не то два, не то три раза.
Логическим последствием этих увольнений должно было бы быть полицейское запрещение проживания в Харькове, но в действительности этого не было, ибо, как оказалось впоследствии, новый директор института, …профессор Д.С. Зернов, при каждом таком моем «увольнении» из института запирал мои бумаги в своем письменном столе, ничего не сообщая полиции, а при ближайшей амнистии я опять превращался в студента…»6.
Ну да, ну да. Красин вообще, можно сказать, презирал умственные способности многих и многих людей, в особенности революционеров, да и было за что. Это ведь он именно своим бывшим соратникам писал.
С точки зрения полиции Красин был не просто недорослем-студентом, поддавшимся на моду и участвующим в демонстрациях, он был поднадзорным, отсидевшим в тюрьме и бывшим в ссылке по делу Бруснева, то есть рецидивистом. И ничего других пацанов-студентов исключали, но не 28-29-летнего матерого революционера Красина.
Другие студенты были, вероятно, менее талантливы, и Зернов не симпатизировал их политической деятельности? Поэтому их было не жаль выгнать из института на улицу под надзор полиции?
Конечно, выглядит всё это весьма «правдоподобно», как если бы эту версию придумали харьковские жандармы. Такая гениальная конспирация вполне могла сработать, если предположить, что харьковские жандармы были сплошь сказочными идиотами.
А вот и нет. В это время розыском Харьковского Губернского Жандармского Управления заведовал Александр Герасимов. Этот уж точно был едва ли не гениальным ловцом революционеров.
В судьбе Леонида Красина происходило столько чудесных совпадений и необъяснимого везения, что приходится поневоле задуматься, что если чудеса случаются так часто, то они могут быть и организованы.
Герасимов А. В. (1861–1944) – с 1889 г. в отдельном корпусе жандармов – служба адъютантом Самарского, затем, с 1891 г., Харьковского ГЖУ; с 1894 г. помощник начальника Харьковского ЖУ; в 1905–1909 гг. начальник Петербургского охранного отделения. Благодаря сотрудничеству с провокатором и эсером Азефом предупредил террористические акты против Николая II, вел. кн. Николая Николаевича, министра И. Г. Щегловитова, премьер-министра П. А. Столыпина. 25 октября 1909 г. снят с должности, произведен в генерал-майоры и назначен генералом для поручений при министре внутренних дел по должности шефа жандармов, получал отдельные ревизионные поручения. В начале 1914 г. вышел в отставку с производством в генерал-лейтенанты. То есть Герасимов был вхож в высокие кабинеты и в 1912 году, когда Красин вернулся в Россию. Это важный момент для нашего исследования.
Во время Февральской революции Герасимова арестовали и посадили в Петропавловскую крепость. Его допрашивала Чрезвычайная следственная комиссия Временного правительства. У следователя ЧСК полковника С. А. Коренева, сталкивавшегося при работе Комиссии с деятелями Департамента полиции, сложилось такое впечатление о Герасимове: «Последний – бывший начальник Петроградской охранки – травленный волк, ко всякому предлагавшемуся ему вопросу подходит осторожно, обнюхивает его со всех сторон и отвечает на всё так, чтобы за него-то лично нельзя было зацепиться. Служил, ловил, сажал – вот и всё, а кого, как, за что, имел ли на это право – это всё погребено в прошлом, нет следов и ответственности…» Очень понятна позиция оставшегося не у дел: лишнее слово может стоить жизни, а молчание, напротив, повышает шансы. Мало того, приход к власти большевиков позволил Герасимову уехать в мае 1918 года сначала на Украину, а затем в Германию. Почему его отпустили? Уважали и, возможно, боялись, что, случись с ним что-либо, где-нибудь в Швейцарии вдруг всплывут документы, из которых станет понятно, что многие вожди партии не были по совместительству агентами охранки?
Герасимов в своих воспоминаниях «На лезвии с террористами. (Записки начальника Петербургского охранного отделения, 1905–1917 гг.)» писал: «С особо важными агентами, которые имели то или иное отношение к центральным организациям, сношения поддерживал я сам непосредственно. Таких агентов было 5—7, причем для свиданий с каждым из них у меня была особая квартира… Считаю уместным здесь отметить, что не все секретные сотрудники центрального значения, которые работали под моим руководством в 1906— 1909 годах, были позднее (после революции 1917 года) раскрыты. Дело в том, что в дни революции архив Петербургского охранного отделения почти целиком погиб, а в Департаменте полиции, по сведениям которого были опубликованы имена большинства петербургских агентов, о них ничего не было известно». И еще: «По системе Зубатова, например, задача полиции сводилась к тому, чтобы установить личный состав революционной организации и затем ликвидировать ее. Моя задача заключалась в том, чтобы в известных случаях оберечь от арестов и сохранить те центры революционных партий, в которых имелись верные и надежные агенты»7.
Во времена учебы будущего великого конспиратора Красина в Харьковском технологическом институте будущий генерал Герасимов, фанат секретной работы с секретными сотрудниками, СЛУЖИЛ в Харьковском жандармском управлении.
Мог ли студент-революционер Красин уже тогда попасть под крыло охранника Герасимова? И не по этой ли причине во всех делах Красина в Харькове и позднее в Баку всё шло уж слишком гладко? Никаких проблем с полицией, шел, словно по зеленому коридору, прямо к вершине РСДРП.
И отход Красина от революционной деятельности чудесно совпадает с уходом Герасимова.
Кроме того, Герасимов в феврале 1905 года получил назначение на должность начальника Петербургского охранного отделения. Вскоре он выяснил, что работа с секретными сотрудниками поставлена из рук вон плохо, и, как Герасимов вскользь указывает в мемуарах, вызвал в Петербург несколько своих старых харьковских агентов. Между тем Красин в сентябре 1905 года переезжает в Петербург на новое место работы! Опять совпадение?
Герасимов, разумеется, не пишет, что эти агенты занимали высокое положение в партиях революционеров, как и фамилию Красина он упоминает лишь в связи с загадочным самоубийством Саввы Морозова: «Есть веские подозрения, что его "самоубийство" под Ниццей в мае 1905 инсценировано большевиками (Красин) – это принесло им оплату крупного страхового полиса».
Случайно ли Герасимов упомянул Красина в мемуарах? Очередное мероприятие прикрытия агента, занимавшего высокий пост у большевиков, и одновременно напоминание о себе как лице, излишне осведомленном и потому неприкосновенном?
Герасимов в своих мемуарах ничего не написал, что могло бы кому-либо навредить. Ждать от Герасимова раскрытия фамилий провокаторов, пардон, спецагентов, даже и после революции бессмысленно. У работников спецслужб во все времена была своя гордость, да и просто грохнуть могут. После революции, когда Герасимов жил в Германии, его тайны были его гарантией от возможных поползновений захвативших в России власть большевиков.
Революционные партии усиленно боролись с предателями в своей среде. Например, незавидная судьба боевика-эсера Николая Татарова, о нем пишет Герасимов в своих мемуарах.
«Анонимным письмом, вышедшим несомненно из полицейских кругов, Николай Татаров был разоблачен как шпион. Комиссия, назначенная партией социалистов-революционеров, подвергла его перекрестному допросу. Татаров запутался в противоречиях, был пойман на лжи, однако не сознался. Он знал уже. что наступит неизбежный, немедленный конец. В страхе неминуемой смерти он бежал в Варшаву и скрылся в квартире своего отца.4 апреля 1906 года позвонили в дверь дома протоиерея Татарова. Старик открывает двери. Снаружи стоит какой-то человек и хочет говорить с Николаем Татаровым. – Моего сына здесь нет, – отвечает старик, – и с ним вообще говорить невозможно. Тут выходит мать, а за нею и рослый, высокий сын. Без слов вынимает незнакомец револьвер и стреляет. Руку его отталкивают в сторону, все трое обрушиваются на него – а он беспрерывно стреляет. Отец виснет на его правой руке, мать – на левой. Николай Татаров падает. Незнакомец подходит к умирающему, вкладывает ему в карман записку с подписью „Б.О.П.С.Р." (боевая организация партии социалистов-революционеров) и удаляется. Никто его не задерживает. Так происходит убийство Татарова в передней родительского дома на глазах его родителей. Беспорядочной стрельбой убийцы была ранена и мать двумя пулями»8.
Мало ли КТО мог работать на охранку, зачем же беспокоить старика-генерала, который служил, ловил и сажал революционеров не по злобе, просто работа такая.
Случай, когда бывший директор Департамента полиции Лопухин, по сути, сдал Азефа эсэрам, совершенно уникальный. Версия о том, что Лопухин сделал это из-за крушения своей карьеры по вине Азефа, совершившего, организовавшего ряд политических убийств, по-видимому, верна с одной лишь оговоркой: Бурцев, скорее всего, «разговорил» Лопухина, намекнув ему, что его дочь, находившаяся за границей, может легко оказаться в сфере досягаемости боевиков-террористов.
«Двоюродный брат его Алексей Сергеевич Лопухин (умер 1966) оставил записки, где ссылается на рассказ А. А. после революции в Москве: о том, как и почему он выдал Азефа, Находясь в Париже, получил известие из Лондона, что его дочь похищена (при выходе из театра оттеснена в толпе от гувернантки и исчезла) А.А. поспешил в Лондон, В его поездное купе вошел Бурцев и предложил в обмен на освобождение дочери назвать имя полицейского агента в верхах эсеровской партии. Лопухин назвал Азефа – и на следующий день освобожденная дочь его вернулась к нему в лондонскую гостиницу»9.
Видимо, изложить эту причину в общественной обстановке предреволюционной России было для Лопухина невозможно. На войне как на войне, и дети не являются неприкосновенными. Для революционеров, по крайней мере.
Доказывать безапелляционно, был ли Леонид Красин суперагентом охранки, не входит в наши планы, да это и невозможно. Однако тех косвенных улик, которые мы последовательно излагаем, было бы вполне достаточно для тогдашних революционеров, чтобы блестящая карьера Красина прекратилась вместе с жизнью. Революционные партии серьезно занимались выявлением провокаторов в своей среде, иногда устраняя людей по малейшему подозрению в сотрудничестве с охранкой. Минимум дважды в мемуарах встречается упоминание, что сам Красин отдавал приказ убрать заподозренных в провокаторстве мелких революционных персонажей. Это, должно быть, повышало его авторитет в партии.
«Сношения с этими агентами поддерживал я лично, никто другой их не знал. Когда же я уходил с поста начальника охранного отделения, я предложил наиболее ответственным из своих агентов решить, хотят ли они быть переданными моему преемнику или предпочитают службу оставить совсем. Целый ряд этих агентов прекратили свою полицейскую работу одновременно с моим уходом, и их имена до сих пор не раскрыты», – писал Герасимов.
Герасимов ушел в 1909 году, тогда же и Красин начал отход от революции. Совпадения? Возможно. Мог ли Красин поддаться на предложение охранки и стать секретным агентом? С одной стороны, Герасимов и не он один в охранке обладали талантами уговаривать идущих неверной дорогой «Невтонов». С другой стороны, Михаил Бруснев, по делу которого так долго мытарили Красина, а потом вдруг оставили в покое, получил в апреле 1892 года шесть лет тюрьмы и десять лет ссылки в Верхоянск. Чем не аргумент для амбициозного двадцатипяти- или двадцатисемилетнего человека: провести лучшие годы в тюрьме и ссылке или обеспечить карьеру в обмен на благородное дело спасения Родины от поругания революционерами? Деньги Красина вряд ли интересовали, он их умел зарабатывать.
Глава 4. «Великие реформы» и «Великий террор»
Немного панорамы истории той эпохи. Без этого не будет понятен драматизм тех лет, вызвавший жесткое противостояние части общества, считавшей себя прогрессивной, и власти. Кто из них был более матери истории ценен, пусть читатель сам решает.
Красин родился в самом конце «Великих реформ», затеянных императором Александром II по итогам неудачной Крымской войны 1853–1856 гг. Собственно, сама война не была проиграна с треском. После героической осады отступили из половины Севастополя, да сами же утопили деревянный парусный Черноморский флот. Флот этот к тому времени уже отжил. Нужны были новые паровые суда, уже появлялись и первые опыты с бронированными кораблями. То есть деревянный флот как раз и не жаль. Потеряли Евпаторию в Крыму и не смогли отбить. Союзники захватили остров Уруп в Курильской гряде. Петропавловск-Камчатский пришлось эвакуировать, как и Сахалин. Русская Аляска в лице Русско-американской компании заявила о нейтралитете в этой войне, и этот нейтралитет Англией был признан! Англо-французский десант занял Аландские острова на Балтике. Обстреляли Соловецкий монастырь. Кронштадт слишком силен показался. Вот, собственно, и все успехи союзников. За Кавказом отогнали турецкие войска далеко в Турцию и заняли Карс. Не так уж всё и плохо. Стало вдруг понятно, что весь цивилизованный мир против России. Открытие достойное, как бывает у нас во все времена. Австрия и Пруссия недружелюбно повели себя. Пришлось держать там, на западной границе, огромные силы армии. Самое главное, выяснилось в очередной раз, что Россия технологически отстала и не может противостоять современным армиям. А это значит, что…
Это значит реформы – этот ужас, периодически прилетающий в Россию на крыльях очередной неудачной войны.
Реформы стали проводить, и не простые, а «великие реформы». В 1861 году отменили крепостное право, 1863 – финансовые реформы и реформы высшего образования, на следующий год – земская реформа и судебная, 1865 – реформа цензуры, 1870, в год рождения Леонида Красина, реформа городского самоуправления. 1871 – реформа среднего образования. 1874 – военная реформа.
В целом дорогу развивавшемуся капитализму основательно расчистили, и результаты не заставили себя ждать, процесс роста экономики пошел веселей и веселей значительно. Разумеется, инерция менталитета, пережитки феодализма… Ну, сложно выпускать из клеток зоопарка зверушек и ждать, что они принесут цивилизацию в лес.
Едва-едва не дошло до принятия Конституции! Это слово, Конституция, вводило передовую общественность в экстаз. Сродни эротическим грезам или священному трепету неофитов перед лицом величайшей святыни. Словно сама по себе, даже красивая и исполосованная умными текстами бумажка, может кардинально изменить тысячелетние неписаные правила общежития. Нетерпение – отличительная черта русского менталитета, широта души, фатализм и самопожертвование ради великой цели. Эта гремучая смесь выплеснулась не только в бурное развитие экономики, но и в террор против самодержавия. Террор против «тормоза» развития, как это видели тогдашние невтоны. Убрать царя, принять Конституцию и заживем… Не хуже, чем в какой-то там Франции! Примитивные методы охраны, по существу, отсутствие таковой, закончились неизбежным – царь, помазанник божий, убит!
Ага, ага. Не понимали, что самодержавие – это стержень русского общества, и, вытянув стержень, кроме крушения всего общества ничего не добиться. Так и случилось в 1917 году. Нужен стержень. Его дали большевики со своей склонностью к терроризму против народа, переросшему значительно позднее в «руководящую и направляющую силу общества» – партию коммунистов. Так и записали в Конституцию. А потом в 90-е годы 20 века выдернули стержень в виде партии из общества, и оно рухнуло, поболело, мучительно и беспорядочно, и новый стержень не замедлил встроиться в общество в виде вертикали власти… Не в царях, похоже, дело. Да, но вернемся к временам Красина.
В императора, освободителя крестьян и великого реформатора, собиравшегося подписать Конституцию, Александра II, 4 апреля 1866 года стрелял мелкопоместный дворянин, первый в России революционер-террорист Дмитрий Каракозов. Промазал! Его руку в последний момент подтолкнул шапочный мастер, 28-летний крестьянин Осип Комиссаров, возведенный за этот подвиг в дворянство. Осип умер в подаренном ему имении на Полтавщине через тринадцать лет после своего подвига. Белая горячка от алкоголизма свела его в могилу. Каракозова повесили. А императора Александра II после семи неудачных покушений убили народовольцы в 1881 году.
С выстрела Каракозова началась великая эпоха террора против власти 1870–1880-х годов.
Первые «бесы» в 1869 году, их, собственно, и имел в виду Достоевский, организовали общество «Народная расправа» во главе с неистовым парнем Нечаевым. Этих первых хватило на убийство своего же соратника, студента Иванова. Всю шайку раскрыла полиция. Но это было только начало.
В 1878 году Вера Засулич хладнокровно застрелила градоначальника Петербурга генерала Федора Федоровича Трепова за то, что Трепов приказал выпороть не пожелавшего снимать головной убор арестанта! Два выстрела в живот из английского револьвера унесли жизнь Трепова в мир иной.
«Она была по внешности чистокровная нигилистка, грязная, нечесаная, ходила вечно оборванкой, в истерзанных башмаках, а то и вовсе босиком. Но душа у неё была золотая, чистая и светлая, на редкость искренняя», – характеризовал Веру Засулич переметнувшийся в стан контрреволюции бывший народоволец Лев Тихомиров. Тот самый, на брошюру которого ссылался Красин как на обязательную для прочтения будущими революционерами.
Суд присяжных оправдал Засулич! Вот она сила «Великих реформ» и русской жестокости, приказал выпороть так за это и убить можно!
Скандал вышел знатный. Пока решали на высшем уровне, Засулич ушла в подполье и уехала в Швейцарию. После этого выстрела Засулич желающих свести «революционные» счеты с властями сильно прибавилось. Убит в Киеве шеф жандармов Одессы барон Гейкинг.
Чудом остался жив товарищ прокурора Котляревский.
«Котляревский с братом и женою возвращались из театра и подойдя к подъезду дома, находящегося в центре г. Киева, были встречены тремя неизвестными лицами, которые в упор стреляли около подъезда из револьверов, но благодаря случайности, неумению владеть револьверами и темноте – никого не убили и не ранили. … в центре города Киева, был ранен в бок кинжалом адъютант киевского губернского жандармского управления штабс-капитан барон Гейкинг, который через несколько дней от полученной раны умер в страшных мучениях. Убийца, несмотря на то, что Гейкинг шел вместе с чиновником Вощининым, подкрался сзади и воткнул кинжал в бок. Убийца был схвачен солдатским сыном Федоровым, но вырвавшись от него, выстрелил в упор, причем промахнулся; преследовавший убийцу полицейский был ранен сначала в руку, а затем в ногу и вследствие полученной раны свалился и не мог преследовать далее; затем убийца, бежавший по Внуковскому бульвару, был схвачен рабочим Виленским, которого убил наповал выстрелом в грудь и затем скрылся… Убийцею барона Гейкинга был студент медико-хирургической академии, носивший прозвище и именовавшийся Голопупенко. Его настоящая фамилия не обнаружена и он не разыскан» – писал в мемуарах Генерал В. Д. Новицкий бывший начальник Киевского губернского жандармского управления.
Убиты агент полиции Никонов, заколот в центре Петербурга шеф жандармов генерал-адъютант Н. В. Мезенцев, убит харьковский губернатор генерал князь Д. Н. Кропоткин, не помогло, что он был двоюродным братом анархиста-революционера князя Петра Кропоткина.
В 1879 году образовалась из осколков общества «Земля и воля» «Народная воля», эти уже хотели убить царя и организовали восемь покушений!
Халтурин взорвал бомбу в Зимнем дворце, погибли и были ранены несколько десятков человек, царь случайно остался невредим. А вообще-то должен был погибнуть вместе со всей семьей.
1 марта Игнатий Гриневицкий бросил бомбу под ноги царю и сам погиб, как умерший от ран император Александр II.
Наследник, ставший вдруг императором, Александр III, несколько притормозил с углублением реформ и не подписал уже готовую Конституцию. Царь был и на вид, и по характеру глыба, при нем не забалуешь, но терроризм усиливался, и соответственно усиливались и оттачивались методы борьбы с ним.
«Великие реформы» начали приносить свои плоды в первую очередь в экономической сфере. Началась техническая революция, бурно росла металлургия, невиданными темпами увеличивались выплавка стали и чугуна, были упорядочены финансы – деньги, кровь экономики, стимулировали рост.
Около двух тысяч революционеров «Народной воли» были привлечены к судам за 1879–1883 годы. Уже тогда значительную роль в успехе борьбы с «бесами» революции сыграли агенты полиции в среде революционеров. Так называемые провокаторы.
Последним всплеском террора было неудачное покушение на императора Александра III, организованное «террористической фракцией партии «Народная воля» 1 марта 1887 года. По этому делу был повешен брат Ленина Александр Ильич Ульянов.
Это по поводу смерти которого Ленин сказал якобы, что мы пойдем другим путем. Другим-то другим, но не менее кровавым, да что там не менее, более и более кровавым!
Александр III умер в 1894 году, ему на смену пришел наследник император Николай II, человек слабый. Россия была обречена, только это не сразу стало понятно. Причем последний толчок в бездну в феврале 1917 года сделали не революционеры, а находившиеся у власти элиты российского общества. Царь им, понимаете ли, мешал окончательно прибрать власть к рукам. Вот они-то и подтолкнули огромную страну и… уже удержать не смогли. И она покатилась и катится с большим или меньшим ускорением до сего дня.
Вернемся к делам прошлым, к началам этих процессов.
Следующий всплеск терроризма пришелся на революцию 1905–1907 годов и до 1911 года.
Так что не случайно полиция – охранное отделение – использовало неординарные методы борьбы с революционным движением, включая широко практиковавшееся внедрение агентов во все революционные партии. Империю нужно было спасать.
Красин, судя по его жизни, был лишь одним из многих и многих защитников устоев России, хотя его жизнь на первый взгляд и похожа на жизнь расшатывателя этих устоев, но это лишь внешняя и неправильная оценка.
Да. Вернемся к террористам и полицейским. В 19 веке историки насчитали примерно 40 террористических актов, в которых погибло примерно 100 человек. 20 век начался с резкого усиления террора, с 1901 по 1911 годы в сотнях терактов были убиты и ранены около 17 тысяч человек. Так что у полиции был серьезный стимул. Бороться с «бесами» допускалось и «бесовскими» методами.
А что им было делать, когда в империи такое творилось? С октября 1905 года убито и ранено 3611 государственных чиновников. К концу 1907 дошло до 4500 человек чиновников разного ранга и 2180 убитых и 2530 раненых простых граждан, оказавшихся не в том месте и не в то время. Это только в 1905—1907.
С января 1908 года по май 1910 года (это уже после революции) произошло еще 19957 терактов и экспроприаций, убито 732 чиновника и 3051 частное лицо, ранены 1022 чиновника и 2829 частных лиц.
Грабежи банков, касс, учреждений, где имелись какие-то запасы дензнаков, стали нарастать как цунами.
Революция пыталась грабить «награбленное» и питать этим сама себя.
Экспроприации – эксы – стали приметой Первой русской революции. В октябре 1906 года в России зафиксировано 362 экса! За полтора года 1905 – 1906 годы украдено (экспроприировано) более 1 миллиона рублей. Эксами занимались представители всех революционных партий, включая большевиков. Именно Красин, возглавляя «Боевую техническую группу», отвечал за эксы в партии, и Ленин его поддерживал.
Так разве мог быть вождь большевистских боевиков-террористов, большевик Красин, еще и агентом охранки? Да почему же нет? Точно такую же работу проводил в партии социалистов-революционеров (эсеров) руководитель Боевой организации Евно Азеф, и это ему не мешало быть агентом охранного отделения. То, что Азеф был агентом, это истории известно доподлинно. И кстати сказать, провокаторов или агентов охранки в революционных партиях были тысячи! Буквально. Без этого самодержавие еще в 1905 году или даже раньше могло исчезнуть.
Каким был выбор Леонида Красина? И был ли у него этот выбор? По молодости лет он попал в «дурную» компанию – кружок Бруснева, и, что называется, закрутила его жизнь спираль за спиралью. Попытки выбраться из этого вихря вполне могли привести Красина в агенты, так как другого выхода не находилось. Так он стал человеком без тени?
Брусневцы ведь не кружок макраме вели, они пропагандировали марксизм среди рабочих, то есть призывали к насильственному, путем революции, свержению существующего государственного порядка. Так что по любым законам любого государства им цветы были не положены, разве что на могилу. Поэтому так долго полиция мытарила юного Красина по делу Бруснева. И отстала от него, то есть официально перестала замечать, только после… чего? После его встречи с человеком, лишившим его, Красина, тени? Кто мог быть этим человеком? С одинаковым успехом кто-то из троих или, что более вероятно, все трое вместе: Зубатов – гений и основоположник методов внедрения и вербовки агентов, Лопухин – директор департамента полиции, главный начальник охранки империи и человек, поддерживавший Зубатова и Герасимова, да и Герасимов – начальник охранки в С. Петербурге, а до этого жандармский начальник в Харькове, как раз там, в Харькове, Красина перестали шпынять полицейские за его революционные выходки: старые брусневские и новые, уже чисто красинские. Вот эти трое, Лопухин, Зубатов и Герасимов, предположительно, и были «крестными отцами» Красина-суперагента, если он таковым являлся. У этих людей было последовательно достаточно власти, чтобы решать любые проблемы, возникающие на революционном пути Красина.
Глава 5. Революционеры, агенты. Все смешалось
Так или иначе, жизнь Красина после поступления в Харьковский институт начала налаживаться. «В институте Леонид проводил не так уж много времени. Он часто и порой надолго уезжал из Харькова, работая инженером-топографом. По сути, он возвращался в Харьков только для сдачи экзаменов», – пишет О’Коннор. То есть физически он не мог быть слишком активным студентом-революционером в силу своего постоянного отсутствия в Харькове. О его революционной или агитационной деятельности на работе, где Красин – инженер-топограф – проводил всё время, ничего не известно.
Тем временем Московский генерал-губернатор удовлетворил просьбу Антонины Григорьевны, мамы нашего героя, и разрешил Красину навестить родителей, брата и сестру на Рождество (с 29 декабря 1897 г. по 7 января 1898 г.) и на Пасху (с 4 по 12 апреля 1898 г.). Во время этих визитов тайная полиция держала Леонида Борисовича под плотным наблюдением. Однако провести лето 1898 г. в Москве ему не разрешили, при этом власти сослались на донесения харьковской полиции, свидетельствовавшие о его политической деятельности.10
Это как-то слабо вяжется с благотворительностью ректора института, который так деятельно спасал Красина от отчисления, невзирая на якобы имевшие место настояния полиции таки выпнуть Красина из института. Однако вся эта казуистика вполне укладывается в программу продвижения талантливого молодого человека по легальной линии получения образования и по нелегальной работе в среде революционеров. Примечательно, что если изучить продвижение провокатора Азефа в революционной среде к вершинам руководства партии социалистов-революционеров(эсеров), то, полагаю, пытливый ум заметит некоторое сходство с «мытарствами» Красина. Это мы посмотрим чуть ниже.
Терпение, дорогой читатель. Аффтор не Шерлок Холмс, я, пардон, лет тридцать собирал по крупицам это расследование. От догадки до убежденности. Улики, улики – вещь упрямая, и даже косвенные в таком количестве, как в случае с Красиным, – это приговор революционного трибунала. Слава богу, сегодня такого нет. Нас же интересует не приговор, а правда. Насколько это вообще возможно. Честно признаться, столько лет работая над этой темой, могу сказать, что Красин, невзирая на всю его противоречивость, отторжения не вызывает. Да, но вернемся к изложению.
Миф о неуловимости Красина пошел, по-видимому, из Харькова. Если человека перестали ловить, он становится неуловимым? А то, что власти официально сослались на донесения харьковской полиции, – полиция для прикрытия агента еще и не такое проделывала. Нужен пламенный революционер? Будет.
Красин окончил институт летом 1900 г., «…но в наказание за участие в студенческих волнениях (особенно в демонстрации 1899 г.) диплом ему выдали лишь в 1901 г.».
Боже! Какая жестокость! Но, слава богу, не на Колыму сослали золото добывать.
Пакость с дипломом – это тоже весьма похоже на сообщение охранки революционному сообществу, мол, этот товарищ ваш, и мы ему строим козни хоть мелкие, но часто, он же такой конспиратор, что больше его и не за что прищучить.
Красин был исключительно талантливым организатором-инженером. «Во все стороны умен», – так, по рассказу Горького, охарактеризовал Красина Савва Морозов, убитый не без участия в этом деле Красина11. Вот именно, что умен во все стороны! И мы до сих пор только догадываемся насколько.
Для дела прикрытия своих агентов охранка была способна на серьезные операции. Постоянные и чудесные спасения Красина от ареста и даже из-под ареста выглядят словно организованные охранкой.
Или как невероятное везение. Невероятное! Когда такое происходит неоднократно, то это все равно, что предполагать, что Красин пять раз в своей жизни покупал билет лотереи и все время срывал джекпот.
Приведем пример операции прикрытия охранки. Об этом написал в своих мемуарах Герасимов(предположительно, куратор Красина).
Некий революционер-террорист из эсеров-максималистов Соломон Рысс был арестован в Киеве при попытке ограбления артельщика. Ему светила смертная казнь, и он предложил свои услуги полиции в качестве секретного агента. Он много чего рассказал, но не дал ни одного адреса, мол, ему надо на волю, и там он адреса установит. Рыссу был организован «побег» из заключения. Охранявшие его жандарм и полицейский, использованные втемную, были преданы суду и приговорены к каторге! То есть революционеры должны были поверить в счастливый побег Рысса, а для этого отправили на каторгу двоих ни в чем неповинных служителей закона!
«Охранка» для конспирации своих агентов использовала не шуточные меры!
Рысс пытался обмануть «охранку» и скрылся, продолжая свою террористическую деятельность. Однако был арестован при подготовке очередного экса. Соломон Рысс, все-таки был повешен, по приговору военно-полевого суда.12
Агенты охранки – едва ли не единственное действенное противоядие против революции.
Жандармский начальник Спиридович привел несколько примеров успешной работы агентов по выявлению опасных террористов, то есть революционеров, как принято до сих пор считать в обществе.
В 1895 году охранка арестовала в Москве кружок студента Распутина. Эти ребята готовили покушение на царя, писать конспекты в вузе – это, конечно, куда как скучней. Была разгромлена партия «Народное право», в различных городах Империи прошли аресты членов этой партии и руководителей. А в Смоленске была выявлена и захвачена партийная типография. В Петербурге в 1896 году разыскана и захвачена подпольная типография «Группы народовольцев».
«Все это, а также и другие успехи по преследованию революционеров были достигнуты отделением с помощью внутренней агентуры, т.-е. через тех членов революционных организаций, которые по тем или иным побуждениям давали политической полиции сведения о деятельности своих организаций и их отдельных членов».13
Любопытное мнение оставил Спиридович в своих мемуарах о морально-этической стороне агентуры-провокаторов.
Это дань предвзятости общественного мнения той эпохи. Хотя разве только той?
«Они (агенты) выдавали своих близких жандармерии, служа для нее шпионами, и назывались у политической полиции «сотрудниками», у своих же шли под именем «провокаторов»14.
Спиридович подчеркивал, что агенты – сотрудники не считались состоящими на службе в охранном отделении, не имели чинов, не значились в ведомостях, поступавших в Государственный контроль. То есть оплата труда агентов была выведена из официального контроля в целях конспирации. Спиридович считал агентов только помощниками правительству в борьбе с революционерами и выводил отсюда и название – сотрудники, от сотрудничать. И просто разразился криком души в адрес несправедливой оценки обществом работы полиции и их сотрудничества с агентами внутри революционных партий: «Не жандармерия делала Азефов и Малиновских, имя же им легион, вводя их как своих агентов в революционную среду; нет, жандармерия выбирала лишь их из революционной среды. Их создавала сама революционная среда. Прежде всего они были членами своих революционных организаций, а уже затем шли шпионить про своих друзей и близких органам политической полиции»15.
При этом Спиридович, как и многие другие деятели охранного отделения, считал, что именно умение, можно сказать талант привлекать из рядов революционеров и общественных кругов агентов позволил добиваться серьезных результатов в борьбе с разгулом террора и другими революционными деяниями по расшатыванию устоев Империи.
Разумеется, Спиридович, как честный жандарм, не выдал никого из бывших агентов. Он назвал только тех, кто уже был разоблачен.
Нас, конечно, интересует Красин. О нем Спиридович вообще не упоминает. Ни как об отъявленном революционере, хотя об этом как раз мог написать и уж тем более как об агенте. Спиридович был довольно осведомленным, работал в охранном отделении и на местах руководил операциями по отлову революционеров, работал под руководством директора Департамента полиции Лопухина – фаната агентурной работы.
Спиридович привел примеры идейного агента и отрицательного типа «сотрудника-провокатора». Зинаида Гернгросс – это лучший пример преданного правительству агента работающего из идейных соображений. То есть принципиальный борец с «бесами» революции. «Сотрудник-провокатор» – это конечно Евно Азеф.
К кому ближе к Гернгросс или Азефу был Красин, если считать его – Красина агентом охранного отделения? Или, наплевав на все сомнения и ворох косвенных улик будем, таки считать Красина «пламенным революционером», которому просто невероятно часто везло.
Зина Гернгросс, как и множество ее сверстников увлекалась революцией. Это было модно или хайпово, если хотите. Однако, довольно быстро пришла к выводам, что дело это весьма грязное, подлое и безнравственное, а главное вредное для Отечества. А сами революционеры – это реальные «бесы» с которыми нужно беспощадно бороться. Она стала сотрудничать с Московским охранным отделением в 1895 году, ей было 23 года. Входила в кружок студента Распутина, этот кружок Зина и сдала полиции, когда выяснилось, что ее соратники по кружку хотят убить царя Николая II, во время коронации в Москве в 1896 году.
После арестов распутинцев Зину Гернгросс тоже арестовали, и даже выслали на пять лет в Грузию, охранка так прикрывала своего агента от подозрений в революционной среде.
Там она вышла замуж за врача и стала носить фамилию Жученко. Она переехала в Юрьев и выехала за границу, жила в Германии.
Революционеров она искренне ненавидела и боролась с этой заразой всеми силами, при этом никакой корысти у нее не было. Хотя впоследствии ей назначили, как сама она отзывалась «княжескую пенсию» за ее борьбу с революцией. Уже за границей она вновь стала сотрудничать с охранкой, выдала многих деятелей эсэров и предупредила о подготовке ряда серьезных терактов.
Саму Жученко выдал в 1909 году бывший революционер-перевертыш, многие годы честно служивший в охранном отделении Меньщиков. Кто он скажем чуть ниже. Жученко можно понять, по сведениям Меньщикова в среде революционеров были тысячи предателей работавших на охранку. Сама Жученко об этом не знала, агентам не раскрывали тайну, кто еще в их окружении является агентом, но возможно догадывалась.
Жученко, по данным Меньщикова, разоблачил борец с провокаторами в среде революционных партий Владимир Бурцев, тот самый, что разоблачил и Азефа. В августе 1909 года ЦК эсэров объявил Жученко провокатором. Интересно, что Бурцев, если верить Спиридовичу, действовал примерно такими же способами, что и охранка, вербовал агентов среди чиновников и при помощи организованной революционерами слежки искал доказательства.
Спиридович сетует: «То, что считалось преступным и подлым со стороны правительства, признавалось необходимым и хорошим в своих собственных руках: такова этика революционеров».16
Ну да, как говорится, когда эти подлые гады прекратят лгать о нас, мы перестанем говорить о них чистую правду.
Бурцев встречался с Жученко, вел с ней беседы, и нужно отдать должное мужеству Зинаиды Федоровны, которая понимала, что для нее эти беседы могут закончиться убийством, не юлила, а с полным презрением рассказала, почему она работала против революционных партий и подлых революционеров. Она спасала свою Родину, которую революционеры, как черви, пытаются сожрать изнутри.
«Да я служила, – говорила она Бурцеву, – к сожалению, не пятнадцать лет, а только три, но служила, и я с удовольствием вспоминаю о своей работе, потому что служила не за страх, а по убеждению. Теперь скрывать нечего. Спрашивайте меня, и я буду отвечать. Но помните: я не открою вам ничего, что повредило бы нам, служащим в департаменте полиции… Я служила идее… Помните, что я честный сотрудник департамента полиции в его борьбе с революционерами…Я не одна: у меня много единомышленников как в России, так и за границей. Мне дано высшее счастье остаться верной до конца своим убеждениям, не проявить шкурного страха, и мысль о смерти меня не страшила никогда».17
Что уж повлияло на эсеров, но Жученко не убили, оставив в покое. Возможно, решили, что это идейный враг, а не предатель, и убивать ее неэтично и вредно для положительного имиджа партии. Понты вообще свойственны различным амбициозным людям, в том числе и революционерам.
Хотя Азефа, личность совершенно иного свойства, тоже не убили. Руки боевиков на своего бывшего вождя не поднялись! Они дали ему время скрыться. Азеф спокойно дожил в Германии до естественной смерти. Эти провокаторы, идейная Жученко-Гернгросс и беспринципный Азеф, – персонажи выдающиеся, но они лишь крошки от скрытого в неизвестности айсберга провокаторов.
Чем нам интересен Азеф? Только тем, что в партии эсеров Азеф занимался ровно тем же, чем Красин в партии большевиков, – террором. И то, что Азеф был агентом охранки, а Красин? Да почему бы и нет!
«Азеф, это – беспринципный и корыстолюбивый эгоист, работавший на пользу иногда правительства, иногда революции; изменявший и одной и другой стороне, в зависимости от момента и личной пользы; действовавший не только как осведомитель правительства, но и как провокатор в действительном значении этого слова, т.-е. самолично учинявший преступления и выдававший их затем частично правительству, корысти ради»18.
Евно Азеф, «…свыше 15 лет состоявший на службе в качестве тайного полицейского агента для борьбы с революционным движением и в то же время в течении свыше пяти лет бывший главою террористической организации, – самой крупной и по своим размерам, и по размаху ее деятельности, какую только знает мировая история».19 – Считал Борис Николаевский. Сам Николаевский революционер с дореволюционным стажем, как говорили после 1917 года. Был большевиком, а после 1906 года меньшевиком. Выслан из СССР в 1922 году, позже такого страна Советов не допускала, посылала революционеров в лагеря «исправляться», то есть на уничтожение. Николаевскому повезло, умер своей смертью в Калифорнии, аж в 1966 году.
Азеф, грубо говоря, вложил сотни, нет, сотни и сотни соратников-революционеров, но не отдал в руки полиции своих ближайших подручных, таких как, например, Савинков, заместитель Азефа в Боевой организации, а затем и ее руководитель. Тот самый Савинков, который под руководством Азефа организовал убийства министра внутренних дел В. К. Плеве и московского генерал-губернатора, великого князя и брата царя Сергея Александровича. Это самые громкие дела Азефа, убийства более мелких персонажей, типа попа Гапона, просто фигня на фоне этих удачных покушений.
Азеф организовал покушение и против царя! Которое, как считается, не удалось по чистому стечению обстоятельств. Интересно, чем руководствовался Азеф в том случае? Хотел соскочить, что называется, с поезда на полном ходу, освободиться от опеки охранки или, напротив, вел дело против царя, а в последний момент мастерски разрушил это предприятие?
В отличие от Красина, родившегося во вполне состоятельной семье, Азеф рос почти в нищете.
Всё, что ему могли дать родители, – это гимназическое образование. По тем временам уже немало. Денег на учебу в университете у Азефа не было. Он был репортером в провинциальной газетке «Донская пчела», затем писцом в конторе, был мелким коммивояжером, типа менеджера по продажам с разъездным характером работы. В общем, Евно Азефу денег всегда не хватало.
В 1892 г. полиция обратила на юного менеджера-комивояжера внимание, его заподозрили в распространении революционной прокламации. Азеф, нужно отдать ему должное, был неглупым человеком, он чувствовал опасность и уехал за границу. Азеф реально хотел учиться, так как понимал, что без этого из бедности не выбиться? Вот эта тяга к знаниям, а точнее, к лучшей жизни, и привела его в конце концов в ряды революционеров и к предательству этих самых революционеров. В этом случае нет никакого сходства с судьбой Красина.
Для выезда за границу Азеф взял у некоего купца товар для продажи, продал его и, выручив 800 рублей, весной 1892 года уехал в Германию, где поступил в политехнический институт в Карлсруэ.
В Германии бедный студент Азеф практически бедствовал, 800 рублей, украденные у купца, не те деньги, на которые можно жить долго.
Тогда Азеф, не найдя другого выхода, написал письмо в Департамент полиции и предложил свои услуги в качестве агента. Кое-какие связи с революционно настроенной молодежью у него были, вот на них он и собирался стучать за умеренную, разумеется, плату, он оценил свои услуги в 50 рублей в месяц. Полиция согласилась – это было 10 июня 1893 года. Именно в этот день товарищ министра внутренних дел начертал на докладе, касавшемся Азефа, резолюцию «согласен». Товарищ министра – так по-старорежимному называлась должность заместителя министра.
50 рублей в месяц – это много или мало? Можно предполагать, что Красин в то время зарабатывал на строительстве железной дороги те же 50 рублей ну или, учитывая инженерную должность, но без диплома рублей 70, или максимум 100 рублей. В принципе, жить можно. Зарплата высококвалифицированного рабочего в Питере тогда была примерно 100 рублей. Средняя зарплата рабочих была тогда 37 рублей 50 копеек 20.
Судя по ценам, жить было можно, и главное – СТАБИЛЬНЫЙ доход!
Азеф добросовестно и вдохновенно составлял доклады в полицию о деятельности революционных кружков за границей, о ставших ему известными связях кружков с Россией. Его доходы росли. К новому году приходили наградные – те же 50 рублей. Можно сказать, тринадцатая зарплата.
В 1899 г. Азефа полицейское начальство заметило и оценило его заслуги перед Родиной, повысив жалование до 100 рублей в месяц, и выдали премию не только к новому году, но и еще на Пасху. Учитывая, что Азеф был выходцем из евреев, видимо, кто-то в полиции прикалывался, но, вероятней всего, настоящего имени Азефа исполнители в полиции не знали. Просто всем давали премию к Пасхе, и ему тоже. Всё это была секретная информация.
В 1899 г. Азеф получил диплом инженера-электротехника. Он получил место инженера у фирмы Шуккерта. Красин, между прочим, тоже одно время работал у Шуккерта.
Однако сбывшиеся мечты Азефа об образовании уже не могли остановить его тягу к лучшей и лучшей жизни. Охранное отделение решило, что таланты Азефа на фоне подъема революционной волны в России пригодятся. Разумеется, всё это за увеличенное в очередной разжалование.
Азеф переехал в Москву, где не без содействия полиции получил инженерную должность, а это тоже зарплата.
У Азефа были рекомендации к московской революционной общественности, в ряды которой он влился. Работал с Азефом начальник Охранного отделения в Москве Сергей Зубатов – этот гений провокаторства. Интересно, что в юности сам Зубатов играл в революцию, однако очень быстро разочаровался в этом деле и пошел на службу в охранку, где сделал неплохую карьеру. Он, собственно, организовал политический сыск в Империи. До него это было скорее дилетантство, а он сделал это профессией.
«Азеф, – писал Зубатов, – был «натура, чисто аферическая… на все смотрящий с точки зрения выгоды, занимающийся революцией только из-за ее доходности и службой правительству не по убеждениям, а только из-за выгоды»21 .
Зубатов устроил Азефа на отличное инженерное место в московской конторе Всеобщей электрической компании. Вы будете смеяться, но Красин, конечно, позже, тоже там работал. Но это, ясное дело, совпадение.
В чем была идея Зубатова в случае с Азефом? Зубатов хотел продвинуть Азева в самый центр будущей партии социалистов-революционеров, в которую объединились осколки различных групп бывших народников. Таким образом он, Зубатов, намеревался быть не только в курсе всего, что задумывают революционеры, но и иметь возможность разрушать самое вредное изнутри руками своего агента и одновременно одного из высших руководителей партии эсеров.
В случае с Красиным всё то же самое, только произошло чуть позже, и партия называлась РСДРП.
Доходы Азефа росли, с 1900 года его жалование составило 150 рублей, а вскоре, по мере его стремительного продвижения в партии, охранка платила Азефу как генералу 500 рублей в месяц, ну и премии к праздникам.
Вероятно, если, конечно, Красин был агентом охранки, его жалование было не меньше. Другой вопрос, куда Красин дел эти деньги? В случае с Азефом это известно. По совету полицейского руководства Азеф держал деньги, полученные от полиции, в немецких банках. Это была гарантия на «черный» день, когда придется отойти от службы. Собственно, в какой-то момент деньги перестали интересовать Азефа, он имел практически бесконтрольный доступ к кассе партии эсеров и полное право распоряжаться и не отчитываться ни перед кем очень приличными деньгами Боевой организации эсеров.
Красин имел в партии РСДРП (большевиков) точно такое же положение и точно так же мог распоряжаться и распоряжался весьма приличными суммами Боевой технической группы (собственно, террористы партии большевиков).
Между прочим, в ходе Первой мировой войны Азеф в связи с финансовым крахом банков в Германии потерял свои сбережения. По всей видимости, если Красин имел такие же сбережения в Германии, то он их потерял тоже. Любопытно, что первым делом сделал Красин, когда он попал в Германию уже после революции 1917 года. В мае 1918 года Красин приехал в Германию как представитель Советов.
По-видимому, Красина очень интересовали его акции в компании «Сименс-Шуккерт» (возможно, на полицейские деньги он и купил эти акции, ну или на деньги партии РСДРП, или на те и другие).
Красин 25 мая 1918 года писал жене: «… встретился с Герцем, и мы где пешком… где на трамвае, словом, весьма демократическим образом, поплелись за город, в Сименсштадт, где очень любезно, даже с помпой были приняты стариком Сименсом и сонмом директоров, большей частью старых знакомых… С русским Сименсом было решено окончательно в том смысле, что они от него отказываются, предпочитая получить рубли за свои акции, чем брать дело при таком развале».
Конечно, Красин ничего не пишет о своих акциях, конспирация, мало ли кому может попасть его письмо, но, судя по этому отрывку, рассчитывать поправить свои дела в финансовом плане на Сименса не приходилось. А проблемы с финансами в тот период у Красина были нешуточные. Он с женой, проживавшей в Стокгольме, неоднократно обсуждали даже мелкие спекуляции. Что уж там, жизнь заставляла крутиться.
И еще раз про акции Красина в Сименсе. «Будучи квалифицированным инженером-электриком и хорошим организатором, он поступил на службу в германскую электротехническую компанию "Сименс-Шуккерт", вскоре стал видным ее специалистом, быстро продвинулся по службе, а в 1911 г. был направлен компанией в Россию, где вскоре стал ее генеральным представителем и владельцем большого пакета акций»22 .
Интересно что? Эти акции Сименс ему подарил? Или Красин их купил? За какие деньги? Это может быть деньги, выплаченные охранкой Красину за многолетний труд, или деньги от эсеров, т. е. деньги партии? Но облом, предприятие Сименс в России развалилось, о чем и пишет Красин жене.
Глава 6. Баку – трамплин к вершинам партии
Летом 1900 г. Красин приехал в Баку. Получил приглашение на работу помощником директора в акционерное общество «Электросила», занимавшееся строительством электростанций.
«Ко времени переезда в Баку Красину было около 30 лет, он являл собой тип сложившегося профессионального революционера, познавшего аресты, тюрьмы и сибирскую ссылку, имевшего твердые политические убеждения. Однако он еще был хорошим и опытным специалистом. Его участие в топографических съемках в районе Транссибирской магистрали принесло ему славу одного из лучших молодых инженеров России. Он был предан своему призванию не меньше, чем марксизму, стремясь преуспеть на обоих поприщах и будучи уверен, что новой России понадобятся его опыт и знания»23, – пишет О`Коннор . Хороший исследователь этот О`Коннор, но слишком уж влюблен в Красина. Впрочем, Красин даже много десятилетий спустя для любого, кто ознакомится с его биографией подробно, становится симпатичен.
Именно в Баку Красин и стал тем «великим конспиратором», которого знает история. Интересный факт, о котором пишет О’Коннор: Красин находился в то время под тайным надзором полиции, однако охранка почему-то потеряла его из вида после отъезда в Баку. Надо же, даже О’Коннор стал что-то подозревать! «В запросе, датированном 12 октября 1901 г., охранка требовала от агентов полиции и местных должностных лиц всей России установить его местонахождение или хотя бы сообщить предположительно, где бы он мог быть». Оказалось, что это «промашка» харьковских властей, которые были извещены Красиным, но не передали сведений в Петербург.
Еще одно чудо? Или уже тогда Герасимов или кто-то еще из охранки помогали Красину прочно легализоваться, а параллельно всячески укрепляли миф о его неуловимости. Якобы только через 18 месяцев охранка установила, что Красин в Баку! По-видимому, и это мероприятие не что иное, как прикрытие перспективного агента.
Тем временем Красин в Баку развернулся на полную революционную катушку. Ничего подобного до приезда в Баку за Красиным замечено не было. С одной стороны, конечно, когда-то и нужно начинать революционную деятельность по-настоящему, а с другой, он, похоже, просто перестал опасаться полиции. Помог объединить отдельные социал-демократические группы в единую организацию. Участвовал в организации Бакинской стачки 1903 года. Организовал работу нелегальной типографии «Нина», наладил печатание и транспортировку газеты «Искра» (матрицы газеты поступали в Баку из-за границы). То есть Красин был замечен руководителями социал-демократов, в первую очередь Лениным. «Искра» для Ленина в то время была, по сути, единственной отдушиной, через которую он мог влиять на рабочее движение в борьбе за единоличное руководство в партии.
Типография «Нина» – это ключевое детище Красина, позволившее ему выплыть на самый верх РСДРП. Собственно, саму типографию не Красин создал, но именно он сделал ее известной узким кругам революционеров по всей России.
Красин прочно связался с местными социал-демократами, некоторым революционерам помог устроиться на работу, что, с одной стороны, обеспечивало им «крышу», заработок, и… скопление на одном предприятии большого числа неблагонадежных, связанных одной целью, облегчало охранке слежку. Следили и арестовывали рано или поздно всех, но только не Красина. Связи Красина в Баку позволили ему близко познакомиться с российскими социал-демократами, жившими за рубежом. Бакинская типография проработала дольше других, став на какое-то время главным типографским центром партии. Это была заслуга Красина, и партия это ценила. Почему же охранка не прихлопнула типографию, а, кажется, напротив, старательно отводила глаза, не замечая бурной деятельности Красина? Это началось вдруг, как по мановению волшебной палочки, в Харькове и продолжилось в Баку. И это с тем же человеком, который был до этого под неусыпным надзором полиции.
Например, Красина вскользь упоминает охранник-перевертыш Меньщиков, повествуя о делах в Петербурге в 1894 году: «Леонид Красин особо привлек внимание филеров «своими конспирациями», 4 декабря, например, он трижды переодевался, меняя форменное пальто на шубу».
Это был период, когда Красина как раз-таки замечали филеры, и никакие шубы ему скрываться не помогали. Потом Красин перестал заниматься этими «гениальными конспирациями» и просто открыто революционерил. А его все равно, словно Штирлица в анекдотах, видели и не трогали.
Приведем пространную цитату из мемуаров генерала Герасимова, как мы полагаем, дающего исчерпывающий ответ на этот вопрос: «Департамент полиции чрезмерно ограничивал роль и характер отношений своего секретного агента в отношении революционной организации. Такой агент не мог входить в революционную организацию и не мог непосредственно участвовать в ее деятельности. Он должен был только использовать в частном порядке свои личные знакомства, отношения и связи с революционными деятелями. Если еще допускалось вхождение во второстепенные организации и выполнение второстепенных функций, то абсолютно исключалось участие агентов в центральных, руководящих органах или предприятиях революционных партий, что фактически означало неосведомленность о деятельности их. Конечно, этот общий подход терпел на практике значительные изменения. Фактически секретные агенты часто и входили в состав революционных партий, и вели там работу, – и Департамент полиции, смотря на это по существу сквозь пальцы и терпя нарушение установленных норм, лишь формально прикрывался незнанием действительных отношений.
Я считал эту официальную позицию и неправильной, и грозящей серьезными последствиями. Я полагал, что задача политической полиции не попустительствовать таким нарушениям установленных норм, но ясно и определенно видеть свою задачу в том, чтобы ввести своих секретных агентов в самые центры революционных организаций, держать их там под контролем… В связи с этим я пришел к выводу о необходимости изменить и отношение политической полиции к тем революционным центрам, где находились мои секретные агенты. По системе Зубатова, например, задача полиции сводилась к тому, чтобы установить личный состав революционной организации и затем ликвидировать ее. Моя задача заключалась в том, чтобы в известных случаях оберечь от арестов и сохранить те центры революционных партий, в которых имелись верные и надежные агенты».24
Это теоретические предпосылки многолетней удачной работы типографии «Нина», другой вопрос – мог ли Герасимов из Харькова влиять на бакинских жандармов? Тут следует учесть, что у Герасимова было взаимопонимание по вопросам методов борьбы с директором Департамента полиции Лопухиным, бывшим до этого прокурором харьковской судебной палаты. У последнего точно были полномочия влиять на ход дел в Баку. Кроме того, не следует сбрасывать со счетов, что среди жандармских офицеров было крайне мало дураков и личные корпоративные связи играли немалую роль. Миф о дураках в охранке придумали после революции старые большевики в своих мемуарах. Кто может поручиться, что и среди «старых большевиков» не было бывших агентов охранки? На самом деле всё было почти с точностью до наоборот – это охранка играла с революционерами в кошки-мышки, но, как считали сами охранники, игра эта происходила на лезвии бритвы.
"В краткие просветы "свободы" передо мной, как в кинематографе, мелькали села, города, люди и события, и я все время куда-то устремляюсь на извозчиках, лошадях, пароходах. Не было квартиры, на которой я прожил бы более двух месяцев, – вспоминал Рыков. – Неоднократно отправлялся в ссылку, бежал, снова попадал за решетку».
Это Рыков, ну не самый тупой из всех вождей революции. Однако еще раз заметим, что нет второго такого примера революционера, как Леонид Красин, который несколько лет под своей фамилией жил, работал и неофициально развивал бурную революционную деятельность, при этом напрочь выпадал из поля зрения Охранного отделения. Хотя, извиняюсь, последнее не так. Он постоянно попадался, с той лишь разницей, что ему ничего за это не было! Вот именно это и вызывает самое большое подозрение, словно Красин был родным для Охранного отделения, и поэтому его не трогали.
Впрочем, попадались и в охранке идиоты, такие, как генерал Джунковский. «Это был, в общем, если можно выразиться кратко, но выразительно, круглый и полированный дурень, но дурень чванливый, падкий на лесть и абсолютно бездарный человек»25,– написал бывший охранник А.П.Мартынов в книге «Моя служба в Отдельном корпусе жандармов». По существу, его глупость привела к провалу секретного сотрудника охранки, большевика Малиновского, депутата Госдумы. Джунковский не смог найти место в своей голове, куда бы укладывалось понятие «депутат Думы – агент Охранного отделения». Он, правда, очень недолго продержался на посту директора Департамента полиции. После революции Феликс Дзержинский привлек Джунковского к работе в ЧК экспертом и тоже быстро понял… «Круглый и полированный дурень». В тридцатые годы Джунковский таки сгинул во время репрессий.
Вернемся к типографии «Нина», собственно, создал ее не Красин, а один из лидеров Бакинского комитета В. З.(Ладо) Кецховели. Типография печатала революционную литературу. Через год с лишним Кецховели из конспиративных соображений сменил адрес типографии, названной «Нина», и перевел ее в мусульманский квартал Баку. Тогда-то бакинские социал-демократы и сообщили издателям «Искры», что готовы печатать газету. Кецховели обратился к Красину за административной, финансовой и организационной помощью. Издатели из Швейцарии присылали макеты набора, с которых можно было отливать металлические матрицы. Чтобы избежать конфискации на таможне, Красину посылали макетные листы внутри технических книг и журналов, которые, как предполагалось, должен получать всякий уважающий себя инженер.
