Личные песни об общей бездне бесплатное чтение
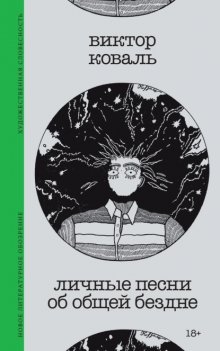
© В. Коваль, наследники, 2025
© М. Айзенберг, состав, предисловие, 2025
© Н. Агапова, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
От составителя
Этот текст следовало бы назвать «Вместо предисловия», потому что нормальному предисловию положено по закону жанра быть сдержанным и несколько отстранённым. У меня это точно не получится.
Познакомились мы с Виктором Ковалем осенью 1966 года. Следующие почти 55 лет я удивлялся ему, как чуду, и радовался, что на свете есть место таким чудесам. Само это удивление давно уже стало частью моей жизни – одной из самых счастливых её частей.
То, что к Вите так же относились не только давние друзья, стало окончательно ясно в феврале 2021 года, когда коронавирус вырвал его из жизни в возрасте (всего лишь) 73 лет.
Это ужасное событие вызвало такой взрыв отчаяния и горестного недоумения, такой неостановимый поток восклицаний и воспоминаний во всех доступных СМИ, как будто именно смерть навела всё на резкость, показав настоящее значение Коваля и его подлинный рост.
Сложность задачи (и, кажется, непреодолимая) в том, что, описывая этого невероятного автора, нужно вести, как одно, сразу четыре описания: Коваль-поэт, Коваль – соавтор песен, Коваль-кабаретист, Коваль-прозаик (а ведь есть ещё и Коваль-художник). Но и затасканный эпитет «человек-оркестр» к нему совершенно неприложим: все многочисленные виды его деятельности – не разные профессии одного человека, а разные отражения одного источника света. И существовали они не порознь, а совместно. Именно стыковка, взаимодействие видов и жанров порождало своеобразную драматургию, в которой можно заметить много долитературного, из практики скоморохов и шаманов.
Но ведь всё перечисленное выше – ещё не начало биографии Виктора Коваля. А в её основании мы видим дошкольника, потом младшего школьника Витю, играющего заметные роли в популярных советских фильмах середины 50-х – начала 60-х годов. Карьера этого мальчика-актёра была совсем не короткой и вполне успешной. Его лицо, например, занимало большую часть огромной афиши фильма «Дружок» на фасаде «Стереокино» буквально в двух шагах от Кремля. (Мне мерещится, что я даже помню эту афишу.) А ведь это далеко не самая известная роль Коваля, её не сравнить с Сашкой Евдокимовым из «Дела Румянцева», известного решительно всем советским людям.
Обычно на этом всё и заканчивается, творческая жизнь вундеркиндов и детей-знаменитостей часто коротка и не слишком завидна. Но Коваль избежал этой участи и прожил ещё несколько жизней под самыми разными звёздами. Для начала стал художником-графиком, окончив Полиграфический институт (а до этого послужил в армии).
После его окончания он довольно быстро создал оригинальный, очень узнаваемый графический стиль, соединявший рисунок и рукописный шрифт в остроумное живое единство. Быстро нашлись ценители такого стиля, и рисунки Коваля стали появляться в газетной и журнальной периодике.
В 70-х годах Коваль работал художником в газете «Пионерская правда», и мы неожиданно стали постоянными покупателями этой газеты, вовсе не нам предназначавшейся. Дело в том, что Витя в основном иллюстрировал маленькие рассказы на последней странице, а в их героях легко узнавался сам Витя (с непременными усами) и его приятели – то есть мы. Это было очень забавно: открывая свежую страницу официального органа печати, ты попадал на какую-то частную вечеринку.
Скоро обнаружилось, что и актёрство, и художество Коваля должны потесниться, давая место тому, что постепенно становилось для него главным: литература, в первую очередь стихи. Витя был, конечно, литературный человек, только его «внутренняя» литература была ни на что не похожа и долго искала себе подходящее воплощение.
«Поиски жанра» – так называлась повесть Василия Аксёнова, написанная в 1972 году, всеми потом прочитанная. И не случайно: именно поиски жанра были в то время занятием крайне актуальным во всех отношениях, а наличные жанры никого особенно не вдохновляли.
Для Виктора Коваля эта задача, и вообще очень трудная, ещё осложнялась тем, что он сам был произведением неведомого рода и вида. Свою уникальную в художественном отношении личность требовалось совместить с литературой: найти для неё, так сказать, литературную проекцию.
Решалось это поэтапно, и на каждом этапе Коваль находил особое взрывное решение, которое потом не повторялось.
Началось – ещё в 60-х годах – впрочем, не так громко: с небольших пьесок в духе Ионеско, которым Витя был тогда очень увлечён. Ионеско описывал мир, в котором абсурд получает преимущественные права и становится нормой. Коваль, имеющий, как выяснялось, врождённое знание именно о таком мире, не мог не признать своё. Признать – и запомнить.
Длинные поэмы, точнее пьесы в стихах, которые он стал писать в последующие годы, были тоже в несколько абсурдистском духе. Но всё это были именно поиски: подходы к чему-то другому, позже отброшенные. Пробы пера.
Первым очевидным удачам помог счастливый случай: дружба с Андреем Липским, замечательным певцом, гитаристом и песенным композитором. Дружба была очень давняя, ещё детская. Их многолетняя слаженность, сыгранность очень чувствовалась, они прекрасно работали в паре. Один начинал, второй подхватывал, потом менялись ролями (персонажами). У обоих был зоркий охотничий глаз, нацеленный на всё комическое: способность заметить неявный комизм в повороте разговора или в бытовой ситуации и немедленно его обыграть, на ходу превратив в импровизированный скетч. Шёл непрерывный спектакль, а неожиданная роль зрителя – и только – никого как будто не угнетала. Наша несостоятельность по части импровизации при этих двух профессионалах была слишком очевидной.
То есть оба, и Липский, и Коваль, были люди вполне серьёзные, а в то время даже – не в пример остальным – политизированные. Но, оказавшись на близком расстоянии друг от друга, они неизбежно начинали вырабатывать некое электричество, летели искры веселья и комизма. Из этих искр постепенно стало что-то возгораться.
Всё, что делали Коваль и его друг-соавтор для себя и для нас, вспоминается сейчас как настоящее счастье. К очередному дню рождения Андрея Витя непременно писал новую серию маленьких рассказов, очерняющих новорождённого, а иногда прямо клевещущих на него. Но и для каждого большого сбора друзьями сочинялся – всякий раз по-новому – какой-то спектакль или слайд-фильм, и мы шли в гости как на театральный праздник.
Главным праздником был, конечно, сам Коваль. После небольшой разминки начиналось что-то невероятное: многочасовой фейерверк острот, комических сценок, импровизированных скетчей…
Мне кажется, что я не видел в жизни ничего более восхитительного.
Следующим этапом была песенная лирика с метафорическим уклоном, сложная в музыкальном отношении и на наш слух принципиально отличная от общего потока подобной продукции. Длилось это недолго: стадии эволюционного развития соавторы проходили замечательно быстро. Но тогда вообще все личные движения шли с большой скоростью.
Ближе к середине 70-х Коваль и Липский начали писать песни, которые мы сначала по глупости тоже считали высококачественным продуктом для домашнего музицирования и дружеского застолья. Переход от горячей симпатии к восхищению перед непонятным обозначился однажды и сразу. Его сопровождало ощущение личной жизненной удачи: встречи с чем-то абсолютно оригинальным и – одновременно – в своём роде совершенным. Такое ни с чем не спутаешь.
В январе 1975 года мы услышали несколько новых песен Коваля – Липского, среди прочих «Товарищ подполковник» и «Паровая баллада». Сейчас уже трудно полностью реконструировать впечатление. Исполнение длилось не так долго, но слушатели успели слегка заиндеветь. Это было очень смешно, но почему-то страшно. Это было страшно, но очень радостно. Что-то такое сквозило оттуда; шёл посторонний сквознячок, и в нём соединялись холодящая радость, лёгкий ужас и то ощущение События, которое никогда не обманывает.
Оно и не обмануло. (В частности, «Подполковник» оказался произведением вполне пророческим: точно и ёмко определяющим состояние общества через четверть века после своего написания.)
Мы услышали нечто в том роде, которого раньше не существовало. Не существовало вещей, в которых музыка нового покроя и русский текст находились бы в таком удивительном соответствии – в таком ладу. Они не только не мешали друг другу, но из их соединения возникало ещё одно новое измерение: что-то тут сошлось и переродилось. Можно даже предположить, что именно. Стихийный абсурдизм текстов Коваля впервые принял облик такого, условно говоря, неофольклора (фольклор и абсурд вообще побратимы). И вот этот-то фольклорный строй оказался совсем не чужд его соавтору-композитору.
Как понимается новое? Какими рецепторами (или, наоборот, неведомым центром сознания) человек понимает, что услышанное им возникло впервые и ничего похожего раньше не было? Может быть, он слышит вдруг какое-то «будущее-в-настоящем» – то есть именно настоящее?
Похоже, что так. Это были именно вещи настоящего времени, плоть от плоти. Всё замечательно точно совпало в этих песнях: оригинальность обоих талантов; ироничность и неявная пародийность и стихов, и музыки. Привычка подхватывать шутки и импровизации друг друга получила новое – глубинное – основание.
Песни-шедевры с тех пор обычно появлялись парами (как будто появление одного шедевра ещё не повод для того, чтобы захватить в гости гитару). «Паровая баллада», «Товарищ подполковник», «Эй, касатка», «Баллада о Басаврюке», «Парад», «Японский городовой», «Тётя Катя», «Хек серебристый», «Монолог знатока», «Всё хорошо, что хорошо кончается»… Целый сад чудес.
Прошедшее время не так просто датировать, особенно наше прошлое (70-е годы) – почти лишённое событийного ряда. Событий как бы не было, их приходилось организовывать собственными силами. В этом плане Липский и Коваль незаменимы, они лидеры подобной организации. Первое исполнение каждой песни из основного корпуса становилось событием, запоминавшимся надолго (надеюсь, навсегда). Становилось вехой, к которой можно теперь привязывать другие события – для ориентации во времени. Каждую новую вещь сопровождало долгое эхо обсуждений, припоминаний строчек и кусков, неизбежно кончающихся общим запоминанием наизусть. Только исполнять никто не решался, по крайней мере при Андрее.
Сочетание этих двух талантов и человеческих темпераментов сейчас представляется невероятной удачей: счастьем для них, счастьем для нас – их друзей. Не будет преувеличением сказать, что они сделали нашу молодость счастливой.
«Наша первая песня была написана в 1970 году, а последняя – в 1988», – записал Коваль. Бог весть, почему это закончилось. То, что могло осчастливить целое поколение, досталось нам одним.
Со временем тексты Коваля становились всё тоньше и «страньше», а внутреннее их движение напоминало род духовного искания в формах совершенно нелегальных, оборотных, хотя по-своему прямых и, главное, очень здоровых. Прямизна, конечно, несколько необычная. Этим вещам присуща особая винтовая драматургия, когда высказывание как бы кружится на месте и воспринимается в ускользающем развороте. Разговор о рыбе? Разговор о Боге? Понимай как знаешь.
Где-то в середине 80-х, когда песенная эпопея ещё не закончилась, Коваль уже придумал себе (точнее, в него вселилось) совершенно новое амплуа – самое, вероятно, яркое, самое невероятное между всеми прочими: он стал писать тексты для собственного исполнения. Слово «писать» здесь как раз не подходит, потому что тексты эти автор не записывал. Он их разнообразно скандировал, выкрикивал, отхлопывал и оттанцовывал. Сохранялись они только в памяти автора и не предполагали другого бытования, кроме ярко артикулированного и неотделимо соединённого чуть ли не с пантомимой актёрского исполнения.
Два параллельных исполнения – голосовое и телесное – образовывали некоторую симфонию: смесь скоморошества и профессиональной актёрской грации, тщательная проработка интонации и природный комизм. Коваль прежде всего артист, но его артистизм во многом проявлял себя по-актёрски. Это – в том числе – актёрский, исполнительский артистизм.
Своего рода гениальность была заложена в самой его телесности, его физике. Какое-то сияние. Можно было только любоваться тем, как он это делает, теряя представление о времени и о себе. «В лад его камланию у меня начинали дрожать поджилки, меня охватывало какое-то физиологическое веселье», – признается Сергей Гандлевский.
Называлось всё это «речовки». Однако на лондонских гастролях 1989 года наш старый друг Зиновий Зиник (но уже с обширным заграничным опытом) опознал в Ковале «рождение российского панка и рэпа одновременно, но только не мрачного и воинствующего, а комического, пародийного и издевательского… Я услышал артиста, взявшего на себя целые слои речи, которые у всех на слуху, однако никто не решается произнести их вслух, разыграть подобные словесные ходы и интонации на сцене, публично». То есть никакие, как оказалось, не «речовки», а самый настоящий рэп. Мы такого слова не знали, из чего следует, что не существовало и понятия. Коваль сильно опередил время и ненароком создал новый (для нас) жанр.
Есть художники, которые почему-то не в состоянии следовать правилам. И рады бы, но никак это у них не получается, легче придумать свою игру с собственными правилами. Такие стихийные новаторы. Каждое следующее произведение Коваля почти всякий раз заявляло новый, небывалый жанр. «Что это – лирика, кабаре, балаган, шаманское камлание? Он кто – поэт, художник, артист, чтец-декламатор, базарный зазывала, полесский колдун из Неглинной коммуналки? Это ни то, ни другое, ни третье. И это все вместе» (Л. Рубинштейн).
Нужно пояснить, откуда взялись лондонские гастроли. Когда в конце 1987 года несколько авторов объединились ради регулярных выступлений на театральных площадках в группу (точнее, концертную труппу) «Альманах», туда вошли Коваль с «речовками» и Липский с их общими песнями. Компания была представительная: Сергей Гандлевский, Денис Новиков, в. п. с., Тимур Кибиров, Д. А. Пригов, Лев Рубинштейн, Виктор Коваль, Андрей Липский.
Перечисляю в порядке выхода на сцену. Выступление Коваля сначала стояло где-то в середине программы, но после первых же представлений общим решением сдвинулось в самый конец. Выступать за Витей было совершенно невозможно: после такого взрыва все казалось немного тусклым.
Тексты Коваля: в оболочке уморительного капсулирован ужас. (Время пока не растворило эту оболочку.) Такое соединение свойственно фольлору, и это сходство не случайно: Коваль органически фольклорен.
Свои сентенции особого рода он сам назвал «Моя народная мудрость». Это очень точное самоопределение: мудрость Коваля фольклорна – то есть именно народна. Без этих сентенций сейчас уже трудно обойтись в разговоре: они вошли в язык (в наш язык, я имею в виду, но дело за малым).
«Алё! Милостыню попросите, пожалуйста!», «Увидел недостаток – скажи: „Нельзя так!“», «Нам жить – вы и решайте», «У настоящего ящера нету будущего» (что мнится иногда политическим предсказанием), «Думайте не над смыслом сказанного, а над жизнью услышавшего».
Всё это уже записано и напечатано. Это уже литература. Но есть ещё фразы, которые Витя бросал в разговоре походя, как будто не понимая их ценности. Он бросал, а мы подхватывали. Вот одна из таких фраз: «Маленькая истина, возникшая вопреки реальности», – сказал Витя о чем-то, уж не припомню, о чём именно. Мне эта фраза кажется по совместительству ещё и точным самоопределением. А по другому совместительству – локальным определением искусства. И тут нет никакого противоречия.
С языком, с его корнесловием Коваль находился в глубинно-доверительных отношениях. Это становилось особенно очевидным во время экстатического исполнения песенных (скорее гимнических) импровизаций на смеси несуществующих языков. Там всплывали иногда, как рыбы со дна, смутно-знакомые речения, звучания, но в основном это была в чистом виде глоссолалия: «говорение на языках». Поскольку слушатели всегда находились примерно в том же состоянии, никому не пришло в голову это хоть раз записать – да и средств таких под рукой не оказывалось.
Очень жаль. Был бы, я полагаю, бесценный материал для лингвиста или, например, для специалиста по зауми.
Принятое в отношении поэтической речи выражение «птичий язык» для Коваля звучит на редкость убедительно. В своих больших вещах («Гомон», «День глухаря») он успешно обучал птиц русскому языку, но и те в свою очередь подарили нам прививку своей свистящей, кукующей, курлыкающей речи.
Птицами Коваль всю жизнь пристально интересовался и внимательно их изучал. Был таким домашним орнитологом. Этот его постоянный интерес явно неслучаен. В юности он и сам походил на небольшую лесную птичку – внимательную и быструю.
Кажется, птицы отвечали ему взаимностью. Сейчас я слышу, как они окликают со всех сторон: «вить-вить». Тоже, наверное, скучают.
Очередной взрывной tour de force случился у Коваля уже в последние годы, когда проза, поэзия, стихийный абсурдизм и сновидческая зоркость, объединившись, дали возможность преображать бытовой материал в некую особо тонкую художественную материю. Там тоже был момент «говорения на языках», но уже осмысленный и литературно оформленный. Собственно, вариант сказа, только сказителем здесь становится какой-то природный дух.
Большой корпус этих новых вещей мы услышали на выступлении Коваля в Музее Цветаевой (23.11.16). В процессе чтения он постепенно нагнетал, накачивал какой-то воздух восхищения, который к концу уже было трудно выдержать, – и в то же время очень не хотелось, чтобы это кончалось. Выходили все с перевёрнутыми лицами и спрашивали друг у друга: «Что это было?» А потом ещё гудели друг в друга: гений, гений, гений. Как-то это было слишком очевидно.
Я знаю, что слово «гениальность» имеет слишком много расплывчатых значений и лучше бы им вообще не пользоваться. Но как быть, если постоянно ощущаешь что-то такое – даже в застольных репликах и шутках, даже в мимике и жесте?
Не могу решить и сказать с уверенностью: действительно ли (то есть сознательно ли) Коваль стремился стать в литературе таким артистом оригинального жанра? До конца ему это, пожалуй, не удалось: оригинальности в нём было столько, что никакой жанр её не вмещал.
Всё это было не чем-то отдельным и существующим только в границах литературы, а просто естественным следствием его природы. Переход от жизни к искусству был почти неощутим, потому что сама Витина природа, его естество в значительной мере состояли из художественности. Между застольной репризой, оставленной на столе запиской и новой юмореской не было разрывов.
Но как хорошо и точно подходит Ковалю мандельштамовское определение искусства: «игра детей с Отцом». Искусство обитало в нём и своевольно развивалось, превращая своё обиталище в особого рода художественный объект. И уже этот «объект» заражал своей природой всё, к чему прикасался: всё превращалось в искусство, высвечивалось радужно, диковинно, – и как будто инородно.
«Через Витю в этот мир по всем возможным каналам проливалась божественная радость», – написал общий друг. Мы всегда относились к Вите не совсем как к человеку, скорее как к маленькому божку. Было совершенно очевидно, что это представитель какой-то другой природы, занесённый сюда случайным ветром. Какой-то эльф.
Казалось, что этот чудесный, невероятно милый, наделённый весёлым и несгибаемым смирением человек и не человек вовсе, а сам дух игры – непредсказуемый, обаятельный и настолько подвижный, что ни одно отражение не способно схватить его целиком.
Мы предполагаем, что большинство произведений Виктора Коваля сохранилось. Доступны его журнальные и газетные публикации («Знамя», «Новая газета», «Большой город», «Цирк „Олимп“» и др.). Изданы четыре книги: «Участок с Полифемом» (СПб.: Пушкинский фонд, 2000), «Мимо Риччи» (М.: Клуб «Проект ОГИ», 2001), «Особенность конкретного простора» (М.: Новое издательство, 2011), «Персональная выставка» (Самара: Цирк Олимп, 2014). Существует и домашний архив, по большей части оцифрованный.
За рамками настоящего издания остались ранние, юношеские тексты и некоторое количество поздних – не первого ряда, – включение которых сделало бы книгу чересчур объёмной. Мы всё же рассчитываем на знакомство с ней того читателя, которого принято величать «широким». (Коваль, право же, заслуживает такой «широты».)
Сложность разговора о Викторе Ковале, о которой говорилось в начале предисловия, прямо касается и составления книги такого автора. Но основная проблема даже не в этом, а в определении основы его множественного авторства, в котором соединялись, переходя друг в друга, не только разные жанры, но и разные виды искусства.
Очень естественным было его существование в 70–80-х годах, когда определившийся к этому времени андеграунд искал особые способы презентации и часто находил их именно в устных формах и видовом смешении.
Но то время давно ушло. Проблема существования устного в письменной культуре – во многом и проблема этой книги. Её читатель должен хотя бы отчасти представлять себе, как Коваль исполняет свои произведения (и как поёт песни на слова Коваля его соавтор Андрей Липский). Но представить это очень трудно: вещи Коваля рождались даже не с учётом такого исполнения, а как устное представление по преимуществу.
Хотелось бы показать такого сложного для публикации автора наиболее отчётливо. Для этого, отступив от хронологии, мы решили начать книгу с наиболее представительных его текстов («речовки», песни, афоризмы из цикла «Моя народная мудрость»), вошедших когда-то в программу «Альманаха».
Дальнейшая последовательность давалась составителю крайне трудно и решалась, надо признаться, скорее волевым усилием. Впрочем, следующая за вещами для устного исполнения стиховая часть соответствует вышедшим книгам, но хронологическая последовательность отдельных вещей в них не прослеживается, и определить её сейчас невозможно. Многие стихи из «Мимо Риччи», пожалуй, самые ранние. К тому же периоду (1970–1980-е) относятся первые четыре стихотворения из следующего раздела «Стихи, не вошедшие в книги», а другие вещи из этого раздела написаны уже в новом тысячелетии и развивают жанровые эксперименты нашего автора.
Самым сложным оказалось составление последней, условно «прозаической» части, где в конце концов образовались несколько групп, в которых произведения притягиваются друг к другу на разных основаниях: условно-тематических или интонационно-мелодических. Такие группы постепенно выстроились в (условно) логический ряд, начиная с вещей, имеющих какую-то плавающую, промежуточную видовую принадлежность – между прозой и поэзией, и кончая текстами биографического характера. Хотя и в них тематика так сплетена с уникальной авторской интонацией, что подобное разделение остаётся достаточно условным.
Михаил Айзенберг
I. Из программы «Альманаха»
Лекция по политэкономии об отчуждении личности
- В ранних философско Э!
- кономических тетрадях Карла Маркса
- чёрным по белому ясно изложена
- проблема отчуждения
- личности в капитализме
- как это, каким путём и от чего она чуждается,
- личность
- при капитализме?
- Эта личность
- при капитализме
- Джон ли, Адам, или Сэм,
- нам тут без разницы совсем —
- ну просто личность
- при капитализме
- отчуждается
- при капитализме
- в процессе производства
- при капитализме,
- либо просто в жизни
- при капитализме
- ибо результат
- её труда
- отчуждается куда-то не туда —
- капиталисту при капитализме,
- при капитализме, при капитализме!
- При капитализме —
- чуждый труд,
- поскольку он не нужный
- лично Джону или Адаму;
- да на фиг надо ему, на фиг надо ему
- бегать на работу, если б не получки? —
- при капитализме, при капитализме
- А если нет получки
- при капитализме,
- в доме нахлобучки
- при капитализме.
- От этой заморочки
- при капитализме
- Джон ходит в оболочке
- при капитализме
- отчуждения
- при капитализме
- от всего на свете
- при капитализме,
- при капитализме
- Плачут дети
- при капитализме,
- плачут жёны
- при капитализме —
- их Адамы и Джоны
- при капитализме
- ходят отчуждены
- при капитализме,
- при капитализме!
Исповедь стихийного гностика
- Совместное хозяйство и детей
- я нажил от системы общих интересов.
- Постылая, она меня всю жизнь пилила
- за то, что я ей в мыслях изменяю
- с другой —
- системой
- частных интересов.
- Я так сказал: проваливай, пила!
- И вот система общих интересов провалилась!
- А ты приди, желанная система,
- система частных интересов!
- Но соблазнительница, сука деловая,
- упёрлась – и ни с места. Говорит,
- что это дело – всё-таки другое дело,
- что, мол, дразнить и соблазнять – одно,
- а вместе мыкаться да маяться – другое.
- Зачем же мыкаться-то?
- А вот характер, оказывается, у меня какой-то некон —
- ституционный. Она его выводит из монголо-татарского
- ига, как и мою походку. И это ещё не всё:
- она опричнину припомнила мою
- и сталинщиной грубо попрекнула,
- Афганистаном, Пражской весной,
- как тряпкой по щекам:
- по левой – Молотов! по правой – Риббентроп! —
- ведь было, было?! – попрекнула…
- Ну было, было. А кто тут без греха?
- Жить, жить, как говорится, и не пёрнуть?
- А инквизиция – что? Во поле цветочки?
- Крестовые походы – лопушки? Один. Два. Три…
- А этот – Мюнхен твой?
- Сто молотовых стоит и двести риббентропов!
- Короче, говорю, переезжай!
- Бери вещички да детей своих,
- ублюдков,
- я буду их растить, как собственных
- ублюдков,
- переезжай, зараза, говорю.
- Не знаю, отвечает, надо посоветоваться с адвокатом.
- Вот лярва-то! Вот подлая система,
- бездушная…
- Да все они, системы, таковы:
- кровь пьют, энергию сосут,
- у каждой свой задор и свой позор,
- а мне от них выходит неуют.
- Приди, великий, сильный, смелый,
- и все системы переделай!
Эти йети
- За то, что не люблю я, но ревную,
- Она ответила скандалом на скандал.
- Один из нас, как выпивший, попал
- По вызову другого в ментовую.
- Там, в ментовой… О нет, в горах Тянь-Шаня
- Кыргыз меня пытал про Маленкова,
- А я ему о снежном человеке:
- Где тут такой? Не знаю про такого,
- Кто председателем Президиума стал
- По смерти Сталина.
- Но Маленков – навряд ли,
- Как главный секретарь партаппаратный.
- Тут более кандидатура вероятна
- Булганина. Не он, так Микоян.
- Косматый сам, с руками до колен,
- Или с грудями, если это самка,
- Косички заплетает лошадям.
- Нет, это сказки. Ворошилов отпадает.
- Такого нет и не было в помине.
- Детей пугать – ищите на Памире
- Или пугай в пампасах папуаса.
- Кричу: свистишь, кыргыз!
- А вот кричать опасно, —
- Свистит кыргыз, – в виду высоких гор.
- Ведь эти йети
- На этом не бывают свете,
- Об этом вредный разговор
- Пускай уходит, затихая…
- Ну что же, пусть. Когда она такая…
- Такая нашего внимания не стоит.
- Я – чепуха – шепнул, он – ерунда,
- А этот, кто кобыл втихую доит
- И в чьих следах глубокая вода, —
- Пускай он катится далёко,
- Шагает с песней далеко.
- Как невозможный Верлиока,
- Как неотвязный Маленко.
- Или как грозный Георгадзе?
- Нет. Жданов? Нет. Хрущёв не в счёт.
- Ну наливай, и пусть течёт.
- Я знаю, что кумыс – хмельной,
- Да только пить его противно.
- Он тяжко дышит за спиной,
- Обнять желая побратима
- С глазками узенькими
- И вот с такими усиками,
- В шляпе и без
- Проедает плешь,
- Мол, как его…
- И не Лазарь он кареглазый,
- И не Вячеслав он сероокий;
- Он по деревьям лазает,
- Разговаривает с сороками.
- Он не Берия развратный
- Прыгнул с невозвратной ветки
- И явно ходит где-то тут,
- Когда ему в Кремле искомый некто
- Вручал медаль за коневодский труд.
- Но кто вручал, кто этот Председатель
- Верховного Совета после смерти?
- А я Москва-тоска, я жизни прозябатель,
- Родился в тереме высоком
- У основных людей под боком —
- Ответь за эти имена!
- И на хрена я вредным человеком
- Всю плешь ему прогрыз? —
- Спросил кыргыз.
- Мы поднялись.
- Хорош кумыс. Но мне пора с моей тоской
- Спускаться вниз из мастерской.
- По вызову, по долгу, по тревоге,
- Чтоб срочно быть, немедленно явиться
- С отцом к директору, с мешком в военкомат,
- На демонстрацию с простудой и с супругой,
- На выборы, фатальные вначале,
- Потом альтернативные, к зубному,
- Сидеть с фантастикой, идти
- К прохожему на исповедь и в зубы
- Несправедливо получить и дать
- Заслуженно, в семейных рукавицах
- Явиться на капусту, в ДЭЗ —
- По собственному вызову,
- По долгу —
- С детьми на ёлку,
- Быть в гробу
- С исправной лампочкой во лбу
- Для вызова по случаю тревоги,
- Опять я шлялся и не вытер ноги,
- И для чего отбился я от рук,
- Когда известно ей, что Шверник
- Был Председателем, фетюк!
- Смолчишь – и под твоим же боком
- Тебя сожрут живмя-живым,
- А крикнешь – каменным потоком
- Накроют селем грязевым.
- Свистишь, кыргыз! – Мы обнялис!
- Мы обнялись. Такая штука.
- Навеки – Вериока, Бука.
- Тогда я думал, что пока я.
- Когда пока – пускай такая.
- И Бог судья. Поговорим о Боге.
- По вызову, по долгу, по тревоге!
«Надо народ накормить, а не Ленина – из Мавзолея…»
- Надо народ накормить, а не Ленина – из Мавзолея.
- Будто бы он в Мавзолее народ объедает,
- А как переедет в могилу посмертную и земляную,
- Сразу насытятся люди.
- Глупости! —
- Скажет Ильич.
- Ему, словно крохотной птичке,
- В блюдце достаточно капнуть немного водички
- И доливать через каждые несколько лет.
- Разве народ обеднеет
- От струек таких незаметных?
- Нет, говорят, в могилу ступай земляную,
- Иначе —
- Нечего выпить народу.
- Вот идиоты!
Театр моды имени Нины Риччи
- Театр моды
- Имени Нины
- Нины Риччи —
- Что это такое и как туда попасть
- В театр этой моды
- Имени Нины
- Нины Риччи?
- А это то такое,
- Куда вам не попасть,
- В театр этой моды
- Имени Нины
- Нины Риччи
- А по ка, а по ка
- А по какой причине
- Мы не попадаем к Риччи Нине?
- А по та, а по та
- А по такой причине
- Вы не попадаете к Риччи Нине,
- Что эта Нина – не необходима.
- Увидите: Нина
- Риччи
- Проходите мимо
- Риччи
- Ах, что вы говорите
- О какой-то Рите?
- И что это за Нина,
- Чтоб её мы мимо?
- А эта Нина,
- Нина-Нина не на
- Эта Нина
- Не наша Нина
- Эта Нина для иного гражданина
- Эта Нина
- Запомните-ка все:
- В нашей полосе
- Эта Нина – неупотребима!
- Ну а на кой же нам тогда такой
- Театр мод – ляд?
- Когда у нас иной жизнеуклад
- И взгляд
- На театр мод – Вот:
- Театр моды – Малый и Большой
- На Малой Бронной и на,
- А вы говорите Нина,
- Таганке и на!
- А вы говорите Нина,
- И на
- Улице Чаплыгина и на,
- А вы говорите: Нина
- И на
- «Досках» и на
- А вы говорите: Нина
- И на
- «Красной Пресне» и на
- А вы говорите: Нина
- И н…н…на!
- А вы говорите: не на…
- И у Никитских ворот
- А вы говорите: театр мод
- Имени Нины…
- А Пушкина Сергеевича – имени!
- А Гоголя Васильевича – имени!
- А Моссовета депутатов – имени!
- А Ленинского комсомола – имени!
- Имени домини,
- Домини – домини
- Доминирующего авторитета
- Не то, что эта
- Нина Риччи
- И всё-таки, товарищи,
- Что ни говорите,
- А Нина Риччи
- Не так уж и проста,
- Поскольку красота,
- Судя по словам писателя Стендаля —
- Это обещание счастья
- А не
- А не исполнение счастья
- Ибо исполнение счастья —
- Это обнищание счастья
- И не красота, и не красота
- А вот обещание счастья
- И не исполнение —
- Вот это-то и есть красота-то!
- Вот это красота
- Ё пэ рэ сэ тэ
- Вот это обещание
- И не исполнение
- Счастья
- В театре моды
- Имени Нины
- Нины Риччи!
- И далее, товарищи:
- Ведь всё-таки театр —
- Не только агитатор.
- Театр – это волшебная иллюзия! —
- Волшебная иллюзия – душевная контузия —
- То есть ка́тарсис
- Или всё-таки ката́рсис?
- Ка́тарсис
- Или всё-таки ката́рсис?
- То есть очищение
- Через мучение и потрясение —
- И это потрясающе,
- Товарищи,
- Это потрясающе,
- Товарищи:
- Не тряпки сизо-голубы
- И девки яснооки,
- Но шоки, шоки глубоки! —
- И потрясения глубоки
- И это потрясающе,
- Товарищи,
- Это потрясающе,
- Товарищи:
- Из театра имени Нины Риччи
- Мы выходим лучше и уходим чище!
- И это потрясающе,
- Товарищи…
«А!..»
- А! —
- мериканская
- Асса! —
- циация
- Северных штатов
- плачет при виде луны
- как
- А.
- Македонский.
- Ы! – негодует военно-промы —
- шленный комплекс, —
- У! – негодует военно-промы —
- шленный комплекс, —
- У! – что не может луну
- захватить Пентагон
- Эй!
- мериканская
- Асса! —
- циация
- Северных штатов! —
- Плакай при виде луны
- как
- А.
- Пугачева.
- а
- А. Македонский – родился в Болгарии братской
- Наш он двоюродный дедушка,
- А. Македонский!
- К солнышку выйду,
- крикну:
- Диду!
- К солнышку выйду
- встану на гору
- крикну: Диду!
- Я подвигаю твою пирамиду
- из рафинаду
- и «Беломору»
Памятная записка
- Как только Манечка
- придёт со школы,
- сразу же заставь её
- переодеть
- шы! —
- кольную форму и туфли,
- школьную форму и туфли!
- Всё, что ей требуется
- переодеть, —
- давно уже висит
- на вешалке в прихожей
- НА!
- стенном шкафу – У!
- НА!
- стенном шка —
- фу-у!:
- платье в клеточку, голубая
- кофта
- в ме…е…еленький такой рисуночек,
- а та-ам
- ну са-ам
- посмотри-и
- по погоде.
- И!
- бульон с кури —
- цай в холодильнике
- в длинной белай
- Э!
- марилованной Э! —
- марилованной Э! —
- малированной банке – Э —
- РАЗОГРЕТЬ!
- И!
- не забудь,
- что для
- вклю —
- чения плиты-ы —
- щелчок – э вправо на три-и!
- То есть:
- чёрные палочки должны-ы
- стоять на три
- И!
- чёрные палочки должны-ы
- стоять на три
- И!
- котлеты и макаро-о-ны
- сы зелёновым горош…ш…ш —
- ком на плите-э —
- РАЗОГРЕТЬ!
- И!
- не забудь
- выключить плиту-у,
- не забудь
- выключить плиту-у! —
- чёрные палочки должны-ы
- стоять на нуле-э,
- чёрные палочки должны-ы
- стоять на нуле —
- Э!
Наши и мои песни
Моими самыми ранними песенными впечатлениями были патефонные песни Вертинского и Лещенко, апологетов мещанства: один – кабацкого, другой – салонного. «А до войны они были запрещены, – говорила мама, – за них сажали!»
Кто сажал? Теперь знаю – апологеты сталинского ампира. Сам же Сталин, говорят, втайне от общественности любил слушать обоих, одного из них – особенно.
До сих пор помню их песни наизусть. И «Дуня, люблю твои блины!», и «влюблённо-бледные нарциссы и лакфиоль». Что такое лакфиоль, я тогда не знал. Да и зачем? И так всё было понятно. Теперь знаю: красно-жёлтая фиалка.
Ну и: «Рысью марш! – команда подана. Слышен шашек перезвон…»
Сейчас, когда по телефону иногда говорят: «Пока, до созвона! – или – перезвона!» я понимаю сказанное именно в том, вертинском духе – маршевом (легко и бодро). И появление «лилового негра», который подаёт манто, я понимал правильно: как страшную трагедию.
Потом я узнал, что в этом месте Маяковский смеялся: «Еловый негр!»
Ещё я узнал о том, что Вертинский как попсовый певец грубо задвинул в тень некоторых поэтов Серебряного века. Кто так мог сказать?!
Лиловый нэгр!
В кругу моих школьных друзей, впоследствии расширенном за счёт новых друзей – из художественных вузов, и в первую очередь из Архитектурного института, – застольное пение было делом привычным. Пели советские песни, в основном довоенные и послевоенные; слушали записи Окуджавы, Кима, Галича, Высоцкого, пели вместе с ними. В этой застольно-песенной обстановке и возникло желание спеть свои собственные, «личные песни – об общей бездне».
К тому времени я уже сочинил одну песню – «Пишет вам Маевский, пишет вам Журавский». О вводе войск в Чехословакию. Песня оказалась подражательной – в духе Высоцкого, да и певец из меня был – так себе. А вот Липский хорошо играл на гитаре и пел хорошо: «Свеча горела на столе, свеча горела». «А ты попробуй, – сказал я однажды Липскому, – спеть что-нибудь своими словами. То есть – моими». Вот мы и попробовали. Не верится, что с тех пор прошло 43 года.
Признаюсь, что мне, автору слов, слушать эти песни трудно. По причине невозможности исправить многие слова. Ибо из песни, как говорится, их уже не выкинешь. Поэтому-то я и предпочитаю к этим песням не возвращаться. Невыносимо выслушивать сотню плохих строчек, чтобы выслушать затем несколько хороших. Каких? Ну, например:
- На одной стоит ноге
- Конь, идущий буквой «ге».
- А на трёх ногах стоит
- Тео-тео-о-долит!
Или:
- Я там был, и вы там были,
- но на полпути свернули.
- Только омут замутили
- и над омутом сверкнули!
Не помню, чтобы мы за столом пели хором Дилона, Битлов (кроме «Yellow Submarin») или Саймона с Гарфанкелем (Гарфункелем – так мы его дразнили). Хотя их песни также вдохновляли нас на сочинительство. И – песни Рахманинова, например «Песня разочарованного». У нас – «Песня разочарованного идиота». И – песни Мусоргского. В одной нашей песне про Мусоргского пелось: «По нему всему видать, что, видно, это – очень скромный человек» (Модест). Затем: «По его лицу видать, что, видно, это – очень грустный человек» (портрет кисти Репина). И: «По его глазам видать, что, видно, это – очень страшный человек» («Песни и пляски смерти»).
Нашему совместному сочинительству сопутствовала территориальная близость Сретенки Липского и моей Неглинки. И – родственная служба наших родителей.
Наши с Андреем отцы были кадровыми военными, прошедшими всю Великую Отечественную войну и в частности – Финскую, где мой отец был танкистом, а дядя Женя Липский – автоматчиком в белом маскхалате. Не исключено, что их пути пересекались – там, в Финляндии, в 39-м.
Однажды я предложил дяде Жене такую гипотетическую картинку: дядя Женя вместе с другими, такими же, как он, автоматчиками, бежит на лыжах вслед за нашим танком.
– Ребята! – умоляюще кричит дядя Женя танкистам, и в их числе – моему отцу, водителю танка. – Возьмите нас на борт! Ну что вам стоит?!
– Беги, беги! – отвечает мой отец. – Нельзя, чтобы пехота наши смотровые щели загораживала!
Дядя Женя сказал, что тогда, в Финляндии, всё было с точностью до наоборот: автоматчики бежали прочь от наших танков, потому что танки горели и трещали, как «сухие ёлки»!
Как-то пришлось мне бежать на лыжах вместе с дядей Женей и Андреем Липскими – по заснеженным просторам пансионата «Клязьма». Бегу, чувствую, что не моё это дело – лыжи. А те – Липские – ну точно как автоматчики в Финляндии. Несутся как угорелые.
Несмотря на то что певцом я был никудышным, однажды мне всё-таки пришлось спеть на широкой публике – по замыслу режиссёра Юрия Степановича Чулюкина («Девчата», «Неподдающиеся», «Королевская регата»).
Тогда (в 1963 году) я играл в его телевизионном спектакле «Волшебная шкатулка» по мотивам повести Короленко «Дети подземелья». Трактирный мальчик за мытьём посуды поёт о своей безрадостной участи. Спектакль шёл в прямом эфире, но пел я под фонограмму – свою же собственную. Песня записывалась на Пятницкой, в Центральном доме звукозаписи. Автор слов – Ю. Чулюкин, композитор – А. Островский («А у нас во дворе»). Он же, Аркадий Ильич Островский, дирижировал оркестром и одновременно играл на рояле и в особо лирических местах – на клавесине. Я пел: «На дворе бывает дождик, и теплее жить в дому. Очень плохо, очень плохо человеку одному». Среди прочих запомнилась строчка: «Изловить бы мне синицу – не отдал бы никому!» Ну и припев: «Очень плохо, очень плохо…» Песня замолкает – в трактир входит роскошный бродяга (артист Яковлев), весёлый фокусник…
До сих пор пребываю в ужасе от этой экзотики: в 1987 году Юрий Степанович Чулюкин трагически погиб без объяснённых обстоятельств – в Мапуту, в Мозамбике.
Вспоминаю домашний театр на квартире у художников Димы Константинова и Лены Андреевой. Игралась пьеса «Репа» моего сочинения. Липский как действующее лицо («Пёс») поёт: «Репа – источник жизни и света, репа – метафора гроба и склепа! Репа – сжигает сердце дотла, у Репы – мохнатая сверху ботва!»
«Пёс» и «песня» – эти слова мне давно хотелось соединить в каком-нибудь литературном виде, подчеркнув их поэтическое родство. От таковой затеи остался один лишь мой рисунок на папке с песенными текстами: пёс воет на луну. Похожий по сюжету рисунок я наблюдал на крышке нашего трофейного патефона «Victor» – у граммофонного раструба сидит пёс, слушающий голос, оттуда исходящий. «His Master’s Voice».
До 1988 года песни исполнялись в домах друзей, в мастерских художников и однажды – на сцене Правления Союза художников СССР на Гоголевском бульваре. Затем, уже в составе поэтической группы «Альманах», наши песни вышли на широкий простор всамделишных театральных площадок – Театра им. Пушкина, ДК Зуева и Театра кукол на Спартаковской.
Об их ненамеренной театральности скажу, что да, во многих песнях имеются свои кулисы, задник, вертящаяся сцена и dues ex machine.
Некоторые песни после долгой над ними работы выкидывались в мусорную корзину. Оттуда, из этой корзины, до меня до сих пор доносится одна, самая навязчивая и ненавистная мне строчка: «Меня пугают все мои знакомые: – Нас одолеют скоро насекомые!» И – к сожалению, строчка, актуальная до сих пор: «И даже тот, кого не понимают, при встрече мне руки не подаёт».
Наша первая песня была написана в 1970 году, а последняя – в 1988-м. Получается так, что возникли эти песни в период безнадёжного застоя, а иссякли в разгар перестройки, дарующей надежды.
Не нравится мне такая зависимость.
«Но Бог судил иное».
Паровая баллада
- Это кто кричит усат:
- «Стоп, машина, стоп – назад,
- Впереди предательские мели!»
- Кто на мостике орёт:
- «Стоп, машина, стоп – вперёд!»
- Кто такой сердитый и умелый?
- Это я веду машину,
- Капитан неустрашимый,
- Это руки мои сжимают медный штурвал
- Кто там огибает взрыв,
- Стоп, машина, стоп и вкривь —
- Кто это исторг огонь из палки?
- Кто брони таранит кость,
- Стоп, машина, стоп и вкось —
- Кто это горит в могучем танке?
- Это я веду машину,
- Командир неустрашимый,
- Это я в несгораемом шлеме
- В танке сижу!
- Вот над облаком взвились —
- Стоп, машина, стоп и ввысь —
- Два крыла из лёгкого железа.
- В три погибели согнись —
- Стоп, машина, стоп и вниз —
- Головою в сердцевину леса.
- Это я веду машину,
- Я пилот неудержимый,
- Это мой бесподобный штопор
- Видит лесник
- Будем мёртвы, будем живы —
- Вечно водим стоп-машины
- Мы диктаторы медных железок
- Песню поём:
- Глубоко в сырой могиле
- Славим мы машинный пар
- Самовар – наш перпетуум-мобиле
- Голова – наш лучший самовар!
Товарищ подполковник
- – Товарищ подполковник,
- Разрешите обратиться:
- Над казармою летает
- Обезумевшая птица.
- Птица гадит на фуражку
- Бесподобного кумира —
- Что же делать?
- – Не робей, ребята, смирно!
- Иванов, наполнить фляжку,
- Панасюк, умыть кумира,
- Эй, кумир, сменить фуражку.
- Не робей, ребята, смирно!
- – Товарищ подполковник,
- Разрешите обратиться:
- Товарищ подполковник,
- Разрешите похмелиться —
- Птица гадит на продукты,
- Провианты все протухли! —
- Что же делать?
- – Не робей, ребята, смирно!
- Иванов, во имя мира —
- Объявить войну войне!
- Почему кумир в говне?!
- Панасюк, тащи обоймы!
- Не робей, ребята, вольно!
- – Товарищ подполковник,
- Вы мне служите папашей,
- Я всегда Вам рад стараться,
- Но, товарищем пропахший,
- Я прошу в родном строю:
- Разрешите обосраться! —
- Я Вас жутко обожаю…
- – Что же делать? Разрешаю.
- Я тиранил вас довольно.
- Не робей, ребята, вольно!
- Наш кумир – не Бог, не витязь —
- Все, кто хочет, – обосритесь!
Парад
- Взял меня однажды фатер
- На парад, холодный шпацер.
- Мы шагаем утром рано
- Вдоль по красной ноябрине.
- Слева папа, справа мама,
- Я иду посередине.
- Вот самолёты, летят сами, сами
- Вот пулемёты, метят пулю, пулю
- Ну а я, как этот самый,
- На параде рядом с мамой
- Забираюсь на папулю, вижу чёрточку любую
- Вижу я, сыночек мамин,
- Пехотинцев, моряков.
- Машет нам рукой Булганин
- И товарищ Маленков.
- Я взрослею, тяжелею,
- Успеваю много знать,
- Книзу гну отцову шею,
- Вижу крохотную мать.
- Чу, военная музыка
- Чу, гитара, чу, баян
- С нами Суслов и Громыко,
- Ворошилов, Микоян
- Вот самоходки, ходят сами, сами
- Вот минометы, метят мину, мину
- Мой отец, как этот самый,
- На параде рядом с мамой
- Шею гнут в угоду сыну, шею гнут в угоду сыну.
- Я взрослею, тяжелею,
- Обретаю твёрдый вид,
- Папа тащит к мавзолею,
- Сын уйди-уйди пищит.
- Мы ушли одной колонной,
- Мы несли навеселе
- Наш венок вечнозелёный
- Погибающей семье.
- Вот бронтозавры, заврят бронто, бронто
- Вот саламандры, мандрят сала, сала
- Фатер мой вернулся с фронта
- Мутер с ним судьбу связала.
Японский городовой
- В городе Москве
- Я живу ей бо
- В самом центре ми
- Разве это пло
- хо-хорошо?
- Но около мэнэ
- Ё, Кэ, Лэ, Мэ, Нэ
- Японский бог, городовой
- Живёт чужой
- Под ёлкой-палкой в шапке Дед Мороза
- Он палит палочки духовные
- Видать ему наскучили раскосые
- Видать ему претят индусы босые
- Вот и сбежал он к чёрту на рога
- Его японская хибара
- Его индийская корова
- Ему отсюда только дорога
- Издалека ему хибара дорога
- Хайдарабадская корова
- А я всегда москвич
- Ё, Пэ, Рэ, Сэ, Тэ
- Тыщу лет живу
- в СССР
- А около мэне
- Ё, Кэ, Лэ, Мэ, Нэ
- Японский бог, городовой
- Живёт как свой
- Его во время похорон гиганта
- Хвостом задели черти лобные
- С тех пор он носит шапки неудобные
- С тех пор он носит туфли элегантные
- И в каждом новом старится году
- Его сибирскую мур-мурку
- Его Неглинную Петровку
- Его соседку Фариду
- Обнимет он, имеющий в виду
- Хайдарабадскую коровку
- Прячет он в бельё
- Деньги облига —
- Жжёт в уборной га —
- зетку «Ё моё»
- Йоко ё моё
- Хаджимэ аум
- Манэ падмэ хум
- Ё, ка, лэ, мэ, нэ
- А ё, ка, лэ, мэ, нэ
- Шейх Джавахарлал
- Кришна Айюб-хан
- Фуми Носаван
- Хомейни Реза
- Бхух, Бхувах и Свах
- Йдамдаршам-ом
- Хиранья гарбха.
Хек серебристый
- Не дождусь я к ужину
- Хека серебристого, —
- Не простясь с супругою,
- Ухожу я из дому.
- Вижу, выйдя из дому,
- Липу деревянную.
- Речку водянистую,
- Веру Веремеевну.
- Вижу ёлку хвойную,
- Небо атмосферное,
- Снова малахольную
- Веру Веремеевну.
- Ой, равнина плоская
- Всюду перевидена,
- Крикнул я на господа:
- Где же ты, действительно?
- Ушли годы прожиты,
- Пришли годы нажиты,
- Где ж ты был, ну что же ты?
- Где же ты, ну как же ты?
- Я вернулся к суженой,
- Та кричит мне: бестолочь,
- Где тебя, о боже мой,
- Черти носят, господи?
- Глянь-ка в очи истине:
- Дни уходят прожиты.
- Где ж ты был, единственный,
- Как же так, ну что же ты?
- Я с тобою мучиться
- Больше не намерена.
- Пусть тебя разлучница
- Кормит Веремеевна.
- Глянь: остыл мороженый,
- Хек, тебе положенный,
- Как же ты, о боже мой,
- Надоел мне, господи!
- Надоел мне, господи,
- Хуже хека хренова,
- Хуже хека сладкого,
- Хека серебристого.
- Хэк хабуи квэ дикси,
- Хэк хактэнус[1].
Баллада о Басаврюке
- Красным летом на поляне
- Деревенщики-селяне
- Травы косят, ветки жгут,
- По ночам коней пасут.
- Там покой, раздолье коням,
- Но на выпасе покойном
- Бесноватая кобыла
- Нос папаше перебила.
- Бесновата, бесновата,
- Лошадь, ты не виновата:
- Басаврюк в тебя залез —
- Бьёт твоим копытом бес,
- Красноглаз и краснорук,
- Бьёт копытом Басаврюк —
- Призрак с носом перебитым
- Землю роет, бьёт копытом.
- Я, коней на воле не видавший,
- Не пойму, в связи какой
- Нос мой, как и у папаши, —
- Перебитый и кривой.
- Бесноватый, бесноватый
- Ты, отец, не виноватый
- В том, что я с рожденья рос
- Безнадёжно кривонос.
- Басаврюк! Виновен ты
- В том, что я острю осину
- И в прохожем узнаю
- Спину страшную твою
- И уродую черты
- Неродившемуся сыну.
- Чумовые бесноваты.
- Дети, вы не виноваты.
- Это мститель Басаврюк,
- Красноглаз и краснорук,
- Сам палач и сам казнимый
- Землю роет, бьёт осиной!
- Я весь изрыт, и нет на мне лица.
- Пусть кто-нибудь мои следы от оспы
- Несёт, как я носил обличие отца.
- Пусть от чумы умрёт потомок прямоносый,
- Пускай взойдёт трава, и земляки взойдут,
- И снова на поляне летом красным
- Селяне ветки жгут, смеются и пасут
- Покойный скот на выпасе опасном.
Дума о Дрокине
- Издав победное «ура»,
- Восходит Дрокин на бугор
- И вдаль кидает синий взор.
- Но прежде видит комара.
- Комар кусает кончик носа
- Под небом вольным и широким.
- Готовится к удару Дрокин,
- Глядит на лоб и видит косо:
- Шагал отец подобно многим,
- Необходимый как Спиноза,
- А рядом с ним дитятя Дрокин,
- В глазу родительском заноза.
- Слезится малолетний сын,
- Он рвётся прочь из рук колосса,
- Канючит, тянет под колёса,
- И гнев его необъясним.
- И блажь его неисправима:
- Пугает Дрокина витрина,
- Чарует вытекший бензин.
- Вот урна, веселя, дымится,
- На свалке гниль, распад и гарь,
- А под булыжником мокрица.
- Ботинком, купленным на вырост,
- Дитятя ковыряет сырость —
- Ответь, отец, скажи на милость,
- Куда скользнула эта тварь?
- Исчадье горя и мороки,
- Однажды оборотень Дрокин
- Замечен в позе кровососа
- На шее рыжего Барбоса.
- А вот он в облике Барбоса
- И сам кусает кровососа.
- А в девять, утомлённый, спит,
- Он спит как все, капризный мальчик.
- Но перед ним узор маячит,
- А за спиною тень висит.
- И страхи падают, пушисты.
- Шпион к большой стене прижат.
- Но вот со всех сторон спешат
- К нему на выручку фашисты.
- Они летят из-за горы,
- Они сбивают самолёт.
- Трещат и движутся миры,
- И Дрокин тянется под лёд.
- Он подо льдом увидит ряску.
- А вместо действия развязку,
- В прологе мёртвого коня,
- А в эпилоге снова сказку.
- Тут в каждом черепе змея,
- И всё подчинено искусству.
- Себя на грудь отца склоня,
- Уходит мама в зеленя
- Под необъятную капусту.
- Итак, носитель комара
- Глядит себе на кончик носа.
- Не убивает кровососа
- И дальше не идёт с бугра.
- Он в жизни обогнал искусство,
- Нет, не его ладонь мокра.
- Ему, ему легко и пусто.
- Ему легко и пусто.
- Он ожидаемый удар
- Не совершит наперекор.
- Пускай сожрёт его комар,
- Пускай раскроется бугор!
Великомалоросская шуточная песня «Эй, касатка, выйди в садик»
- Едет хлопец на лошадке,
- За плечами ружьецо.
- А в окне его касатки
- Светит милое лицо.
- – Эй, касатка, выйди в садик,
- Посидим в последний раз.
- – Ой, боюсь тебя, касатик,
- Ох, отец погубит нас.
- – Не томи, душа-девица, —
- Покажись, да и прощай,
- Только к ручке приложиться
- Дай, родная, дай, дай, дай!
- Отвечала дева тихо,
- Свеся пальчик из окна:
- – Ну, прощай, не помни лиха,
- На, любимый, на, на, на!
- Вот мой пальчик и ладошка,
- Я зажмурила глаза —
- Хлопец деву из окошка
- Вытащил за волоса.
- Их несёт лихая сила,
- Сила лёгкая несёт,
- Дева хлопца окрутила —
- Хлопец деву умыкнёт!
- Ускакали, в траву пали,
- И до самого утра
- Деве шишки спину мяли,
- Хлопца ела мошкара.
- Обстрекалися крапивой
- Да в осоке посеклись
- И дремотою счастливой
- По поляне растеклись.
- Дева большего желала,
- Хлопец лучшего хотел,
- И душа их улетала
- За положенный предел.
- Вот родитель оскорблённый,
- Неприкаян и уныл,
- Выйдя вон из тьмы зелёной,
- Всю поляну заслонил.
- Он сказал: «Я с дочкой лягу,
- Уступи-ка старику,
- А тебе, казак, корягу
- Я лошадкой нареку».
- Хлопец наш, рассудком тронут,
- На болотный сев пенёк,
- Ускакал глубоко в омут,
- А старик с девицей лёг.
- Дева батьке улыбнулась
- И, не раскрывая глаз,
- Издалёка встрепенулась,
- Издалёка поднялась.
- Тень другую тень ласкала,
- И, покинув свой предел,
- Тень молодчика скакала,
- Взяв обоих на прицел.
- Он скакал не на лошадке,
- Нет у хлопца ружьеца,
- Он стрелял поверх касатки,
- Мимо старого отца.
- Я там был, и вы там были,
- Но на полпути свернули —
- Только омут замутили
- И над омутом сверкнули.
Эстонскому другу
- Даже если ты разут —
- Ты, как я, двуног – не так ли?
- На одной ноге живут
- Только аисты и цапли
- На одной ноге живёт
- Из учебника мужик
- Он себе затылок жмёт
- Он от ужаса дрожит
- На одной стоит ноге
- Конь, идущий буквой «ге»
- А на трёх ногах стоит
- Тео-тео-о-долит
- Звери все четвероноги
- Без ноги идут миноги
- О пяти ногах звезда
- О шести – любая мошка
- О семи ногах – не зна
- О восьми ногах – паук
- А далее идет сороконожка
- За ней стоит эстонский хор
- Край озёрный многогласно
- Многоногий славит хор
- Каждый выглядит согласно
- С видом жителей озёр
- Все эстонцы петь озябли
- Босиком и налегке
- Словно аисты и цапли
- На одной стоят ноге
- Там и ты стоишь разут
- И покорен двум ногам
- То одну сгибаешь там
- То другой ступаешь тут
- Тут и я живу обут
- Но покорен двум ногам
- То одну сгибаю тут
- То другой болтаю там
«Все влекётся, и все влекут»
- Бабушка-лапушка
- Понесла от дедушки
- Понесла от дедушки
- Пироги-котлетушки
- Пряники-конфетушки
- Дед не хочет кушати
- Он сытее лошади
- Сединою убелён
- В тётю Катю дед влюблён
- Кушай пряник, бабушка,
- Кушай пряник, бабушка,
- Бабушка-жабушка
- Мамочка-лапочка
- Понесла от папочки
- Понесла от папочки
- Расписные тапочки
- Будет темна ночечка
- Тятя тапок хватится
- Колыхнет сыночечка
- Тот орать закатится
- Да помешает тятеньке
- А тятя хочет спатеньки
- А тятя хочет спатеньки
- На соседке Катеньке
- Вот какие пироги – тётя Катя помоги!
- Вот они конфеты, пряники, блины
- Все мы здесь раздеты – ходим влюблены
- Говорят, у тёти Кати по ночам плывут кровати
- Тетя Катя, можно к вам покататься по волнам?
- Всем почётно, всем приятно плыть на лодочке Приапа
- Возвышайся дух и крепни
- Возлети куриный пух с тётей Катею на гребне
- Из перинок и подух
- Нам тогда укажет Потос
- Распуститься в позе Лотос
- Кошка скажет и собака
- Мышь укажет и медведь
- Созревать под Знаком Рака
- И в огне любви кипеть
- Так неистово и жарко
- Сможет так с тобою, Кать,
- Так ужасно крепко спать
- Только я лишь и Петрарка
- Петрарка крепко связан с Данте
- И трубадурами Прованса
- И я цепями арестанта
- К цепочке этой приковался
- И помня о любви и мире
- В плену согласий мировых
- Нас избивали конвоиры
- Когда мы избегали их
- У тети Кати я просить не устану
- Tutti tirati sono e tutti tirano
Коля-петушок
- золотистый сидит Коля-петушок
- уж так его назвали Николаем
- а ребятки дразнят Кольку
- дескать Колька время сколько
- мы не знаем
- отвечает Коля мало ли часов
- отвечает Коля много ли минут
- ну без пятнадцати до двена
- с пол-девя без двух до трёх
- квоте паст квоте ту
- слова не вяжутся во рту
- ведь я как отпрыск петуха
- по-русски в зуб ни бе ни ме
- что до р х что по р х
- что по н э что до н э
- но без понятия греха
- нет уваженья к старине
- тут ребятки Вити-Мити
- стали сонные кумекать
- дескать-дескать петуху ли
- петухули говорить
- когда тут надо
- когда тут надо кукарекать!
Монолог знатока
- Оценивая творчески
- Разбросанные оттиски,
- Я как знаток не в силах умолчать:
- Люблю, люблю заветные
- Эстампы семицветные,
- Высокую орловскую печать.
- Я нюхаю гравюры,
- Оформленные златом,
- Исходит листик бурый
- Осенним ароматом,
- Он охрой прелой дышит
- Слегка коричневат,
- Рубель целковый, рыжик,
- Карбованец манат.
- Вы охрики, вы хухрики,
- Хрусты да угротугрики,
- Монятки, бабки – сладкий аромат,
- Гравюры семицветные
- Не фантики конфетные —
- Деньга таньга, целковый бир манат.
- При ноябре, при октябре,
- При феврале и при царе
- Всегда целковый в тёплом колорите.
- Проверьте, поглядите – всё в том же колорите.
- А то, бывает, встану
- И подойду к окошку,
- Гляжу на панораму,
- Воспоминаю трёшку.
- У Водовзводной башни
- Дворец зазеленел,
- Вдали Иван Бесстрашный
- Стоит над буквой «эл».
- Ах, деньги, деньги, денюжки,
- Средства, пенёндзы, пфенюшки
- Вот башни, башли, вот зелёный стяг;
- Гравюры семицветные
- Не фантики конфетные —
- Деньга трояк – таньга, а не пустяк.
- При ноябре, при октябре
- При феврале и при царе
- Всегда трояк в зелёном колорите.
- Проверьте, поглядите – в холодном колорите.
- И на ветру холодном,
- Где время возле часа,
- Стою на месте лобном,
- Гляжу на башню Спаса.
- За ёлкой голубою,
- Под синею звездой,
- Лежит передо мною
- Пятишник голубой.
- Ах, деньги, деньги, денюжки
- Средства, пенендзы, пфенюшки
- Ах, тити-мити, пятки-пятиши.
- Пятёрки семицветные не фантики конфетные,
- Беш сом, беш сум, блакитные шиши.
- При ноябре, при октябре,
- При феврале и при царе
- Всегда пятёрка в синем колорите,
- Проверьте, поглядите – в блакитном колорите.
- Но как заря алеет
- Червонный госбилет,
- Приятно руку греет
- Простой его портрет,
- Он в облике высоком
- Взирает широко,
- Окрашена востоком
- Оправа рококо.
- При ноябре, при октябре,
- При феврале и при царе
- Всегда десятка в красном колорите.
- Проверьте, поглядите – в горячем колорите.
- Ах, деньги, деньги, денюжки,
- Средства, пенендзы, пфенюшки,
- Деньга, таньга, рубель, бир сом, бир сум.
- Гравюры семицветные
- Не фантики конфетные,
- Но сами карамель и кара-кум!
Песня о щедрой щепотке и доброй краюхе
- Здоров, пригоден. Поелуев Петя
- Владетель головы, двух рук и ног
- Один в тайге, приставленный к ракете
- Свой запад стережет и свой восток
- Сто лет туда метеорит не падал
- Сто лет там не оттаивал якут
- Там Петя своего оберегает папу
- Сидит в КП, сосёт ружье и лапу
- А Петю образы родные берегут
- Петюха вспомнил прежнюю житуху
- Щепотку щедрую и добрую краюху
- И Финопетова соседа дурака
- И трепетных берёз душистые бока
- Петюха плачет. Плачь, рыдай, чего там!
- Петюхе вспомнилась Позякина Варюха
- Невероятно щедрая щепотка
- Невероятно добрая краюха.
- Петюха, плачь! Там целый день жуют
- Жуют весь день, а ночью голодают
- Они берёзам ветки обломают
- Чтоб узнавать, где север, а где юг.
- Они краюхой называли край стола,
- Где в изобилии рассыпаны щепотки
- Щепотки возбудителей чесотки
- Что охранять? Ты тут стоишь пока
- А там вина тяжёлого отведав
- Дурак сосед Алёха Финопетов
- Варюхе мнёт душистые бока!
- Ну, Финопетов! Ну, держись, Алеха!
- Петюха щас ударит издалёка!
- Всем Финопетам будет песня спета!
- Петюха жмёт рычаг, но не летит ракета.
- Увидел Петя, что в его ракете
- Якуты свой наладили вигвам
- Якуты перед Петей ниц упали
- Они ему на пальцах передали
- Послание языческим богам
- При сём истошно выли и орали
- И колотили бубном по бокам.
Всё хорошо, что хорошо кончается
- Ой, умора, не могу,
- Прямо возле лавочки
- Две стояли на снегу
- Маленькие тапочки
- Ах как здорово, ах как хорошо
- Маленькие тапочки
- Снег растаял – я пошёл
- Смелый, одинокий
- В эти тапочки, ах как хорошо,
- Были вдеты ноги
- Эти ноги, ах как здорово,
- Уходили в тулово
- Рукава пальта бостонова
- Выросли оттудова
- В этом тулове я нашёл
- Жизненные штучки
- Ах как здорово, ах как хорошо —
- Сигаретка в ручке!
- На плечах сама собой
- Шея кверху тянется
- И кончается головой
- Очень хорошо кончается!
- Вопреки законам зла
- Рот на месте и глаза
- Торжествуй добро над злом:
- Вот мой нос, а вот и уши
- Слава богу, повезло —
- Быть могло бы хуже.
Моя народная мудрость
В этой книге собрана многовековая мудрость народа, изречённая по его воле от имени автора.
Это притчи, заговоры, скороговорки, пословицы, поговорки и некоторые другие выражения автора, которые со временем станут крылатыми.
Живём в такое интересное время, что неизвестно – началось оно или уже кончилось.
Нам жить – вы и решайте.
Под счастливой ёлкой маслята в холодильнике.
Никто не знает, что все известно.
Все знают, что всё – неизвестно что.
На чудо надейся, но Бога не забывай.
Поднять Нечерноземье!
Подняли Нечерноземье, а там – Средиземноморье.
Мы, атеисты, не обожествляем хорошие новости, но дьяволизируем плохие.
Алё! Милостыню попросите, пожалуйста!
У меня на сберкнижке – герб Советского Союза!
Не засну, пока не согреюсь, не проснусь, пока не замёрзну.
Баста-то сказали в Кузбассе, а забастовали-то в Экибастузе.
У настоящего ящера нету будущего.
Не у всякого веника совок стоит.
Думайте не над смыслом сказанного, а над жизнью услышавшего.
Я тебе: сняли Гришина, а ты мне: с нами Кришна.
Паша Ангелина пашет как велено.
Курс рубля настолько твёрдый,
что хожу с натёртой мордой.
Мне говорил тичер,
Что главное – это фьючер,
А паст перфект континиус —
Опасно оскотинилось!
Опочки, опочки,
Не буду ни полстопочки!
Очнувшись с бодуна в Твери,
что дрянь Тверь – так не говори.
С прохожим выпил я по-русски
экономично, без закуски.
Приду домой под мухою —
кулак жены понюхаю.
Живём мы в комнате унылой,
чтоб не побрезговать могилой
и, невзначай попавши в гроб,
не тосковать о жизни чтоб!
Уходя на тот свет, не забудь выключить этот.
Отличайте инородцев: суздальцев от новгородцев.
Эй, янки, ховайтесь в ямки!
Монгол – китайцу хохол.
Корей – китайцу еврей.
А Китаю Вьетнам
Как Китай нам.
Увидел недостаток —
скажи: «Нельзя так!»
Коль в этом деле не ахти,
об этом ты не тарахти!
Чтоб такое придумать, чтобы не соврать?
Эт Джеймс Ласт, бат нот Ференц Лист.
Всё имеет свою причину. И даже не всё!
Вставлю морковку в снежную бабу.
Тотем унд табу.
Плохо Вове во Львове, а Льву – во Владимире.
Я тебе – Артемида,
А ты мне – Артмедиа!
С виду такой обаятельный,
Матом кроет для виду.
Ты не тупи:
Ту би – не ту би…
вчера мне снилось
что нельзя
сегодня снится
всё что можно
– Как живёте?
– Как у Родена:
Мыслитель – сидит,
А идущий – без головы!
Шла Саша по шоссе,
А за ней – шахсэ-вахсе.
– Сыночек, а у тебя есть мелочь на метро?
– Какая мелочь, мама?!
У меня – пенсионное удостоверение!
II. Стихи из трёх книг
1. Участок с Полифемом
Риторика
- С короткой стрижкой полненькая завуч
- В моём лице мою ругала дочь
- За то, что я, бесстыдница и неуч,
- Вместо ответа голову морочу,
- Трещу, с утра не закрывая рта,
- А книжки
- Ну почему в обложки до сих пор
- Не обернула я? Какой позор!
- Какая бестолочь в короткой стрижке!
- Как в армии. Ответь, зачем подковки
- Я не прибил к осмотру. Почему
- Я извертелась вся,
- издёргалась в столовке,
- Наклон не удержала по письму?
- Зачем нам мимо не пройти такого факта,
- Что кто-то грязь на рисовании развёл,
- На ритмике не отбивает такта,
- На математике же скачет, как козёл?
- Зачем нетрезвым он явился на поверку,
- И не явился, тоже, почему?
- О этот голос, падающий сверху:
- Зачем носок я при подходе не тяну?
- Зачем я Шпака на риторике толкала?
- В толк не возьмёт она,
- по лбу себе стучит.
- Зачем мне в возрасте, нет, не майора, генерала
- Сие выслушивать? Риторика молчит.
- Меня тут нет. Я отслужил – и хватит!
- Мне зав. учебной части – не жена.
- Так что ж она гундит, как старшина?
- Зачем безличный воздух виноватит?
Надо расходиться
1. У развилки на Вербилки
- У развилки на Вербилки
- Запорожец, дико воя,
- Неделимое раздвоил:
- Дух водителя такого-то
- От плохого отделил
- Тела смертного, хмельного.
- Неделимое сержанта
- Вдаль выпрастывало руку.
- Правая, она держала
- Раздвижную вдаль рулетку.
- Неделимое майора
- Веерообразно в рупор
- Правду грубо излагало
- На не слышащих в упор:
- «Расходитесь по домам,
- Ваши катастрофы там!»
- Но неделимое народа
- Стоит стеной бесповоротно
- В демонстрации протеста
- Против пагубного места
- У развилки на Вербилки.
2. В нашем овощном
- Какие лица в нашем овощном!
- Нет овощей. Но лица понимают,
- Что вот-вот-вот
- Машину подадут —
- И будут!
- Какие хари в нашем овощном!
- Нет овощей. Но хари все в надежде
- Такой, что лык не вяжущие суки
- Разгрузят всё-таки —
- И будут!
- Какие бляди в нашем овощном!
- Нет овощей. Об этом продавщица
- Татьяна Паршина
- С утра блядям талдычит,
- Чтоб расходились! Нету овощей
- В таком порядке грёбаном вещей,
- В каком беспорядке поля и грядки
- И в каком хозяйство упадке,
- И вообще,
- Иисус не знал, каков картошки вкус.
- Трудно, что ли, прилюдно
- Поднять ногу и встать на дорогу к Богу?!
- Но к рассуждениям Татьяны
- Глух непонятливый народ.
- В его ушах торчат бананы
- И нежно шепчут, что вот-вот…
«Окно мне сделал плотник Алексей…»
- Окно мне сделал плотник Алексей.
- Его зовут, как выяснилось, Саша.
- Он говорил стеклу, чтоб светлость ваша
- Тут не стояла над душой, как ротозей.
- А как уйти, коль Алексей глядит
- Вполглаза как-то странновато.
- Домушник он. И Александр бандит.
- Под плотников работают ребята.
- Где золото лежит, где спрятан диамант
- И нет ли ценностей среди вещичек прочих?
- Менту бы позвонить. Но участковый мент
- Васильев – им куратор и наводчик.
- Васильев? Нет. Как будто бы Петров…
- Не стыдно ль мне,
- как хрен с какой-то редькой,
- Небрежно путать Ваську с Петькой,
- Мастеровых не отличая от воров?
- Знать, ураган по городу прошёл,
- Знать, динамит на Декабристов грохнул.
- Стекло и воля. Дисциплина. Произвол.
- Повылетали окна. Я оглохнул.
- – Нет, вы ослышались, —
- Сказал мне Алексей.
- Он Александр!
- И чтобы был оплачен
- Сей труд по строгой форме всей —
- Вот мне квитанция на семьдесят рублей
- И взгляд наружу. Прочен и прозрачен.
Октябрь 98
- Всё к одному. Рубля сальто-мортале,
- Метан в Кузбассе, взрывами чреват
- Мир в Косово, Салман в Урус-Мартане,
- На площади пролетарьят,
- Призывы: ко всеобщей стачке!
- Даешь получку! Ельцина под суд!
- Стоит октябрь. Они его трясут,
- Глядят, как падают его листочки,
- Рублю подобно – в чёрную дыру.
- Исландцам наши отдали игру.
- Всех здравомыслящих с ума
- Свёл гол, забитый головой
- В акробатическом паденье Ковтуна,
- Сосед скончался Прохоров, Герой
- Советского Союза, за стеной,
- Спасибо, что не рухнула стена,
- Когда в такую непогоду,
- Таким недружественным днем
- Всё происходит через пень-колоду,
- Вниз головою, кверху дном.
- Всё было бы иначе, если б наш Ковтун
- Как главный невезун и автор не возник
- В свои ворота пагубного гола
- В Рейкьявике.
- Букет из четырёх гвоздик,
- Морг в Люблино, кремация в Николо —
- Архангельском, автобус ритуальный,
- Печальный ход вещей, защитник ненормальный,
- В платочках чёрных женщины по обе
- Соседа стороны, сосед во гробе.
- А мне в лицо на плачущих смотреть
- Сил нет таких. И прочих тоже нету,
- Чтоб из кармана свежую газету
- Достать прилюдно и газетою греметь.
- Из тех в кармане сложенных газет
- Впоследствии мне сообщили вести,
- Что нет, железный Август Пиночет
- Не верит в слухи о своём аресте,
- Что это наша общая вина,
- Нельзя пинать отдельного кого-то.
- И далее опять про Ковтуна.
- Не может быть! Опять в свои ворота!
Натуралистический очерк
- Свистуха.
- Проверка зрения и слуха.
- Шумит по-русски березняк,
- По-польски шелестит бжезина,
- Со звуком сопрягая знак,
- Растёт как буква У осина,
- И надо всеми реактивный ТУ
- Подчёркивает в небе высоту.
- Тут Вовка всем кричит: «Ау!»
- Ему в ответ многоголосый
- Пан отзывается курносый
- И некий антропос, во глубину оврага
- Малиной с ежевикою влеком,
- Себе по облику двенадцатым шлепком
- Казнит настырного антропофага;
- Овчарка Пальма, прыгая как тёлка,
- Как будто по-хохляцки кличет волка:
- «Вовк! Вовк!» И замечает Вовка,
- Что там вдали, величиной с букашку
- Ползёт, как божия, обычная коровка,
- Добром зовут её какашку.
- При сём у Яхромы, вполне уже раздета,
- Располагается моя мечта поэта.
- Со всяком сопрягая всяк,
- Её душою движимый костяк
- Напоминает мне про это.
- И клеится тот самый гнусный тип —
- Какой-то антропос —
- К моей душе-девице
- Шлепком игривым ей по ягодице,
- Где я заметил, что прилип
- Цветочек белый стрелолиста.
- Свистуху, завтраки туриста
- Она велит мне: Возлюби!
- Пчела гудит: «Ай эм э би!»
- И «Лет ит би» поёт транзистор.
Личные песни об общей бездне
Текучка
- Жить по условиям, конечно, ненормальным
- Нас заедающей текучки, —
- Где зажигалка? – хлопать по карманам
- И вдруг по лбу, – сегодня день получки!
- А нет получки – думать о причинах
- Того, что быть имеет место. И, конечно,
- О бесконечных величинах,
- Больших и малых. И конечных,
- Таких, как мотылёк и диплодок.
- Что больше, – думать, – Космос или Бог?
- Или вобще не думать. Тупо
- Без ненависти и без любви
- (Такая техника едва ли мне доступна)
- Глядеть на третий глаз у визави
- В автобусе в районе Ступино.
- Или в метро на станции «Коньково»
- По требованью старшего сержанта
- В своих карманах рыться бестолково:
- Где паспорт? В каждом – зажигалка.
- Пиджак не тот, не тот режим.
- И вдруг по лбу: мы все принадлежим
- Текучке – жизни, речи, мысли!
- Она течёт иной раз не туда:
- «Всё было бы иначе, если…»
- Иначе если – вспыхнула б вода.
- Противна Богу огненная речка,
- Угодна – даже в смысле узком
- Текучка в понимании «течка»,
- Иначе – был бы я моллюском
- Нетеплокровным или птаком,
- Скрипел бы клювом и вертел,
- Как осьминог, округлым зраком,
- Или, как эти,
- Вставши в полный рост вороны,
- Шипел бы, слал вокруг проклятья,
- Раскрыв широко, как объятья,
- Свои птероны.
- Набросок этот, только с виду мрачный,
- Изображает танец брачный
- На Декабристов двух ворон.
- Что меньше – Бог или нейтрон?
- Где Родина, а где Отчизна?
- И Божий дар – свободен ли сегодня
- От наказания Господня? —
- За эти детские вопросы укоризна
- Отцу семейства воздаётся автоматом:
- Где зажигалка?
- Где? (И не ругаться матом?)
- И вдруг по лбу: яичница горит!
- Её возможно спутать с Божьим даром,
- Работодатель в трубке говорит,
- Что есть известные задержки с гонораром,
- Но кризис, видимо, подох. Надейся.
- Простая истина: «Когда ты не побрит,
- Вставай у зеркала и брейся» —
- Звучит по-издевательски хитро,
- Как «отпуск», «бюллетень» и «пенсия»,
- И если ты одет, «то выкини ведро»,
- А если нет – «тогда оденься».
- Всё в том же пиджаке и при иных режимах
- Я повторяю истину простую:
- Покуда я поэт, моя текучка в жилах,
- Надеюсь я, не утечёт впустую,
- Как брань прохожего на думские законы,
- Как февралю необходимый насморк…
- Пока ещё не все московские мильтоны
- Мой красный прочитали паспорт.
Исповедь портрета
- Человек я сероокий
- Бросил взгляд из-под бровей,
- Если в профиль – однобокий,
- Если сверху – муравей.
- Был я человек-малютка,
- Вырос – сделался похож
- На кого-то – это шутка.
- На Шекспира – это ложь.
- Просто мне, как говорится,
- Жизнь взаправду дорога.
- Я не должен бы родиться,
- С точки зрения врага.
- Просто я, как все, нормальный,
- Быт ругаю неуютный.
- Вообще – принципиальный,
- Но сейчас – сиюминутный.
- Человек я не противный,
- Не горчица, не сироп.
- Если выпью – коллективный,
- Если слишком – мизантроп.
- Было. Видел в жизни всяко.
- Так припомнить не пора ли,
- Скажем, на Тянь-Шане яка,
- Хоннекера на Урале?
- Человек я небогатый,
- Весь в родителя пошёл.
- Безымянный мой – женатый
- И прокуренный – большой.
Закон подлости
- Закона подлости никто не отменял.
- Наоборот.
- Он в силе. В действии опасном.
- И тот же самый с маслом бутерброд
- Законно упадает книзу маслом
- Во исполнение допущенного зла —
- Вдруг со стола.
- Мне эта неудача оттого противна,
- Что легитимна!
- Но я, дитю подобно, не запла́чу,
- Увидев в перспективе безнадежной,
- В силу закона подлости, удачу
- Противоправной и мятежной.
- Обидно. Ближнего любить
- Как самого себя – и быть страдальцем.
- Всего делов-то:
- бутерброд к столу прибить…
- Так нет: кувалдою по пальцам!
В концерте
- Мне Бог велел на музыке играть.
- А вот природа в слухе отказала.
- Она мне в ухо правое задула
- Комок дикорастущей ваты.
- Господь ревёт: «Играй же, не ломайся,
- В блок-флейты дуй, в бамбуковые палки,
- Всю вату вон из уха выдувай!
- А ты, Натура, сядь в его концерт!»
- Неловко мне с дикорастущей ватой,
- Напоминаю, в правом ухе,
- На публике, по-разному предвзятой,
- Играть в своём, подчёркиваю, духе.
Мелкая мистика
- Воображаемая стрелка
- Блестящий сдвинула предмет.
- И – покачнулся табурет,
- И на пол грохнулась тарелка.
- Я так подумал им в ответ,
- Исполнен мистикою мелкой:
- Мечта тарелки – табурет,
- А тот тоскует о тарелке.
- О, как же я посмел, двуличный,
- Но человек по самой сути,
- Мечтою с мебелью делиться,
- Предмет её найдя в посуде?
- Нашёл, задел и на лету,
- Пока скользит столовый нож
- Вдоль рукава и за плиту,
- Сам на кого-то не похож,
- Явился раненый мужчина,
- На нём фуражка, серый плащ,
- Он следствие, а вон причина —
- Там за плитою нож блестящ.
- Я табурет подвинул павший,
- Налил в тарелку молока.
- – Наверно, скоро будут наши?
- Где наша рать недалека?
- Где наша сгинула вражина?
- Терпеть нам суждено доколь?
- Спасибо, мама покрошила
- Ему за ворот: хлеб да соль.
Песня о гимне
- О гимне с раннего утра
- Поёт мне божеская птица:
- Играет гимн – вставать пора,
- Играет гимн – пора ложиться.
- Два раза в день в урочный срок
- Для счастья вашего и блага
- Играет гимн – очнись, сурок,
- Играет гимн – усни, трудяга.
- Он мощно входит в каждый дом,
- Как танк в атаку лобовую.
- Играет – сволочи, подъём!
- Играет – все на боковую!
- Я сотую сменил кровать,
- Но мне всё тот же голос снится:
- Играет гимн – давай вставать,
- Играет гимн – давай ложиться!
Сёстры
- Им бы давно разделиться пора.
- Как вариант, на «Фили» и «Динамо».
- Но Кате нужна кой-какая опора,
- А Маше – мама.
- Мамино платье из панбархата
- Маша надела, а Катя насупилась.
- Катя треску пластала, порезалась,
- А Маша с гулянки брюхатая.
- Рыбьего сока из пальца сестры
- Выпила Маша и протрезвела.
- Видишь, как обе состарились?
- Разве
- Хватит им денег и хватит забот?
- Хватит. Они улыбаются.
- К празднику бывших друзей позовут,
- Торт испекут. Кулебяку.
Кот
(Из песни)
- Говорит Наталия:
- Знаешь, Вася,
- Или я, или
- Зашивайся!
- Хозяин взял Наталью в женщины,
- И с нею – женского мурлыку.
- Он, в их постеленку положенный,
- Лизал какую-нибудь руку.
- Взяла Наталья в мужики
- Соседа, Паршина Василия,
- Хоть ей не очень-то ужимки
- Такой свекрови «се ля ви».
- Мать мужика, – а что я – кукла? —
- Покуривала «Ароматные».
- – Ваш кот во сне, как чёрт, мяукал.
- Амбре. Вы понимаете?
- А для Наташи едкий дым
- Был чем-то вроде наказания.
- Но вскоре каждый стал своим.
- Как чёрт
- У нового хозяина.
У двери
- Сорвали суки домофон
- От скуки или ради цветметалла.
- Трендит, бывало, среди ночи он,
- Чтоб жить жильцам не показалось мало.
- Жму 27, а получаю 7.
- Из домофона мне кричит семёрка,
- Что я, наверно, чокнутый совсем,
- Как этот домофон, всех доведу до морга.
- Жму 27, а получаю 2.
- Из домофона двойка вопрошает,
- Откуда, мол, такая голова
- Растёт – живущему мешает?
- Жму 27. Её и получаю.
- Я там живу. И потому не отвечаю,
- Жильцам рассерженным подобно,
- Так истерично и так злобно.
Завещание
- Сказала баба Ванга мне: «Сынок,
- Лук репчат ешь и ешь чеснок
- Для внешнего и внутреннего зрения.
- Власть не дразни, ты ей не раб,
- Дым не кури, не слушай баб
- Для внешнего и внутреннего зрения.
- Будь здрав. Страстями не болей,
- Лжи не скажи, вина не пей
- По своему́, теперь уж, усмотрению».
Детский вопрос
(Из песни)
- Интересно в высшей мере,
- Хоть какая – неказиста,
- Есть ли жиче на Венере
- С точки зрения экзиста?
- Дочка, пальцем в небо тыча,
- Вопрошает, изумлённая:
- Это бездна наша личная
- Или с кем-то поделённая?
- Знаю. У авторитета,
- Чьи таланты разумеются,
- Тут покамест нет ответа,
- Но зато всегда имеются
- Личные песни
- Об общей бездне.
Голос
- Под ёлкою мне голос был тревожный,
- Когда нагнулся я, грибник неудержимый:
- «Поверьте, я опёнок ложный.
- Вы понимаете? Не лживый!»
Всяк
- В башке у всяка много мечт.
- Они заложены в коробку,
- Как всяк положен в короб лечь,
- Горе воздев свою бородку.
- На Бога всяк надежду положил,
- А Бог – на всяка.
- Тут между ними вышла драка,
- И они рассорились.
- Бог стал по-прежнему – везде,
- Всяк лирик стал в СССР.
Не беда
- От обрушения госпирамиды
- Быльём поросшая примялась лебеда.
- Кто вкладывал туда и не туда —
- Все стали инвалиды,
- Что, в общем, – не беда.
- Если все.
Дни
- Пришли такие грёбаные дни,
- Что не уйдут без руготни.
- Стоят, заразы, не желают
- Идти куда их посылают.
- А ты им, грёбаным, соври,
- Что ты как друг их не неволишь,
- Сказав:
- «А кстати, не махнуть ли нам на три
- Каких-то буковки всего лишь?»
Портрет идущей
- Невозможная в обтяжку
- Дама, склонная к избытку,
- Ляжкой чиркает об ляжку,
- Лыткой стукает об лытку.
- К ней, чрезмерной, чувство клонится,
- К полноте сердечко жмётся.
- И от стука не разломится,
- Но от трения зажжется!
Мох
- Я в году двухтысячном,
- Лет трёх примерно без,
- Где-то под Мытищами
- Углубился в лес.
- Утречко студёное.
- Для подъёма сил
- Я сел на пень. Варёное
- Яичко откусил.
- Откусил – и солнышко
- Восстало наверху.
- Опрокинув горлышко,
- Я упал во мху.
- Зелень-белень, крошево,
- Кашка, клеверок
- И всего хорошего
- Много между строк.
- Между строк, что брошены
- Покрываться мхом.
- Мхом всего хорошего
- Обо всём плохом.
«Под знаком голода табачного…»
- Под знаком голода табачного
- В пределах облака неоднозначного
- Стоит сводящая с ума
- Неописуемая тьма.
- Она в аляске. И её борзую
- Сейчас я рыжей краской нарисую
- Афганскую. А кодлу хулиганскую
- Таким ядрёным кобальтом покрашу,
- Чтоб смылись и слиняли на парашу
- Умнее всех без очереди гады.
- Здесь много всех. Друг другу все не рады,
- Поскольку радоваться остаётся гадам,
- Что много их и все они тут рядом,
- И спит с резиновой дубиной
- Мильтон, ядрёна шишка, нелюбимый,
- Но ожидаемый, как Космос и Пегас,
- И спит, один прикрывши глаз,
- Я с независимой газетой,
- В пальто неброское одетый,
- И спит со мною говорящий
- Браток, про то, что сам он некурящий,
- Но очень нужен блок для внука —
- Он завтра улетает в Кострому,
- И не сказать о том, такая мука
- Предсмертная, а рассказать —
- Посмертная, что никому
- Не пожелаешь: – Брат женись на полукровке.
- Она рейсфедером выщипывает бровки
- И телефон берёт с собой в сортир,
- И если кто-то обратится: – Командир!
- Который час? – Докладывай: – Прости,
- Сам без понятия. Наверно, без десьти.
- И разговорчики: насчёт того, что глупо
- Кричать в пустыне: – Кто в углу-то?
- И что известно всем, зачем
- Ползёт по берегу чечен,
- И если Северную ТЭЦ
- Построят всё же – всем звездец.
- Вот так мы и стоим за дымом —
- Стеной в борьбе с неистребимым,
- Настырным и живучим бытом
- Под крылом и под копытом
- Ядовитого Пегаса
- Четвёртого класса.
- И ни одной, представьте, спички —
- Чтоб друг от друга зажигались
- И в разговорчиках неспешно продвигались
- От ублаженья пагубной привычки
- К иной, ядрёна корень, цели.
- Она без шапки. И её кудели,
- Виющиеся мелким бесом,
- Я раздраконю охрой золотистой,
- Заделаю сапог ультрамарином;
- Когда б я был Франциск Ассизский,
- Она б со мной заговорила
- Как рысь: мол, не боись
- И всё фигня. И нет ли у меня,
- Эй, командир, огня?
- Нет, отвечаю виновато,
- Потому что хреновато
- Воплощенье, но идея
- Безусловно хороша,
- Она несёт под знаком Водолея
- В ладонях след карандаша
- Чернильного – для курицы и торта.
- В трёх точках, понимаешь, непременно
- Ой как ей надо быть такого чёрта,
- Который дан в одновременно
- Вращающихся розно плоскостях
- Между этим самым хмурым
- Байконуром
- И смурным вот этим самым —
- Универсамом.
- Я дальний план для перспективы зачерню,
- А на переднем собственной рукою
- Свою же обрисую пятерню
- И сам же, недовольный, смою.
- Да. Здесь обязан помещаться
- Эпический ядрёна корень,
- Расти способный, возвышаться
- Над личным счастьем или горем.
- Его нельзя изобразить,
- Мельком и только издалёка
- Он виден, если вбок скосить
- Глаза. С другого, понимаешь, бока.
- Его глазки во тьме ветвятся,
- А как срастутся – прочь стремятся
- К иной, ядрёна корень, цели.
- Она без шапки, и её кудели
- От охры золотистой поредели,
- Её сапог, ядрёна шишка, мамин
- Ультрамарином испоганен,
- И в этом плане несмешном
- Ей суждено под неким взглядом
- Стоять всю вечность за рожном,
- Стремиться за насущным лядом,
- А рядом
- Стоят, как мы, покорны небесам,
- Два брата в плане кавадрата —
- Брат Байконур и брат Универсам.
- И мне сказал земеля Водолей,
- Что Байконуру снится Мавзолей,
- Универсаму снится Зиккурат.
- Что видишь, брат?
- Я?
- Таба́чку, собачку
- И, как этот, некурящий
- Брат, впереди меня стоящий,
- Берёт табачку́ внучку
- И подходит моя очередь…
- А за рамками быта
- Картинка размыта.
Большая Берта
- Бедный я бедный. Бадью,
- Берту объёмную с джином и тоником вместо
- Водки «Привет», аквавиты всему адекватной,
- Сдуру купил у лоточницы рыжей Наташки.
- Бедный я бедный. За что?
- За те же говённые деньги примерно
- Хереса крепкого с сахара низким процентом
- Взял бы во благо, так нет же, себе же во зло,
- Снегом облеплен и проклят блатным инвалидом,
- С не по погоде игристой, шипучей бурдою,
- Берту Большую к груди прижимаю,
- Как будто Наташу.
- Бедный я бедный. Жена:
- Только, сказала, чтоб баночку тоника с джином, не больше, иначе
- Нет тебе места в углах обжитых и семейных, живи
- В грязных ларьках у лоточницы-сифилитички.
- Бедный я бедный. Бадья
- Емкостью женин наказ нарушает, однако
- Берта Большая о том говорит скандалистке,
- Кто тут углам голова и Богу подобен в натуре!
Пейзаж с Полифемом
- Над нами ель некорабельная качается,
- Поскрипывает, с высшим сообщается,
- И всяк под ней о том и говорит,
- Что дело дрянь и к чёрту не горит
- Костёр, который я шалашиком устроил,
- Да не таким, как надо,
- И при этом
- Не так свернул бумажку с берестою,
- Да и не ту. Не с тем, видать, портретом,
- Насквозь промокнувшим малиной
- В газете «Труд» неопалимой.
- Раздувши угли, мы встаём с колен,
- Разламываем ветки о колена,
- И все кричим: «Где Полифем!»
- И все молчим. Нет Полифема.
Поликарпов
- Стих без названия, а вместо
- (За этим имени, заметьте, неимением)
- Произнести уместно:
- Три звезды! —
- Перед любым таким стихотворением.
- О том доносят в трубке провода,
- Что мне покой пригрезится едва ли.
- – Ты, Поликарпов? – Нет, вы не туда
- В который раз ошибочно попали.
- То детский голос, то мужской:
- Не Поликарпов? Кто же ты такой?
- Пономарёв? И дикий хохот. Парамонов?
- Я обрываю шутки мудозвонов:
- Тут нет таких.
- А я, допустим, Протопопов,
- Частично Евдокимов и Козлов,
- Случайный собеседник остолопов
- И жертва нераспутанных узлов
- Московской телефонной сети.
- Тут нет таких и не было на свете!
- Дался им Поликарпов. Что за бред!
- Вам Поликарпова? Так выкуси-ка, на-ка!
- О, Поликарпов, не буди во мне маньяка,
- Ты провокатор, Поликарп, однако,
- Неправда, что тебя такого нет.
- Куда как более похожий на обман
- Сукарно или же Ху Яобан
- Был человек вполне, а не фантом,
- Хотя и прожил на обмане.
- А Поликарпов-то,
- Неужто в Пионерский Дом
- Такой не хаживал со всеми нами
- На Стопани?
- Мне записная книжка говорила,
- Что пусть она кончается и рвётся,
- Но снова обязательно начнётся
- С того же Айзенберга Михаила.
- А буква «Пэ» пустует на предмет
- Заглавного героя. Нет
- Там Поликарпова.
- Есть Постник, Пригов…
- И только в очень старых книгах
- Он выявляется через тире Орлов
- Как мастер по отбору нужных слов
- В порядке утверждённого закона,
- Как автор «Букваря» и «Лексикона»
- Латинского (sed lex), славяно-греко.
- Как это: – Не было такого человека?
- Известно, был. Не рядом, так вдали.
- И вот передо мною,
- Как из-под земли,
- Ещё один
- след поликарповский возник —
- Военный авиаконструктор Ник.
- Ник. Поликарпов. Этажерку
- Он оборудовал под очень лёгкий
- И, как выходит на поверку,
- Не очень ловкий, но бомбардировщик
- У-2, фугаса перевозчик
- И сеятель его над Халхин-Голом.
- Вот он, подбитый, упадает в землю колом.
- И что теперь он? Только кукурузник,
- Урюпинской деревни небожитель,
- Колхозным сеялкам он сверстник и союзник
- И ядохимикатов распылитель.
- У-2! – шутил отец, поскольку
- Мне в дневнике родная школа
- По пению влепила двойку,
- А он в БТ у Халхин-Гола
- С У-2 совместно защищал монгола.
- Мне перед армией в военкомате
- Вот что сказала блядь в халате:
- Не гланды драть, но удалять
- Миндалины вам надо, Ковальчук.
- Тогда со мной в одной палате
- Лежал барчук с английской книжкой,
- Как я, такой же призывник,
- Теперь авангардист с одышкой
- И с именем таким же – Вик.,
- Но Поликарпов.
- Его, конечно, упрекать нельзя,
- Что он страдал болезнью Одиссея,
- Который, землю солью засевая,
- По полю шел, от армии кося,
- Мол, сами видите: с приветом и негоден.
- Что в результате? Он, освобождён,
- Гуляет, от привета не свободен,
- Миндалины мои при этом
- На службе выросли с приветом.
- Не Поликарпов? Знаю. Вы – не тот.
- Но, если вдруг он позвонит или зайдёт,
- Скажите, чтоб связался с Кондаковой.
- С какой? Он знает сам.
- Какой вы бестолковый!
- Шёл Поликарп за мелом и журналом
- В учительскую, где химичка Алла
- Чулок у основанья поправляла.
- Мне мел, – успел сказать он
- И —
- Окаменел.
- А над журналом,
- Всех нас ввергающий в мандраж,
- Навис училки карандаш,
- Исполнен самым низким баллом.
- – К доске идёт…
- Сидел он у окна, вторая парта,
- А я на третьей, у стены.
- Доска. Физическая карта.
- – К доске идёт… Мы спасены!
- Опять училка вызывает Поликарпа.
- Она ему за причинённый стыд
- С тех самых пор жестоко мстит.
- Или она тогда в учительской нарочно
- Для Поликарпа оголялася порочно?
- Жив, Поликарпов? Что же ты, дружок,
- Своих не узнаёшь, молодчик?
- Там за тобою числится должок.
- Предупреждаю, мы включили счетчик!
- Конечно,
- Поликарпов будет президентом.
- Соседка нагадала – без вопросов.
- Володю уважает вся страна,
- А рядом с ним Баранов и Морозов,
- Ты видишь сам, шестёрки и шпана.
- Что ж, перспектива, видимо, ясна:
- Вот он, глаза уставшие прикрыв,
- Бежит вперед вечнозелёным полем,
- Федот смещается, Казак идет в отрыв,
- А сзади Алик – будь спокоен!
- Вот он обводит чуждую шестёрку,
- По центру, чтобы к Казаку пробиться,
- Нет. Вдруг подкат – и всё под горку
- Какую-то кудыкину кати́тся.
- Носилки, госпиталь, каталка.
- Жена ушла, осталася гадалка.
- Нет справедливости в подлунном мире.
- Три мушкетёра. А ведь их четыре!
- И все четыре падают из рук.
- Кто в тренировочном костюме,
- как физрук,
- С лица не видно, сзади Жаботинский
- Спит на диване, не разув ботинки?
- Кто обороне послужил опорой,
- До вице-капитана дослужился,
- Кто тот, за сборную играл который,
- А плохо бы играл – не спился?
- Кто президентом клуба ветеранов
- Мог стать по праву,
- а не выскочка Баранов? —
- Из боевого обращения изъятый,
- Штабною крысою гоним,
- Армеец бывший, номер пятый,
- Исправлено. Он был восьмым,
- Отдавший жизнь полузащите,
- Что для атаки всё же рождена —
- О нём, друзья, минуту помолчите…
- Нет. Грохот вдруг – упал Дюма!
- Нет, говорю, тут никакого зоопарка!
- – А почему нам голос слышится осла?
- Москва. Отрадное. Наколка Поликарпа,
- Которая быльём не поросла.
- По-гречески обозначает поли – «много»,
- А он зовётся сыном бога.
- Его лица необщие черты
- Имели сходство с нашим Анарбеком.
- Он, от полковничьей сбежавши черноты,
- Служил России просвещённым греком.
- Вот он с указкой у доски стоит
- И просит нас дойти до самой сути,
- Он экономию преподавал полит
- В Полиграфическом (опять же)
- институте.
- Мы ёрниками были молодыми,
- Учителя дразнили Постолуполз,
- А он в ответ шутил нам по латыни,
- Что хомо хомини эст люпус.
- Он говорил: пикантство, умность, глупство,
- Как старый Хайм из анекдота,
- В его глазах высвечивало чувство
- Святой обиды на кого-то.
- Нет, Поликарпов тут, конечно,
- ни при чём.
- (Он нам читал печатные машины),
- Когда полковник вскрикнул, обречён,
- Уехал грек в свои Афины,
- Своей компартии служить.
- А нам ещё лет восемь оставалось жить
- Под Леонидом Ильичом.
- Да. Поликарпов тут, конечно, ни при чём.
- Причина греческой печали,
- Как я уже и намекал вначале,
- Таилась в том, что звать его – Христос,
- Уж так учителя назвали мама с папой,
- Ученики же, повторяю, Постолуполз.
- Насчёт карандаша простого
- Мне позвонил товарищ из Ростова:
- – Ты, Поликарпов? Здравствуй, Николай.
- Привет тебе и нежной половине!
- А я ему: – Спасибо и прощай.
- Твой Николай – Коперник, Паганини!
- А он: – Вот именно, вот эта вот-вот-вот
- Твоя бывалая и удалая
- В тебе, Колюня, шутка выдаёт
- Тебя как, безусловно, Николая. —
- Довольно! Всё! На этом самом месте,
- Как Николай, я выкрикнул «Повесьте!»
- И сам повесил, раздражён
- Таким не мне приветом из Ростова.
- Что Николай? Простым карандашом
- В семнадцатом отрёкся от престола.
- Возрос под многочисленной звездой,
- Как Джомолунгма, брежневский застой.
- Друзья! Давайте наконец решим
- Пихнуть когда-нибудь такой режим!
- Ну что же, принято. И вслед решенью
- Образовалась группа по сверженью,
- Где я был членом, а всему главой
- Бывший сотрудник Коминтерна,
- пожилой,
- Но очень крепкий имярек, известный
- Публицист.
- Старик – его такая в группе кличка.
- Вокз. Белорусск., вся электричка
- Набита, может быть, за нами слежкой.
- Инструкция:
- Не мельтеши, но и не мешкай,
- Живи со знанием в уме
- и в сердце с верой,
- Внимания к себе не вызывай,
- Как разноцветный попугай,
- Но и не будь ты крысой слишком серой.
- Мы познавали конспирации законы,
- Чтоб на пути опасном и запретном,
- Не подавая виду, что знакомы,
- Вдруг встретиться
- в одном лесу секретном.
- Мы там тайком у ёлок и берёз, —
- В чём дело, как стоит вопрос, —
- Читали действия программу,
- А Старик
- Хвалил местами нашу речь,
- Но, чтобы не было улик,
- Велел порвать её и сжечь.
- Скуп на слова, строг, осторожен,
- Он все же допустил одну обмолвку:
- Теракт не нужен, но вполне возможен,
- И, – Надо бы отлить, – ушёл за ёлку.
- Нас обзывала дурнями ворона,
- Я нынче ей навряд ли возражу,
- Но имя нашего патрона
- Я даже ей теперь не разглашу.
- Как? Поликарпов?
- Есть такая версия.
- Их несколько. О том и разговор.
- Есть Полупанов, есть и Переверзев,
- Есть Поликлет и Дорифор.
- Без нашей помощи сам наступил звездец
- И раздавил немыслимую гору.
- А я не заговорщик, не борец,
- Но знайте: конспиратор по сю пору!
- – Не Поликарпов? Нет? А ну-ка повтори.
- Да, мы ошиблись, знаем, знаем.
- Ты вот что, Поликарпов, не дури!
- Твой голос, брат, как Пушкин узнаваем.
- Нет, не кудрявый. Липкий, как смола.
- Ты извини, пропитый и прожжённый.
- Так только Поликарпов с похмела
- Бросает трубку, раздражённый.
- А Пушкин что? Свет Царского Села
- От лицеистов отражённый.
- Как ни верти, со всех сторон
- Сей лист исполнен сущим вздором
- Автоматическим пером
- За телефонным разговором.
- Он разрисован и исписан
- Клочками речи, чёртом лысым,
- Кудрявым вензелем – узором
- За телефонным разговором.
- Автоматическим заявлены пером:
- Три мушкетёра вчетвером,
- Яиц десяток, пачка макарон,
- План, как добраться от Автозаводки
- До башни у бензоколонки, 2 бут. водки,
- Исправлено: Электро, мать её, заводки,
- Вокз. Белорусск., ваг. 9, профиль тётки,
- Из Вильнюса посылка с проводницей,
- Следы сознания, в его потоке
- А. Пушкин не был за границей,
- В Москве Набоков, я на Потомаке,
- Лосось, подчёркнуто, что в масле,
- не в томате,
- Чеснок от нежити и от простуд,
- Дом Архитект., 10-го выступ.,
- Осёл анфас, написано: Мидас,
- В. Ленин в круге. Подпись: Подколёсин,
- Из головы его объёмные растут
- 401–17-48
- И далее в таком же вкусе:
- Тел. дом. и раб. Мережниковой Муси,
- Эмульсия для стен и потолка,
- Её нога идет от каблука
- До основанья, а затем Миусы,
- Магаз. «Обои» или «Хозтовары»,
- Тел. дом. и раб. и моб.
- Прокудиной Тамары,
- Слон, видимо, из Гиты-Бхагавад, верблюд
- Из Библии, сосед из зоопарка,
- Нет, не заплатят, но стакан нальют,
- Портрет совы, написано: Тамарка,
- Три галки: хлеб, картошка и редиска
- Уже отмечены в спортивной сумке.
- Я иллюстратор, дочь моя буддистка,
- Везде разбросаны её рисунки.
- Как Виктор я несу в себе победу,
- На лбу написано: «Унылые – не мы!»
- Звонил компьютер,
- что отключат в среду,
- Ну что ж, и мне пора звонить соседу,
- Стучаться в клетку и просить взаймы.
- Подозреваю, всё-таки цензура
- Сей лист отметила своей виньеткой.
- Там Поликарпов, умолчания фигура,
- Надёжно заштрихован мелкой сеткой.
- Стоял в лесостепи под Ровно
- Полк танковый и папа комполка.
- Им лесостепь служила танкодромом,
- А мы там с Вовкою валяли дурака.
- Хлеб с колбасой, – сказал мне Вовка, —
- Сухой паёк, не бутерброд,
- Планшет с курвиметром – экипировка,
- И марш-бросок – не турпоход.
- И – марш в бросок!
- Под грозовым дождём
- При компасе и при бинокле
- Мы заблудились и промокли,
- Хоть плачь. Куда же мы идём?
- И вдруг я вижу, изумлённый,
- Как выступил передо мной
- Наш полк стеной серо-зелёной,
- Замаскированной стеной.
- Дёрн на плечах, на технике дубрава,
- И очень полный движется атас —
- Инспекторской проверки генерала
- Широкий полыхнул лампас.
- – А там, – гляди, – я в бок толкаю Вовку:
- На фоне Тэ-тридцатьчетвёртых башен
- Мой папа генералу обстановку
- Докладывает, ветками украшен.
- Тут вскрикнет тень моя усата:
- – Какая встреча! Папа! Папа!
- Повиснуть на его груди
- И разреветься, как корова!
- Но он мне: – Мальчик, отойди, —
- Сказал спокойно и сурово.
- Любому ясно крокодилу:
- Учения не сахар, не малина.
- Сам Поликарпов – зампотылу,
- А дочь его зовут Марина.
- Слыхали? Поликарпов, наш герой
- Опять остался на второй!
- Видать, он тем и знаменит,
- Что там как вкопанный стоит.
- Его вотще кусают мухи,
- На нём воркуют Боги-духи.
- Хоть он и глух к любой хуле,
- Друзья, дразнить его не надо.
- Бывало, взглянет, как Паллада
- С вороною на голове.
- Ба! Кого я вижу! Уж не ты ли?
- Но мы как звать друг друга позабыли
- И разговор вели при интересе,
- Таком, что как-нибудь в его процессе
- Мы выболтаем наши имена.
- Прощай, – сказал он, – старина.
- И я, – звони, – сказал, – старик.
- Как Поликарпов многолик!
- Он утверждает, что погиб двойник,
- А сам Гагарин в центре Краснодара
- Стоит в гостинице у стойки бара,
- И Че Гевара нет, не умер.
- Он волку говорит: «К ноге!»,
- Живёт отшельником в тайге,
- Как в Аргентине Кальтенбруннер.
- Звонит, бывало, среди ночи, где-то в три.
- Уподобляясь бешеной вороне,
- Как каркнет хрипло в трубку: – Говори!
- Что он в ответ услышит кроме?..
- В каком-то феврале,
- не столь уж отдалённом,
- Стоял я в очереди ветеранов ВОВ,
- Чтоб отовариться по именным талонам
- И вспомнить
- несколько английских слов.
- Стою. Универсам на Декабристов.
- И вдруг, не помещаемый в уме,
- Какой-то хрен с горы, неистов,
- Попёр на нашу очередь в чалме.
- Гляжу: индус как будто бы, и когти
- Как у джайнистского аскета.
- Тряпьём обмотан, в бабьей кофте
- Фрица в плену напоминает где-то
- Под Сталинградом. При Березине —
- Жан-Жака. – Объясните мне,
- Why, What for и почему, —
- Спросил он тоном, склонным к ссоре, —
- Тут нету места среди нас ему?
- Я объясняю: – I am sorry,
- Война вторая, слышал, мировая?
- Участники. Вот очередь. Талон.
- Для ветеранов. Не для крокодила.
- А он как вдруг покатит на меня баллон:
- Ты, что ли, воевал, мудила?
- Один из нас, наверно, пьян,
- Но я стране Джавахарлала
- Не лезу в душу, как вот этот павиан.
- Не я участник. Мама воевала.
- Вот
- Её удостоверение.
- Как сын имею право. Have a right.
- Таков порядок. Das ist Ordnung!
- Какой в ответ тут был исторгнут
- Истошный вопль из пасти павиана!
- Короче,
- Чтоб точней и без обмана,
- Вот пониманья моего подстрочник:
- У него тоже дед воевал
- Против английских поработителей
- На стороне немцев у Роммеля.
- И он сам —
- Против продажного американцам
- режима —
- Воюет.
- Не индус, но египтянин.
- Он, по-египетски меня обкаркав,
- Вбок ускакнул – и был таков.
- – Вот это тот, кто точно,
- кто не Поликарпов, —
- Сказали ветераны ВОВ
- И задумались…
- Гляжу, а всё-таки Минаев
- Кого-то мне напоминает…
- Он, как махатма, мухи не обидит,
- Бежит, как правоверный, табака,
- Он водку пьёт, он пьяных ненавидит,
- Он, говорят, зарезал бедняка.
- Нет, нет. Не Поликарпова.
- Но всё же…
- Свинья по году, а по знаку Козерог.
- Вдоль автобазы тянется забор,
- Он упирается потом в пивной ларек,
- Какой ньюфаундленд?
- Когда он лабрадор!
- (Вошёл беседы нашей поперёк
- К нам в трубку параллельный разговор.)
- Нет, это, знаете ли, не мои проблемы,
- Вас понял. Как?
- Не может быть, что в среду,
- Вчера друзей созвал супруг Елены,
- Я завтра с ними в Турцию поеду!
- (Обрывки речи, нашей параллельны,
- Поддерживают общую беседу.)
- – Алё! Что нового?
- – У нас? В четверг погас электросвет.
- Сказали, к празднику, наверно, обеспечат.
- А я: – Побойтесь Бога! Понимаю. Нет,
- Не виноват Минаев, наш диспетчер.
- И он, конечно, в том не видит смысла,
- Чтоб рухнул мой протёкший потолок,
- И чтобы крыса кабель перегрызла,
- И чтобы весь утёк электроток.
- Ещё в халатах белых гуманоиды
- Велели дочке выдрать аденоиды.
- Всё в остальном по-прежнему: среда
- Идёт за вторником, как и всегда.
- Но я надеюсь снова не увидеть взятых
- Плащей болонья из шестидесятых.
- Алё! Я там, в пятидесятых далеке,
- Среди киношников бывалых
- Стою, заметен в рыжем парике,
- Со мной – З. Фёдорова и А. Баталов.
- Кричит из матюгальника: – Мотор! —
- Наш Павел Карпов, режиссёр.
- Наш Поликарпов в метрополитене
- Однажды пал от страха на колени,
- Когда ему вдруг из прохладных ниш, —
- Шалишь, брат, – голос был, – шалишь!
- Не Поликарпов, брат его Валера,
- Дурак какой-то ненормальный,
- Ствол отвинтил от револьвера,
- Который пограничник инфернальный
- Сжимает до сих пор в руке
- С Анубисом на поводке.
- Подземный рядом с ним матрос
- В упор ужасный задаёт вопрос:
- – Ты, Поликарпов, спёр мою гранату?
- – Не виноват я! Обращайтесь к брату!
- Но им без разницы, который брат
- Как Поликарпов виноват.
- И мне был голос. Женский из Рязани:
- – Ужо настанут Мартовские иды,
- Придут и всех замочат марсиане
- За преждевременную гибель Атлантиды!
- Не Поликарпов, брат его Валера
- На днях у Яхина без спроса взял
- С картинками, но драного Гомера
- И штемпелем: «Читальный зал,
- Фонтанка 8, Ленинград».
- Как дважды два Валера виноват.
- Но тот, другой, виновен в кубе,
- Один из Яхиных, чья поднялась рука
- Усы и бороду пририсовать Гекубе,
- Глаза проткнуть Приама старика.
- Уж ежели казнить,
- так мстительную дуру,
- Раздорами живущую Эриду.
- Отдельно вырезать и сжечь её фигуру
- Как главную везде обиду.
- И с той изменщицей, дебильной тёткой,
- Той, что мозги запудрила царям,
- Не цацкаться, а дать по жопе плёткой
- И в кандалах на нары, к блатарям!
- Туда же слить и скользкого Париса.
- Он дважды вор и трижды крыса.
- А наш-то хитроумный Одиссей?
- Вся хитрость,
- что притворный и жестокий.
- Любой скотины не мудрей,
- Туда подбросил он вещдоки,
- Куда надыбал сыскарей.
- Не в радость кайф ему,
- к несчастию победа
- Без им загубленного Паламеда…
- Быть может, с точки зренья Афродиты,
- Ахейцы – оккупанты и бандиты,
- Но, в силу ей полярного примера,
- Афина любит их и Гера.
- Кто против наших?
- Афродита, Аполлон,
- Сам Зевс местами и иные боги.
- Как ни верти, а все же мы пистон
- Троянцам вставили в итоге!
- То не серый слон индийский
- Во главе английской рати
- Растоптал Буонапарта.
- То вошёл верблюд калмыцкий
- Под казацким атаманом
- Триумфатором в Париж!
- То не кельтов сын Мак-Дональд
- Второпях сказал: «Куикли!»
- И в историю вошёл.
- То поручик Поликарпов
- Первым выкрикнул: «Быстро́!»
- И в забвении почил!
- Звонит худред и говорит, что Вера
- Порфирьевна, их главная литред,
- Сказала про мои рисунки: нет,
- Стиль, мол, не тот, не та манера.
- Такие вредные худреды и литреды.
- – И я вас также —
- С праздником победы! —
- (Случайный голос поперёк беседы.)
- Чей голос? Ясно и ежу.
- Я на него давно грешу.
- Давно штаны короткие покинув,
- Я вдруг задумался над выпавшей мне фишкой
- Играть в кинематографе мальчишкой
- Как Айвар Тауринь, как Сашка Евдокимов,
- Висеть на площади Козловым Мишкой.
- На этой площади далёкой, но центральной,
- Не Красной, но опять же, Театральной
- Стояло здание одно,
- Известное как «Стереокино».
- В нем красно-синие очки
- для пущего объёма
- Давали зрителям, а на фасаде дома
- Фильма герой, аз недостоин, грешен,
- Монументально был повешен.
- На этом месте, отовсюду видном,
- Вокруг меня, как братья возле брата,
- Президиум ЦК в порядке алфавитном
- Висел, как я, – такого же формата.
- По высоте, я помню, десять метров,
- По ширине, я вспоминаю, пять.
- О том гудели нам «Победы»
- в стиле ретро,
- Что нас оттуда невозможно снять.
- Там были Аристов, Беляев, Брежнев,
- Забыл. Игнатов, Кириченко и Козлов,
- Но Фрол и Куусинен Отто,
- Опять забыл. Ещё, конечно, кто-то.
- Конечно, Микоян и Поликарпов,
- Мих. Суслов, Фурцева Екатерина,
- Хрущёв Никита, Шверник, я.
- О том мои забыли однолетки,
- А нынешние знать того не знали,
- В какой концерт сажали нас «Победки»!
- Нет, всё-таки однажды сняли.
- На Трубной,
- где я жил и умер Джугашвили,
- Меня сограждане едва не раздавили,
- Чтоб жизнь моя не показалась мёдом
- И чтобы выжившие крепче здоровели
- В пивном ларьке,
- Набитом доверху народом
- При Горбаче на Руставели.
- Сбылась мечта. В любую непогоду
- Ты в круглосуточный заходишь угловой,
- А там всего полно! И – никого народу!
- Друзья! От радости такой
- Вполне возможно удавиться,
- Поскольку не с кем ею поделиться…
- Ба! Айзенберг!
Айзенберг Михаил – поэт
Алик – защитник
Алла – училка
Анарбек – студент Полиграфа
Анубис – бог царства мёртвых, изображ. в виде шакала и собаки
Аполлон – бог покровитель искусств
Аристов – член Президиума ЦК КПСС
Афина – воительница, богиня мудрости
Афродита – богиня любви
Баранов – шестерка, шпана
Баталов А. – киноактер
Беляев – член Президиума ЦК КПСС
Брежнев Леонид Ильич – генсек КПСС
БТ – быстроходный танк, Болгартабак
Буонапарт – см. Наполеон
Валера – брат Поликарпова
Вера Порфирьевна – литред
Виктор – победитель
Вовка – сын офицера, курил дубовые листья
Всяк – Всеволод Якут, народный артист СССР
Гагарин – был в космосе
Гекуба – героиня Троянской войны, мать говнюка
Гера – богиня супружества
Гермиона – дочь Елены и Менелая, брошенная матерью ради говнюка
Горбачёв – президент СССР
Декабристов – универсам на
Джавахарлал – премьер-министр Индии
Джугашвили – вождь СССР
Дорифор – копьеносец
Дюма – отец, писатель
Евдокимов Сашка – герой фильма «Дело Румянцева» (реж. И. Хейфиц)
Елена – жена Менелая, любовница говнюка
Жаботинский – олимпийский чемпион, штангист
Жан-Жак – типовой француз
Зевс – глава Олимпа
Игнатов – член Президиума ЦК КПСС
Казаков – нападающий
Кальтенбруннер – начальник Главного управления имперской безопасности имперской канцелярии Третьего рейха
Карпов Павел – режиссёр с матюгальником
Кириченко – член Президиума ЦК КПСС
Ковальчук – ошибочно, надо Коваль
Козлов Мишка – герой фильма «Дружок» (реж. В. Эйсымонт)
Козлов Фрол – член Президиума ЦК КПСС
Кондакова – см. Алла
Коперник Николай – астроном
Куусинен Отто – член Президиума ЦК КПСС
Ленин В. – совершил ВОСР
Мак-Дональд – основатель мирового общепита
Марина – дочь Поликарпова
Мережникова Муся – хорошенькая
Мидас – царь с ослиными ушами
Микоян – член Президиума ЦК КПСС
Минаев – диспетчер РЭУ
Морозов – шестёрка, шпана
Набоков – не был в Москве
Наполеон – был в Москве
Николай I, II – цари: Палкин, Кровавый
Одиссей – герой Троянской войны, хитрожопый
Паганини – скрипач
Паламед – герой Троянской войны, убит своими
Паллада – опора для вороны
Парамонов – нападающий
Парис – герой Троянской войны, говнюк
Переверзев – киноактёр
Подколёсин – герой Гоголя
Поликлет – скульптор
Полупанов – нападающий
Пономарёв – защитник
Постников – художник
Постолуполз – см. Христос
Приам – герой Троянской войны, отец говнюка
Пригов – Дмитрий Александрович
Прокудина Тамара – пучеглазая
Протопопов – министр внутренних дел
Пушкин – был в Турции
Роммель – генерал-фельдмаршал
Руставели – грузинский поэт
Стопани – делегат II съезда РСДРП
Сукарно – президент Индонезии
Суслов Мих. – член Президиума ЦК КПСС
Тауринь Айвар – герой фильма «К новому берегу» (реж. Л. Луков)
У-2 – кукурузник
Фёдорова З. – киноактриса
Федотов – нападающий
Фриц – типовой немец
Фурцева Екатерина – член Президиума ЦК КПСС
Хайм – старый, герой анекдота
Христос – преподаватель политэкономии
Хрущёв Никита – был на Потомаке
Ху Яобан – председатель ЦК КП Китая
Че Гевара – герой кубинской революции, аргентинец
Шверник – член Президиума ЦК КПСС
Шестернев – см. Алик
Эрида – богиня раздора
Яхин – во дворе татарин
1998 г.
2. Мимо Риччи
Тот который
- Ношу военные из хлопка
- носки и прочий трикотаж,
- шутя на «хэ» живу неплохо, а также
- желал бы жить ещё не хуже
- всегда везде и всюду здесь
- Я – тот, кто кашляет простужен
- Я ТОТ КТО ЕСТЬ, Я ТОТ КТО ЕСТЬ!
- Я тот, который есть желая
- Любые знает пироги,
- Беги меня собака злая —
- ВСЕ ДУРАКИ, ВСЕ ДУРАКИ!
- Все дураки меня не любят, ибо, —
- скажу спасибо, —
- Я ТОТ КОТОРЫЙ, ТОТ КОТОРЫЙ
- я тот, который был водой!
- я тот, в кого булыжник бросят,
- я тот, который крикнет: ТВОЙ, —
- когда его о часе спросят.
«Безвестный труженик отъехал в Гудауты…»
- Безвестный труженик отъехал в Гудауты,
- Раскрыл в Одессе «Прапор перемоги»
- И видит, без десьти его минуты,
- Как шиты руки и покрыты ноги.
- И как к столу его лечебной грязи
- Медянка выставит штрафную рюмку йода.
- Яд как бальзам. И не ко благу разве
- Яд как бальзам. И сторожем свобода?
- И не ко благу ли купальщики решали,
- Была ли не была ли. И была!
- Ногой смотрели, дескать, хороша ли,
- Как камениста, впору ли тепла?
- К их берегам притёртая вода
- Давно кипит, выпаривая соли.
- Вся в йоде синь и склянь её видна,
- А все всегда ли всё? И всё ли?
- Скрипи, скрипи, притёртая вода.
- Скребком и ломом скалывая лёд,
- Все льду кричат: «Давай, давай, давай!»
- И кто его похвалит: «Во даёт!»
Привет из Крыма!
1
- Станут наушничать матушки-зимы,
- Как мы бесстыдно гуляли раздеты
- Колкие цветики из древесины
- Прятали как в надувные пакеты
- Станут расписывать многия леты
- Как затрещали степные кобылки
- Как загудели пустые бутылки
- Ветром наполнены словно пакеты
- И натолкуют такие мешки
- Торбы нашепчут такие как горы
- Где я любовно снимаю вершки
- Местной, татарско-украинской флоры
- Счастья не слышу, одни разговоры:
- Вишни сорт перший и зимние вирши.
2
- Здесь я скажу: этот край, этот Крым,
- Этот жучок на ладони умерший
- Дух затаил, ну а мы говорим:
- Господи, как восхитительны козы
- Или занятны собачьи стада
- Или бежим за букетом, куда
- Плотник шипы насажал и занозы
- Да. Мы бежим, обнимая друг дружку
- Чтобы с каким-нибудь встретиться зверем
- Фу! Отряхнувши последнюю стружку
- Плотник вздохнул и опилки развеял
- Вот, загляните, пожалуйста, в ящик
- Видите, кустики, горы и тучи
- Ваши бутылки, пакеты гудящи…
- Матушки-зимы сказали: трескучи
- Здесь вроде фона устроено море,
- Профиль колосса в тумане долины
- В мареве знойном, в тоске о повторе
- Вы же искали какой-то полыни?
- Нет, маяты. Или, может быть, мяты?
- Или малины на лоне долины?
- Матушки-зимы сказали: – Звездчаты
- Эти букеты, батюшки светы
- Батюшки светы сказали: – Якши
- Многие леты сказали: – Як треба
- Я, привереда, про ящик: – Скажи,
- Господи, как понимать это кредо?
3
- Девушка Надя ответила: – Разве
- Мне неизвестно в мои-то лета,
- С чем мы вошли в отделение связи?
- Это посылка. Она принята.
- Здесь принимаются наши пакеты
- Шьются мешки, зашиваются торбы
- И отсылаются Urbi et Orbi[2]
- Миру салюты и Граду приветы.
Пейзаж со статуей
- Там за госпиталем горки, а на горках хвойный лес,
- Небольшие километры места чудного вокруг.
- Посреди лесных массивов выступают тут и там
- Исполинские озера возле зданий корпусов.
- Возле зданий корпусов много лодок, тишина.
- Танцплощадка, клуб, киоски, биллиардная, буфет.
- И прекрасная купальня входит в воду и выходит,
- А в воде, как и на суше, всюду статуи стоят.
- Вот и я в газетной шапке, на носу зелёный листик,
- Встану с теннисной ракеткой – всюду буду тут стоять!
- Не пойду на ужин в девять. Отойдите! Наблюдаю,
- Как проходят километры места чудного вокруг.
Отрадное
- С Неглинки прочь, сюда во тьму,
- тьфу таракань её, уму
- не представимую
- ну переехали, ну и
- что нового? Дурной вопрос.
- В окне горят у овощного
- 12 ящиков на выброс
- и стружек 5 кило на снос.
- А гули, пакостные птички,
- теперь в моё одним глазком
- окно упёрлись по привычке
- где хлеб им? и в каком таком
- неописуемом порядке
- вещей со светочем на стуле,
- с его ногой на табуретке,
- располагаются кастрюли,
- стакан и тряпки на прищепке,
- стол, а на нём «Напареули» —
- откуда, тут, на Рижской ветке?
- Ах, гули, гули…
- Тут всё разбросано не зря,
- и в дальних планах пустыря —
- поставить баню возле овощного.
- Как же, какая же вита нуова
- без зеленного и Сандунова?
Пустырь
- выложено кирпичом:
- к плечу плечом!
- надпись из гравия:
- желаем здравия!
- Я к новосёловой судьбе
- Пришёл, как в ясную неволю[3], —
- В мой новый корпус 9б —
- По запредмеченному полю.
- Здесь зарастает поле быта,
- Здесь надо жити пустырю,
- Здесь, слоем вещевым покрыта,
- Цветёт земля. Я говорю:
- Боюсь хулить,
- кого не надо.
- Боюсь хвалить,
- на что сердит…
- Журнал с портретом космонавта
- На куче лиственной горит,
- Диван стоит в весенней луже,
- Виляет кабыздох хвостом,
- Мной под диваном обнаружен
- В тоске о ясном и простом.
- За мною он побрёл, голодный,
- В тоске о ясном и простом…
- Лежит, к сидению не годный,
- Частично стул, отчасти стол.
- Я в мыслях кланяюсь обоим.
- И у вещей – свой тяжкий крест!
- Столу – за локоть упокоен —
- Спасибо!
- Стулу – за присест!
- Вот голенище без размера,
- Вот целлулоид без штанов,
- Портфель с табличкою: «Валера
- (Век не забуду) Жигунов».
- Я вижу, как предмет подброшен,
- Пал в этом месте, в том году.
- Поддену лёгкую калошу,
- Набухший ватник – обойду!
- И землю чую под собою,
- Узрев далёкий экскаватор,
- Где ест буханку с колбасою
- В кабине – кто? —
- Стройбата прапор?
- Тамбовский волк? Аннигилятор?
- Однажды встрепенутся грозно
- Они, с проклятьем возле уст —
- На свалку двинется бульдозер:
- Да будет чист пустырь и пуст!
«Не сесть за стол, чтоб океан какой-то не потрогать…»
- Не сесть за стол, чтоб океан какой-то не потрогать.
- Лежит в Атлантике мой левый, в Тихом правый локоть,
- Располагаются локтей посередине
- Простой 2В на плавающей льдине
- И виды сверху на страну мою огромную.
- Я революцию проделал за столом
- Бескровную. Настольная папира
- На рвань пошла, как некогда на слом
- Отживший мир пошёл,
- А вместо – карта мира
- Клеенчатая кнопками прибита.
- Я отказался от поддержки табурета.
- Мне табурет был тем неинтересен,
- Что я всегда среди старинных кресел
- Сижу в уме. А табурет бездарный
- Блестеть желает, тряпкою протёртый,
- Как карта мира.
- В комиссионке на Полярной
- (Автобус 124-й)
- Я выбрал кресло. Цвет морской волны.
- С травой внутри, как сказано, морскою.
- Вот я сижу на нём. Сейчас блокнот раскрою
- От Гималаев и до Аппалачи
- Да напишу простым карандашом
- Об этой рухляди, об этой неудаче:
- Дышу трухой сенною, раздражён
- Прорехами в его спине и грубым промахом в цене —
- Да будет ли конец подорожанью?
- Я стал художник Витя на стене.
- Гляжу, как тень, способна к подражанью,
- К оседлости и к перемене мест,
- Располагается to do the best.
Дух назойливый
- Я о том спеваю честно,
- Как, бывая на столе,
- Он крыло ногой почистит,
- Грязелюб и сластоед,
- Как он сам на стенку влезет,
- Как покажет свой естест
- Вертикальный с места взлёт
- И, о вдруг, его присест!
- Взмыл как не был, сел как влип —
- Вы б так смогли б?
- Страшно нам такое трогать —
- Он заламывает локоть,
- Шею чешет, уши трёт,
- С головы лицо стирает,
- Моет руки, как в театре —
- Понарошку: нуте-с, нуте-с,
- Замахнитесь и проснитесь!
«Купальщик ловит длинный луч…»
- Купальщик ловит длинный луч,
- Вслед за лучом вертя мордаси.
- Песком облеплен и живуч,
- На водном плавает матрасе.
- Когда б я жил своим умом,
- Когда б не тень под небесами,
- Всю жизнь на змее надувном
- Передвигал бы телесами
- С гитарой, картами, вином,
- С детьми, катящими колёса,
- И ты – подвинута умом —
- Со всеми голь простоволоса
- Бежишь, покамест носят ноги
- Прочь от дождя, и вместе с ним
- Пересекаешь диалоги
- За разговором подкидным
- Такой же ящерицей прыткой
- Ты с вышки из семи досок
- Шагнешь солдатиком и рыбкой
- Нырнёшь за мячиком в песок,
- Когда товарищ волейбольный
- Ужасно хлопнет по мячу —
- Ты – отведёшь удар убойный,
- Погасишь – ты – мою свечу!
Выдь на Тверскую
В. Ходасевич
- Но слушай: мне являться начал
- Другой, другой автомобиль…
- Стою во гневе, как пророк,
- Рожденный на Тверской браниться
- Моей дороги поперёк
- Не едет прочь, но длится, длится,
- Блатным числом пронумерован,
- Слепыми окнами украшен,
- От злого духа бронирован,
- И сам, как будто нежить, страшен —
- Что он такое в самом деле?
- Как он зовётся? Лимузин?
- Мустанг ли, Крайслер, Бэ-Эм-Вэ ли?
- Кто там внутри? Иди Амин?
- Товарищ! Мне его не жалко,
- Что он хулой моей отмечен.
- Ведь он – длиннее катафалка,
- Как универсум бесконечен!
- Товарищ! Выйди на Тверскую.
- Я там тоскую изумлённый:
- Какого ляда и Амина
- Все тот же Мерседес продлённый
- Не едет прочь, но длится мимо?
Песня кукушки
1
- Что ни говори, а здорово всё-таки,
- Что лежат рядом с нами
- Угри в Северо-Восточном округе
- С севрюгами и осетрами.
- Это в нашем-то спальном районе дальнем,
- Это на нашей-то серой ветке —
- Лягушачьи лапки в ближайшей палатке
- И как поросята креветки.
- Но, за отсутствием карманов,
- Это пекло для иных гурманов.
- И копченые языки
- Их обзывают: Эй, босяки!
- Не будьте телятами —
- Обзаводитесь деньгами проклятыми,
- Ибо, как говорят окорока,
- Жизнь коротка,
- А вы проваляли всю жизнь дурака.
2
- Не исчезают в нетях времена,
- Когда в сердцах прохожий говорит,
- Что нету здесь ни редьки, ни хрена
- И крытый рынок – даже не покрыт!
- И рынка нет. Один сплошной пустырь.
- Нет пустыря. Одно в лесах болото.
- Гадюка там шипит на божий мир,
- И славит мир кукушкина икота.
Заговор против херочувствия
- Девочка домовая,
- Кем тебе доводится
- Ведьма-девица?
- Плакают родичи
- В думах о дочери,
- Как бы получше:
- То!
- Женихов созывают и мучают,
- То!
- Убегают с неполными ведрами —
- Разве так хвалят и разве положено
- Перед гостем спотыкаться притворно?
- Вот и картинки-то все перевернуты —
- Нету вам ужина.
- Жучок чох!
- Хлопоты на макушку!
- С макушки жучками
- Да многожучниками
- Иди, порча, прочь —
- Женихам хер дрочь!
Заговор против безденежья
- Постным маслом сковородку
- Черезмерно поливала
- Алла, чтоб не пригорала,
- Приговаривая: – Штучки
- Эти нам в муке обрыдли,
- Обваляются с получки,
- Как мороженые рыбы,
- И с залитыми очами
- У дверей гремят ключами,
- Чтобы слышали иные,
- Как способны ледяные
- Рыбоньке, хозяйке, злючке
- Бабоньки принесть с получки!
Заговор против холерной рвоты
- Против действия холеры
- В виде рвоты изо рта
- Применяется берёза
- Алкоголем залита.
- Позабыв про чувство меры,
- Выпьем раз и два нальём.
- Нас тошнит не от холеры,
- От берёзы мы блюем!
Заговор против бородавок
- Некрасивый, нелюбимый,
- Сядь на липовую лавку.
- Сделай массу из рябины,
- Нанеси на бородавку
- И воскликни, чтоб вдали
- Каждый слышал: «Отвали!»
Гомон
- Ребята!
- Наша стая перната, хвостата, крылата.
- Ребята!
- В стае состоя, крякая да вякая —
- Покурлычем про всякое!
- (Курлычут.)
- – Курлы-курлы прилипло к языку,
- Как извращённое ку-ку!
- – Курлы-курлы не липнет к языку,
- Естественней ку-ка-ре-ку!
- – Курлы-курлы – жаргон урлы,
- Не говорят орлы: курлы-курлы!
- – А говорят, что у орлят
- Уже в яйце орлиный взгляд.
- – А у пеночки – кривые коленочки.
- – А у синички – под глазами синячки.
- – А у клестов – полно глистов.
- – А у дубоноса – в зубах папироса.
- – А у нас, у птак, теперь всё не так.
- И о козодое представление другое,
- И в смысле попугая линия другая.
- – А вот пищуха-то – сама щупла,
- А щупала щегла!
- А чего щегла-то щупать-то ещё-то?
- Щеголиха выщипала ему тыщи.
- Она и легла-то под щегла-то ради злата.
- Щас гол щегол как кол,
- К тому ж – алкогол!
- Ну, пищуха, чувиха, чуять
- Надо на почве чувств, чуять!
- – Это я, тетерев, насчёт директив.
- – Затребуйте у стрепета.
- – У стрепета, стрепета…
- А где стрепет-то?
- – Стрепет у сарыча, сарыч у сапсаныча,
- А сапсаныч на плече
- У человече, а человече далече.
- – А я вертишейка Толяка,
- Меня волнует клоака.
- – А я волнистый Валера,
- Весь мир – вольера.
- Такой дурдом, что пардон!
- – Полезен ли поползень для области?
- Его поползня мышиная возня.
- Не полетит поползень в Пльзень!
- – А вот индюк, болтун и балабол,
- Слетал на Балатон.
- Теперь долдонит, как неоплатоник,
- Что основа – Платон, но основное – потом.
- Позор! Послали позёра на святые озёра!
- – Петь, Петь, надо терпеть.
- – А я не могу. Прилетаю в Калугу,
- Иду по лугу да гуляю по лугу,
- И куда там ни плюнь – всюду лунь луговой
- С головой сивой, злой, агрессивной,
- Псиной воняет невыносимой.
- Ну его, думаю, плюнь.
- Плюнул, а там лунь
- Луговой и лукавый
- Стоит как лягавый
- Нету птаков дрянней
- Луговых луней.
- – А говорят, был приказ…
- – Тссс! Среди нас бекас.
- – Это я, тетерев, насчёт директив.
- – Затребуйте у стрепета
- Детского лепета.
- – У стрепета, стрепета…
- А стрепет-то где?
- – Где, где…
- Тарахтит на тахте.
- – А где она, тахта-то?
- – Да тут был когда-то.
- – Это ты про тахту-то, про тахту-то,
- Что она тута?
- – Про тахту, про тахту.
- – Ну и где она, тахта-то?
- – Да тут была когда-то.
- – Да нет её тут, тахты-то.
- – Ну а сам-то как, ты-то?
- – Кто, я-то, я-то?
- – Да ты-то, ты-то.
- – Да вот спина моя крылата,
- А на ногах моих копыта.
- – А я тут щурка
- Щурка пчелоед. От меня один вред
- Ем пчёл. Причём
- Перестал есть пчёл —
- И на тебе: выродок, сказал зимородок.
- – Потому что щурка глупый, как чурка.
- – Кто, я-то, я-то?
- – Да ты-то, ты-то.
- – Эх, голова моя перната,
- Словно харя не побрита.
- – А я тут сыч, Иван Фомич
- И сын мой сыч – Фома Иваныч
- И его сыч – Иван Фомич.
- Мы сычи многочи,
- Многочи-богачи
- А у филина – одна извилина.
- – А я сова, сова сплюшка
- С кем сплю, тому и шепчу на ушко:
- Спишь, что ли, спишь, что ли?
- Не спи, не спи, спинку
- Почеши да грудку.
- – А я тут утку
- Утку чесал блохастую
- Это я хвастаю, хвастаю!
- – А я хвастаю,
- Что цаплю чесал голенастую.
- – А я ржанку, задрав ей пижамку.
- – А я пискульку, поскольку
- Пискулька не пигалица
- И как змеюка двигается.
- – А я клушу за милую душу.
- – А я тётку авдотку
- За закусь и водку.
- – А я лысуху за мясную муху.
- – А мне за кусочек сала
- Синичка вчера отчесала.
- – А мне был сон
- Во сне был Сам.
- Из пепла, говорит, восстану —
- И всех достану!
- – А мы тут галки
- Галки со свалки
- Вспоминают галки
- Битву при Калке
- И Грюневальде,
- Эх, наливайте!
- – А я по пьянке, на Лубянке будучи,
- Сидел на Эдмундыче.
- – А я попирал Николай Василича
- Это такая силища!
- – А я попирал Человека матёрого,
- Позабыл как зовут которого.
- – А мы тимирязевцы. Нам все без разницы.
- Климент Аркадьевич или Климент Ефремович
- Была б голова – остальное усядется!
- – Алё! Это гусятница?
- Попросите гуся. Почему нельзя?
- Говорит его кожа гусиная
- В натуре желтовато-синяя
- Передайте гусю, что без пёрышек
- У него очень много пупырышек!
- – А я тукан, стучу об стакан.
- Пустовато там, пустовато.
- А ведь натура-то натурата
- Не терпит пустоты-то.
- Ну а сам-то как, ты-то?
- – Кто, я-то, я-то?
- – Да ты-то, ты-то.
- – Что я свил, то и свято.
- Но это я-то. А ты-то?
- – Отлетаю от быта.
- – Вить, Вить, а вдруг пора посметь и свить?
- – Фьюить-фьюить…
- – А я в душе пою о чиже.
- Ты чего, чиж, молчишь?
- Взял бы листочек, чиркнул бы строчек
- Пару-пяточек
- Насчёт птенчиков да гостинчиков.
- Уничижаться перед чижом —
- Не перед чужим!
- – Выскажусь кратко:
- Куропатка – психопатка.
- Смазав пятки, беги без оглядки
- От куропатки
- Бывают ребятки.
- – А я заморил червяка – ам!
- И сыт навека. Мам!
- А отчего ворона – ворона?
- – Оттого, что ПВО
- Против воздуха оборона.
- – А у аиста-то не стоит!
- Об этом-то я и кукую:
- Сам-то аист стоит, как этот.
- А этот-то – ни в какую!
- – А у меня, у марабу,
- Написано на роду,
- Что я как негритос
- Распространяю орнитоз.
- – А что такого нам привёз
- Какаду из Катманду?
- – Да кой-какие пустяки для пустельги
- – Говорит пустельга,
- Что жизнь недолга
- Пусти пустельгу на неделю
- Постоловаться в постелю.
- – С постылым-то постоловаться
- Как со столом поцеловаться.
- – А я по масти божьих пташек
- Определяю вид монашек:
- Вороная спинка – бенедиктинка
- Бурая самочка – францисканочка.
- – А мы тут гули. Гули-гули.
- Гуляли, гуляли, а нас обули.
- А нам-то гули? Ну обули так обули.
- С этой минуты
- Гуляем обуты.
- – Это я, косач, насчёт недостач:
- Подскажи-ка, сорока, где нету пророка?
- – Где, где… На тахте!
- – Это ты про тахту-то, про тахту-то?
- – Про тахту, про тахту…
- – А я про свободу!
- Про свободу пою удоду,
- А удод – об иллюзорности свобод,
- Потому что ходит удод
- Тайком в огород
- И там верит пугалу как идолу!
- – А моей веры предмет —
- Под корою короед.
- Есть обед – спасибо тебе, короед!
- Нет обеда – верю в короеда!
- Таково моё кредо.
- – А вот орлан верит в аэроплан
- Как в исчадье птицелова
- Гусь буду, честное слово!
- – А я верю в чибиса, а не в чудеса!
- – А мы к вам овсянки по поводу овса!
- – А мы коноплянки насчёт марихуанки!
- – А мы к вам от ибиса
- По поводу Анубиса!
- – А мы к вам по поводу Попова.
- Чучело готово?
- – Кто-то, ты кто?
- – Я тот, кто кто-то!
- – Кто, ты-то, ты-то?
- – Да я-то, я-то!
- – А я лунь болотный.
- Хожу как гусь голодный.
- Есть охота, да нет болота.
- – А мы братцы воробушки, единоутробушки.
- Летим к старушке на предмет горбушки.
- – И мы к старушке на предмет горбушки!
- – На предмет контактов всех птеродактов!
- Взлетает стадо на предмет чего надо.
- Птахи!
- Не о том наши взмахи,
- Что мы, суматохи, собираем крохи.
- А о том наши трели,
- Взмахи и вздохи,
- Что мы, птахи и суматохи,
- Не змеи, не звери, не блохи, не рыбы!
- А ведь могли бы,
- Могли бы,
- Могли бы.
3. Особенность конкретного простора
Встреча
- …В первой, может быть, декаде,
- Думаю, что до обеда.
- Так, понятно. Пушкин. Сзади.
- Лучше где? У Грибоеда?
- Где-нибудь в районе, вроде
- Трёх, возможно, без десьти?
- Да. В подземном переходе.
- Нет. Я должен быть к пяти
- На Савёловском. С детьми,
- Понимаете – на дачу.
- Если к часу я иссякну,
- То тогда же вам и звякну
- И наш план переиначу.
- В два конца – поймите – глупо!
- Я не корчу сибарита.
- Как у вас во вторник? Глухо…
- В среду? Тоже всё забито…
- Вот Господь послал заботу.
- Нет, я не могу. В субботу
- Я – в хозяйственных вопросах.
- Вы, конечно, на колёсах?
- Вот и я хожу пехотой
- И в тени жилых утёсов
- Воздыхаю с неохотой.
- Жаль. От центра удалённый,
- Я – всему далековатый.
- У какой? Восьмой колонны?
- Знаю, нету там девятой.
- Чтобы нам договориться,
- Надо очень постараться.
- Хочешь, в пятницу в 7:30
- В вестибюле у торца?!
- Хорошо. В последних числах,
- К Малой Бронной по пути.
- У прудов – согласен – Чистых.
- Нет, я должен быть к пяти
- У зубного Степаненки.
- Может, в восемь на Петровке?
- Буду я стоять у стенки,
- Знаете, в такой ветровке…
- Думаю, что мы, наверно,
- Возле – около, примерно,
- Всё-таки пересечёмся
- В направлении взаимном,
- Непременно, непреложно,
- Между делом и поспешно.
- Это ведь вполне возможно?
- – Да, конечно, неизбежно!
Природные условия
- люли-люли, betula,
- люли-люли, pendula[4].
1
- В дорогу мама мне дала букет
- Из ноготков и гладиолуса.
- А этой твари по сю пору нет.
- Опять она куда-то подевалася!
- Ведь слышит, бестия, как издалёка
- Бранится мать «бессовестной скотиною»
- И призывает: «Клёпа! Клёпа!» —
- С букетом, словно с хворостиною.
2
- Ну, до свиданья. Рейсовый автобус
- Меня повёз до станции Морозки,
- Качается в букете гладиолус,
- Мелькают за окном берёзки,
- Бабуля рядышком уснула,
- Я про берёзку думаю: бетула…
3
- …Бетула, думаю, плакучая пендула.
- О, как привык я к белизне твоей коры
- И к рыжине подкоркового слоя!
- – Да! – за спиною кто-то говорит, —
- Уж таковы природные условия.
- – И каковы они? —
- Бабуля встрепенулась.
- Мол, не спала, но вдруг проснулась.
- – Они – для разума
- желательная пища,
- Они – и радость наша, и беда.
- Сплошные горизонты! Широтища!
- А вот дороги наши – никуда!
- Ни к чёрту! Хоть возьми да тресни!
- И вот что интересно: если
- Вдруг недород – то надо закупать.
- А денег нету. В силу недорода!
- Но хуже – урожай! Куда его ссыпать?
- Везти в Снежанск?
- Поломана дорога!
- Стою среди своих товарищей, растерян,
- Поскольку труд их урожаем обесценен.
- Да и «кому грузить?»,
- да и «на чём возить?».
- Не счесть вопросов иже с ними трудных…
- Ему порой бывает выгоднее – гнить
- В условиях таких паскудных! —
- Кому – ему? Соображаю,
- Что – урожаю.
- – А вы как полагаете? – Я полагаю,
- Что о предметах, мне далёких, —
- не сужу.
- – Вы сходите? – спросила Пелагея
- Васильевна. – По-моему, схожу.
4
- Приехали. На станции Морозки
- Встречаю Клёпу в обществе хвостатых
- Вокруг неё облезлых отморозков,
- Котов – неистребимых супостатов.
- Ну, курва! Пшла домой! —
- Стремлюсь её догнать,
- Из-под кустов, из-под земли её достать,
- За всё – физическим букетом
- ей воздать,
- Словесною картиной угрожая
- О пагубе иного урожая!
Передряга
- Со мною случай на метро «Арбатской»
- Произошёл весьма дурацкий.
- Запомним: нищий, к стенке прислонённый,
- Сидит с гармошкой – без руки.
- Навстречу панк идёт с причёскою зелёной,
- За мной постукивают шпильки-каблуки
- Трёх женщин – трёх различных рас.
- Да. Я о фатуме, конечно, повествую.
- Споткнулась чёрная. Но не о том рассказ —
- Она ногой поддела мятую, пустую
- «Джин-тоник» банку жестяную.
- И вот помчалась жестяная банка
- С подскоками – к ботинку панка.
- Тот бьёт по банке – китаянке —
- Ей на подъём и под её замах.
- Она, в вельветовых штанах, —
- Бьёт! – в гармониста попадает. Нищий
- Сам молодой, но с Карабаса бородищей,
- Единственной рукой с татуировкой «вор»
- Меня расстреливает банкою в упор!
- Я уклоняюсь, белую сбиваю проститутку,
- Её, чтоб не упала, ухватив за грудку.
- И мы вдвоём, испуганы, как дети,
- Заваливаем, падая, мента в бронежилете.
- Он, свой отдельный наблюдая интерес,
- Бежал по службе – нам вразрез!
- А я, увы, не в очень трезвом виде.
- Душа-предательница в пятки упадает.
- Но мент сказал мне: «Извините!»
- Да. Это выдумка. Такого не бывает!
- О, сколь же наши представленья скудны
- О том, что тут бывает. Божья воля
- Нас уместила в три секунды —
- Как мы попадали, футболя.
- Не хочешь – а влипаешь в передрягу,
- Хоть ты запрись да окна все закрой!
- Четвёртая секунда – и «Бродягу»
- на гармошке
- Играет нищий. Да. Одной рукой.
Зануда
- Он муху называет «бедный Озрик»,
- Чей – помнит – фрак с брусничною искрой,
- Любитель говорить, что это возраст
- Таков уж… И не за горой
- Простор без возраста. Ну не зануда ль?
- Другой сказал бы: пустомеля.
- Однако кто сумел бы Букстехуде,
- Как он, зануда,
- Отличить от Пахельбеля?
- Он на себя бывал особенно похож,
- Когда травил всё ту же с бородою байку
- И у плиты со спичками: «Ну что ж,
- Давай-ка, брат, с тобой поставим „Чайку“».
- Любитель: «Карты, – говорить, – сданы!»
- К ним, картам, с детства равнодушен,
- Внезапно бросить взгляд со стороны:
- «Ты пьян, прости, и оттого мне скучен».
- А сам-то? По какой причине
- Его, вы думаете, мучает икота?
- И, вдруг, беседы дружеской посередине
- Он затевает распрю о сангине,
- Что всё-таки она – не терракота!
- Мы на балконе с сигареткой холодеем,
- А в комнате, в виду ледовой брани,
- Давно уж, удручённые хоккеем,
- Не различаем шайбу на экране.
В накопителе
- В обратном Адлере на взлётном поле
- Я вдруг задумался о воле
- В нескромном понимании «хотеть»
- И в скромном понимании «стремиться».
- Гляжу: невероятно, чтоб взлететь.
- И, – чудо! – думаю, – чтоб приземлиться.
- Сих дум случайные свидетели
- Сосредочились со мной перед посадкой
- В одном удушливом, потея, накопителе;
- Склонилась дочь над ученической тетрадкой
- Для —
- Не для кого-нибудь… там естествознания,
- Но, первым делом, отчеркнув поля, —
- «Для, – написала, – вольного писания»,
- Которое, конечно, начиналось с «Я»
- Такая-то: фамилья, имя-отчество,
- Где проживает и так далее.
- А дальше думать ей уже не хочется,
- Впадать в бытописательство детальное.
У ящика
- Услуги по… коньков заточке.
- Неглинка. Помните, разнообразной пастой
- Заправку шариковых ручек? В этой точке
- Всем заправлял златозубастый
- С тройной отсидкою Фарид.
- Он молнию вшивал мохнатой лапой,
- Крюк клюшки гнул паяльной лампой,
- Что синим пламенем горит.
- Он эту точку, видимо, держал
- Не для трудкнижки и не ради денег,
- Но – чтоб огонь его гудящий окружал
- И света синего – сиреневый оттенок.
- Плыви, плыви, сиреневый туман.
- И то, что с ним рифмуется, – туда же.
- Почтовый ящик. Я стою как истукан,
- Читаю приглашенье к распродаже
- В фасовке заводской ацетилена
- И полуфабриката шоколада.
- К чему бы это? Что это – эмблема?
- В каком контексте и какого ляда?
- Читаю снова: да, гексахлоран,
- Башкирский мёд, вагон со стекловатой.
- А что? Разумно: старых шуб обмен
- На новые. Обидно, что с доплатой.
- Тут всё, что подобает человеку,
- Как я – разнообразного достатка:
- Коттедж. Великолепный вид на реку.
- Песок. Бесплатная доставка.
- Ну как же – разбежался! В Сингапур.
- Да, да, Египет, Крит, со скидкою путёвки…
- Я эту призывающую дурь
- Воспринимаю в качестве издёвки.
- И тут ещё Свидетель Иеговы
- Мне пишет:
- «Завтра – всё! А вы готовы?»
Оптовый рынок
- Бывало, все услуги по —
- Один продмаг, одно сельпо.
- Теперь…
- Испания, керамика, смеситель,
- Германия, сушитель, нагреватель,
- И я как Витя, биожитель – потребитель,
- И Лёша, мой приятель – покупатель, —
- Идём вдоль по рядам внимательно и бодро.
- В центре вниманья – голени и бёдра
- Куриные, и для морозной свежести —
- «Миф», «Дося», моющие принадлежности,
- И «Ласка»;
- Сосиска венская, колбаска
- Деревенская.
- Теперь их тут как воздуха – навалом,
- А ведь бывало… Хватит о бывалом!
- Особенность конкретного простора:
- Замылка взора,
- Тыщи как копейки,
- Рука судьбы,
- Плечо индейки.
Магнит
- Полвека я уже как доктор.
- И тем, конкретно, знаменит,
- Что, разломавши репродуктор,
- Я обнаружил там магнит.
- Из репродуктора сирена
- Мне пела, что она калитку
- Приотворила в чудный сад,
- Что есть на свете рио-рита,
- Мосторг, ВДНХ и Гагры,
- Цирк на Цветном и эскимо.
- И на Трубе, на месте самом видном,
- Она содержит пирожки с повидлом.
- И что с котятами – не там, а у Мосторга —
- Марина из седьмого «Б» сказала строго.
- Из репродуктора сирена
- Мне пела так, что три танкиста
- Горят, горят в душе моей!
- И что, запутавшийся в детском лепете,
- Я умиленья уронил слезу,
- Туда, где восковые гуси-лебеди
- И утки плавали в тазу, —
- У цирка, помню, на Центральном рынке.
- Что ты ответишь на: какой же ты дурак! —
- Что дура! – из седьмого «Б» Маринке.
Подпись к фотографии
- Мне кажется, что в каждом доме
- Располагается на фоне
- Ограды зоопарка сонный пони —
- Неужто тот же? – а на нём – дитя
- Сидит с улыбкою цветущей,
- К тому же месту общему, цветя,
- Впоследствии своих детей ведущий —
- В берете чёрном, в расписной венгерке,
- Пошитой мамою по высшей мерке —
- Великоватой, но ботинки,
- Я вспоминаю, жмут на фотоснимке.
Des infants terribls
- (Ужасные инфанты)
- Я буду врать – и не солгу,
- А правду расскажу – едва ли.
- Не зря конфетную фольгу
- Мы золотцем именовали.
- Чтобы немедленно – к восьми! —
- Кому-то из окна орали.
- У мамки-улицы спроси —
- За что пороли?
- Ещё задолго перед сроком
- Тому настырному влетит,
- Кто перебил водой с сиропом
- И пирожками – аппетит.
- Тогда – ужасные инфанты,
- Теперь – отцы во цвете лет,
- Мы закопали наши фанты
- И застеклили наш секрет.
Аля-улю
- Я стал беспомощным и толстым,
- А был – беспомощным, худым,
- Носил малинововый галстук,
- Теперь тот галстук – «лататы».
- Я видел кривды подоплёку,
- Но, чтобы вправду поумнеть,
- Ходил в «кинотеаблитеку» —
- Читать, по сторонам глядеть.
- Я тряс в назначенных коробках
- Булавки, спички и горох.
- Люблю, когда они грохочут —
- Подручной жизни «лататы».
- Я был как будто бы нанаец,
- А стал – какой-то алеут.
- Он ничего не понимает,
- Когда нанай: «аля-улю».
- Я зелен был и необучен,
- А стал – во всём и «бэ» и «мэ»!
- Я алеут – для благозвучия!
- Пью для здоровья – «Каберне»!
Я
- Как много «Я» в моих стихотворениях.
- Они там появились не случайно.
- В них отразился многолетний опыт
- Червя, раба, царя и бога.
- Я царь —
- Стою на танцплощадке,
- Не приглашён на «белый танец».
- Я раб —
- Страстей: они меня не любят!
- Я червь —
- Сомнения: а если б пригласили —
- Что тогда?
- Я бог —
- Пою из радиолы:
- – Volare!
- Ого, го-го!
- Cantare!
- Ляля, ля-ля!
«Это время сплошь едино…»
- Это время сплошь едино.
- Прочитавши Бахтина,
- Вижу: высится стена,
- А на ней висит картина:
- Рама, небо голубое,
- Домик с чижиком в окне,
- Кошка, кактус и алоэ,
- Лампа, стол и всё такое:
- За столом хохочет кто-то,
- Под стеклом цветное фото,
- Чайки, море в глубине,
- И обоев позолота —
- Всё принадлежит стене.
- Уникальная работа!
- О природе (несмешная)
- Смеха – книжка раздвижная.
План
- Вид сверху: в трещинах паркет.
- Вид снизу: потолок протёк.
- Вид сбоку: выцвели обои.
- Давно, усталый раб, замыслил я побелку,
- Оклейку и циклёвку.
«Чего тут нет? Наверное, того…»
- Чего тут нет? Наверное, того,
- Чтобы, резвяся и играя,
- К нам молния явилась шаровая.
- Картину мира дико украшая,
- Она – капустница в снегах Тянь-Шаня!
- Она – судьбы внезапная поправка,
- Доселе сдержанная втуне.
- Глядишь – под чайником
- Не анонимная подставка,
- Но вдруг – «Детгиза» «Накануне»!
«Алё! День добрый! Это скорая?..»
- Алё! День добрый! Это скорая?
- Прошу вас срочно оказать мне помощь.
- Моя душа страдает хворая,
- Поскольку все бесстыдно врут,
- Что я навязчивой идеи овощ,
- Чужого произвола фрукт.
- И достоин презрения
- Как плод умозрения.
«– Вот вам ручка, бумага – пишите! – …»
- – Вот вам ручка, бумага – пишите! —
- Слышу во сне – кошмарном! —
- Хотя говорящий —
- Муза.
Второй голос
Я верю в чибиса, а не в чудеса.
Поговорка
У дороги чибис.
Песня
- Девушка Шура, «от воблы шкура»,
- сидит на мостках, болтает ногой.
- – На воде, – слышит девушка, – рябь и каша без соли.
- К шуткам ребят равнодушна – пустое.
- – Эй, ля-бемоль! Паром далеко ли?
- Потянулась – хрустнула.
- – Слышь, балерина! Рыбу пугаешь!
- Рассмеялась – прикрыла ладошкой,
- зевнула – прихлопнула.
- Вот и паром.
- – Эй,
- ты куда – с чемоданом тяжёлым?
- Может, поженимся? Я подсоблю!
- – Уже подсобил! —
- прихлопнула.
- – Слышь, что ли? Спишь
- в ботинке одном?! Я же сказала: – Отчаливай,
- старый, отчаливай!
- Если не мучить Муму, то успеем – до перерыва —
- на десять!
- Ну, давай, шевелись, пошевеливай вал!
- Слышь, что ли, – грома раскаты?!
- – «Отчаливай!» – так говори жениху своему
- конопатому, ясно?
- И – «шевелись».
- Видишь: люди как мухи ползут – кое-как,
- не торопятся, думают,
- что, наверно, дадут дополнительный.
- Дадут – не дадут, а я без людей не отчалю.
- Жди! И не ёрзай мне под руку, как шилохвостка!
- С шилом в заднице тут над душой не елозь. Тьфу! —
- Сплюнул несмачно – только ради словца,
- бегло ощупал себя – где же, где? – достаёт,
- рукавом заслоняет от ветра. Чиркает.
- – Бедный мой парус, кафтан дыроватый, —
- песню под нос себе напевает, – тьфу! —
- с лёгкой руки шилохвостки.
- – Эй, дебаркадер несчастный, понтон
- недоштопанный!
- Что ты тянешься с визгом и скрипом —
- никак не развалишься?!
- Так бранят его местные, чтобы не сглазить, —
- вот он пока и тянется, тянется,
- рыбу пугает пока.
- – Рыбу? Какую? Окстись! —
- посмеиваются,
- Яхрому речку – вонючкой зовут – для отвода
- глаза дурного.
- Вот потому и успели – тьфу-тьфу! —
- на дополнительный в десять пятнадцать из Талдома
- (вне расписания)
- и в перерыв (из-за ремонта путей) —
- нет, не попали – в трёхчасовой!
- Это значит – тьфу-тьфу! – что мы стопудово,
- точно в одиннадцать ровно – ноль-ноль! —
- все там и будем – в столице постылой!
- Все – кроме девушки Шуры, сказавшей:
- – Ну, не верю я в дополнительный!
- Верит, конечно. Просто —
- слаба на терпелку училка по пению,
- «Сявка босявка».
- Помню, вот так же – полвека назад – её, бедолагу,
- доводили ребята – я знаю – беззлобные, просто —
- когда же сорвётся —
- ждали.
- Она мне велела сидеть у окна. Сказала:
- – Второй голос.
- А я незаметно к стене отъезжал – сидя за партой.
- Сидя за партой, мы все потихонечку ездили
- туда-сюда, думали – пение! —
- можно расслабиться – после
- русского и математики.
- – Чайка крыльями машет, —
- как дураки хохотали.
- – За собой нас зовёт, – кричали, как чайки.
День глухаря
Эвельпид
– А что насчёт пути ворона думает?
Писфатер
– О Зевс, она по-новому закаркала.
Первая птица
Торо-тикс, торо-тикс!
Аристофан. Птицы
- – Привет щеглам! – Салют тетерям!
- – Как живы? – Помаленьку птерим:
- Кто где. Я, например, – бекасю,
- Сижу на берегу и квасю.
- Глядишь, мыслишку некую —
- Поймаю, и – кумекаю.
- – А я где кину харю – там и глухарю.
- – Пап!
- У меня – вопрос неприличный:
- Кто первичнее —
- Утка или утконос?
- – Такой вопрос принят на сброс!
- Сегодня – День глухаря, между прочим,
- И наш разговор – к нему приурочен.
- О чём и доношу!
- – А я доношу, что не клюю анашу,
- А моя пташка – ну такая анашка!
- – А я доношу, что прошу
- Прощения за наше с вами общение.
- Ибо оно – распря!
- – А что? Венец разговора —
- Ссора!
- Отцвела беседа – и давай отседа!
- – Сик! Разговор обретает простор —
- Через раздор!
- – А простор преобороть —
- Это если вы поймёте, —
- Как перепеть Паваротти!
- Или – перепить Гаргантюа —
- А?!
- – Правильно получается:
- Душа по-разному облегчается!
- – А где душа – у меня, дутыша?
- Неужели – тут – где я надут?
- Признаюсь, очень уж не хочется,
- Скривив душою – скособочиться!
- – А душа, как и ум,
- Хоть и не бездомна, но автономна.
- И буквально: автокефальна!
- – Душа – птицеподобна.
- И это нам понимать удобно.
- Но на нашем лбу не написано,
- Что ум – антропоморфен.
- А ведь это так!
- – Зачем темнить,
- Когда и так – мрак?
- Ведь что такое – брак
- И куда его деть?
- Угнездить-то он угнездит,
- Да будет так гнездеть!
- – А насчёт гарема есть теорема:
- Жрите столько наложниц, сколько влезет.
- Сколько влезет, столько и жрите!
- А не влезет – ждите!
- – Птица – вещь скромная,
- Но – стрёмная!
- Живёт – вразнос
- И жрёт – вразброс!
- – Птица вещь глупая, но не кушает хлюпая!
- – Вот тут ты туп!
- – Туп, да не труп!
- – Эх, мать моя жистянка, за жисть потасовка,
- В Египте зимовка!
- Сегодня День глухаря, между прочим,
- И наш разговор – к нему приурочен!
- – Так мы о том и говорим:
- – День Глухаря – неоспорим!
- – День Глухаря – такой это день уж,
- Что никуда ты его и не денешь!
- – В День Глухаря и его Глухарки
- Наши кулдыканья – наши подарки!
- – Да кумекать надо, а не клекотать!
- Я жду приветливости от кумекливости,
- А от клекотания да клекливости —
- Мне не надо милости!
- – И мне – приятно, не скрою,
- Например, над бездной морскою
- Пораскинуть мозгою!
- – И я – не против, чтоб лучше петрить —
- Мозги проветрить,
- Но не выветрить, едрить твоё гнездо —
- Их – на все сто!
- – Вот и не надо пороть чепуховое порево —
- И тем позорить небо лазорево!
- – Разуй глаза: твердь – бирюза!
- – Сам разуй: оно – лазурь!
- – Да шёл бы ты в дупло, фуфло!
- – Силь ву пле! Я – в дупле!
- Вижу из дупла, как наружность светла,
- Без меня, фуфла.
- – Только не надо субъективничать!
- Утеряли придурки критерии,
- А притырки находят и балуются.
- – А я критерий потеряла по весне.
- Какое счастье! Но без критерия
- И Ленин прыгает в пенсне,
- А надо – Чехов, Берия!
- – Эх, мать-тиас ракоши!
- Да как не стыдно вам, однако же!
- Сегодня – День глухаря, между прочим.
- И наш разговор – к нему приурочен!
- А вы развели тут базар недостойный,
- Отстойный!
- – А каковы указания ваши?
- – Шат ап, шпана, нишкни у параши!
- – Пап, а что такое – нишкни и шат ап?
- – Цыц! – Ну, пап…
- – Когда наступают такие дни,
- Как День глухаря, то, конечно, – нишкни.
- А «шат ап», моя душа, происходит от «ша»,
- Что и для птиц
- Означает: «Цыц!»
(Все замолкают. Издалека доносятся едва различимые голоса. )
- – Си?
- – Си!
- – Си зив?
- – Зив, зив!
- – Синь-синь! Цзян-цин цыси. Си?
- – Це цыси, си-си!
- – Цвик-цвик! Цвейг-цвейг це плятт?
- – Це плятт-плятт!
- – Ки-ки плятт-плятт? Ватт-ватт? Вольт-ватт?
- – Ом-ом! Юм-юм ом-ом! Пси?
- – Пси!
- – Цорн! Цорн!
- – Цо, цорн? Климт кмит?
- – Ниц, ниц! Клех-клех клейст.
- – Цхао! Цхао нема!
- – Склифф…
- – Гир, гир! Брэд пит – депп?
- – Пропп! Гроф-гроф дрда.
- – Дрда… дрда… Пселл, плятт, пселл!
- – Ки пселл? Плятт пселл? Гуль-гуль пселл!
- – Гуль-гуль – куркуль,
- – Гур-гур – горгуль!
- – Брехт! Брехт!
- – Ки брехт? Плятт брехт?
- – Ке-ке плятт? Пяст бакст!
- – Ке-ке ки-ки? Кви-кви?
- – Склифф…
- – Цуцик, цуцик! Цо хцешь? Цацу?
- – Ниц!
- – Цыцу?
- – Сик!
- – А мы на Иссык —
- Куле
- Цыкали цыку в июле.
- И нацыкали столько цык,
- Что тут тебе и сипуха – сцыкуха,
- И тишина – сцышина.
- И тут вдруг: – Иссык!
- Ну, думаем: куль!
- Чуток обцыкались
- И больше не цыкали!
- – Тьфу! Мать-тиас ракоши!..
- Да как не стыдно вам, однако же!
- Это я говорю – глухарю!
- А вам говорю, повторяю: – Зря —
- С Днём глухаря поздравлять глухаря!
- Дело это такое —
- Глухое!
- Целый день говорю ему, говорю:
- – С Днём глухаря! А кому? – Глухарю!
- Короче,
- Разуйте очи:
- Что есть – глухарь? Глушня глушнёй.
- Чурбан без области ушной!
- – Глухарь – башкою нездоровый!
- Визжит, как боров краснобровый!
- – Линяем! Ясно дураку,
- Что наш Глухарь – давно ку-ку!
- – Пап, а Глухарь ли он – вопрос.
- Вдруг – китоглавый челнонос?
- – А вдруг он – мнимости пузырь?
- Болотный хмырь?
- А мы – с поклонами – к хмырю!
- Тьфу! – глухарю!
(Все шумно взлетают, летят прочь; за их полётом наблюдает Калхаз Фесторид, верховный птицегадатель. )
- Калхаз Фесторид (Агамемнону)
- Теперь – пора!
- Летят как надо – в добрый знак!
- Агамемнон
- Ну, наконец-то! (Менелаю)
- Руби концы. Звездец троянцам!
- Менелай
- А?! Что?! Не понял!
(Все дико ржут над Менелаем.)
- Агамемнон
- Оглох, тетеря? Отплываем!
(Отплывают.)
III. Стихи, не вошедшие в книги
Махаон
Махаон водится во всей Европе, кроме Ирландии.
Энтомологическая истина
- О том, что в Ирландии нет махаона
- известна в России любая брехня
- со времени оно,
- сказал Вова Брайнин,
- Ирландия
- это зелёная карта
- плюс арфа
- и кроме рыжих, кроме висок
- нет дополнить этот список
- Однако же, вот махаон как жирафа,
- как чёрт неирландский сидит на берёзе
- И рыжие блекнут в сердцах возмущённы —
- откуда в семействе у них махаоны
- и грозные
- крикнут кельты:
- эй, откель ты
- нашу спутываешь карту?
- Скажут русы:
- из Тарусы,
- из-под Дубны, из-под Тарту.
Шахтёрская
- Курс рубля настолько твёрдый,
- что хожу с натёртой мордой,
- как шахтёр из Воркуты
- на целковом довоенном.
- Я спою, подхватишь ты
- о труде его подземном.
- Долго бриться, кушать суп
- любят поутру шахтёры,
- а потом их повезут
- глубоко в сырые норы.
- Мне сказал забойщик Кузя,
- мне сказал крепельщик Вася:
- «Чёрный воздух там безвкусен,
- и метан взрывоопасен!»
- Мне сказал забойщик Кузя,
- мне сказал крепельщик Вася:
- «Баста-то сказали в Экибастузе,
- а забастовали-то в Кузбассе!»…
Пароль
- Глазам не верил я, бубнил и бормотал,
- Кого-то поминал невнятным словом,
- Глаголал я – и вот я завербован —
- Разорвана картинка пополам!
- Не помню – как вручили мне пароль —
- Оторванную дали половинку.
- Сказали: «Жди! Придёт к тебе второй.
- Вы совместить должны картинку!»
- Родным наш уговор не выдавай,
- Но, дальний план от ближнего храня,
- Держи наруже свой неровный край
- И сам гляди на рваные края.
- Их мысли я читал не по губам.
- Не кровью связан с ними я, а словом.
- Намечен план, пароль опубликован,
- Разорвана картинка пополам!
Сукно
- Mon cher, там рвётся, где, простите, тонко-с,
- Тканина, где, pardon, тонка.
- Вот греческое слово «онкус»
- Обозначает паука.
- Дословный перевод – крючок,
- Которым вяжут или ткут,
- Такой известный атрибут
- Клубка и бабкиных очок.
- А в прошлом бабушка – княжна,
- А ныне муж её – покойник.
- Она глядит на подоконник
- И видом паутинки тонкой,
- Как мотылёк, поражена.
- Сейчас она протрёт суконкой
- Такое страшное окно.
- Протёрла. Ну? И в чём здесь фокус?
- Переверните слово «онкус» —
- И вы получите – сукно!
Общее место
- Слышу поверх симфонической музыки голос
- проводника – по местному радио:
- – В нашем поезде нету воды, а в соседнем —
- возможно – на Лабытнанги.
- Надо успеть. Вот и бегу я туда; баклагу
- вижу в окошке вагона – c водой питьевой. – Пить! —
- говорю я беззвучно.
- – Вот! – достаю из горсти монету – один
- фунт стерлингов.
- – Нет, всё отдавай! – говорят из окна.
- Это значит – надо немедленно выкрикнуть – визг
- отходящего поезда перекрывая: – Нет, это ты —
- всё отдавай! – Ты, —
- чего материшься? – сказала жена, – пить
- надо меньше.
- Это надо запомнить: сколько ступенек ведут
- из бассейна
- с ныряющей статуей в 27-ю квартиру. До второго
- дойду этажа —
- сбиваюсь со счёта – и вниз —
- с чистой доски – всё начинается заново.
- – А ты на другой бок повернись! —
- шипит матюгальник Я. Протазанова.
- Перевернулся —
- бабушка Анна Петровна по маминой линии: —
- Да, мы спаслись,
- но отец твой котует. Тут – вторую семейку завёл! —
- доносит, затягиваясь, —
- в диадеме лучистой, украшенной спицами,
- как в «Аэлите» Юлия Солнцева, но —
- с едким своим «Беломором».
- Его дымовая завеса – густая —
- на нас надвигается, нарастая,
- так неестественно быстро,
- что все на площадке едва успевают
- матом покрыть пиротехника за
- перебор средств – магния и алюминия.
- Понимаю: изморозь, иней.
- Стою в парах парафина и нафталина,
- слышу, как неразборчивый ропот
- над седой пролетает водой —
- тудой-сюдой;
- кажется, каждое слово: паёк, ложка и кружка —
- падает – ёк —
- в вязкую мглу без всплеска.
- Вспышка: вот это место
- общее! – надо запомнить – Обь!
- Вот этот берег высокий навис над провалом
- в Обь —
- на стыке Сибирской платформы
- с Древним Уралом.
- Неявка сюда невозможна, явка – невыносима.
- Это надо записывать: «Здесь
- техника молодёжи, нет – знание-сила —
- сосредоточена у Хусаинова,
- нет – Харсаима!..»
1
- Море в бухте скрипит, яхта срывается с якоря.
- Кричу наудачу: – Дю! – ветер уносит, – фи!
- Но слетаются все: Марке, Вламинк, Дерен.
- Брызжут, вертясь, как длинношёрстные: – Фр…р…р!
- Нет, никогда не просохнут, дрожат. Да вот же —
- всё вокруг ясно и ярко – в раме
- на репродукции из «Огонька» —
- в доме Месропа.
- Ночь. Море подходит вплотную к дому Месропа
- и дочки его Цовинар, зятя Галактиона и внука
- Кронида.
- Уйдёт – бросив на берег кучу ветвей,
- обмотанных кладофорой бродячей,
- и хлам бытовой, случайно сплетённый
- шарообразно со взморником,
- будто там деревья растут
- с вороньими гнёздами в кронах.
- Там скутигера по белой стене пробежит —
- рыжая мухоловка,
- и за секунду до пробуждения
- мёртвых разбудит торговка Ашхен:
- – Творог! Сметана!.. – Ветер уносит: – И молоко.
2
- Чу! – за забором у нас на участках в «Дружбе-4»,
- словно по столу хлестанули,
- пощёчину дали ластоногие – бдыщ! – ластоногим.
- Пневматика? – «Где-то там,
- у Колосковых по дроздам», – сказала Оля.
- Влепят ли срок и какой – зависит от Джоуля.
- Сколько.
- На слух – до двух с половиной. И дальше – шлёп! —
- затихая.
- И где-то совсем далеко, у геодезической вышки
- запели девушки.
- Раньше там, за Свистухой, об эту вечернюю пору
- в спецпитомнике лаяли сторожевые канальи,
- охранявшие мост и шлюз водоканала имени
- Москвы, тогда – канала Москва – Волга.
- Ольга сказала, что это на слова Есенина
- плачет где-то иволга.
В комнате с белым потолком
- Слава Бутусов поёт.
- Два часа в пустом, без публики, зале.
- В Санкт-Петербурге, в конце девяностых,
- зал – не зал, но приличную комнату для звукозаписи
- со стеклянной стеной, звуконепроницаемой
- во дворце Юсупова вспоминаю.
- И – Юру Каспаряна – как он показывал синтезатор,
- заменяющий оркестр: вот – труба, вот – саксофон.
- Я попробовал гобой и фагот – неотвязные с детства
- утка и дед.
- О комнате с чёрным, красным и проч. потолком —
- подумал (что и такие бывают) только сейчас —
- в карантине
- здравозаградительном.
- И действительно,
- а не спеть ли мне песню (долгое «А») любви,
- как и Алла Борисовна, – а-А-любви, – пела.
- Чу! Чижу спеть «Мне не хватает…» – свободы
- не хватило.
- Чу ещё: моё сердце
- асс! – танавилось.
- Моё сердце
- за – а! – мерло.
- Ждём
- Эдмонда в чёрном цилиндре и фраке
- с лиловым платком из кармана нагрудного.
Он приобрёл половичок
- тьфу! – половничек
- с черпалом в виде когтистой лапы четырёхпалого
- орлана морского – для макарон.
- Но иногда употреблял его как чесалку
- для спины, где прорастают:
- целый день – жабры, ночью – глаза,
- тьфу! – крылья.
Едут!
- Читаю ленту новостей:
- из Лаоса в Россию едут 30 танков Т-34.
- Актуальный Вьентьян собирался отправить их
- на металлолом,
- но наш Военно-Полевой Исторический Музей
- их выкупил.
- Едут!
- Вспоминаю капитана Конг Ле и тропу Хо Ши Мина.
- Идут:
- Фума – помню, что – Суванна
- и враг его – Фуми – я не шучу – Носаван,
- и бедный принц – мученик Суфанувонг,
- и группировка Саваннакхетская – сучья.
- Тс…с…с!
- «Мы победим!» – слушаю у себя на Неглинке,
- как капитан Конг Ле
- песню им сочинённую – унылую, пентатонную —
- поёт по нашему радио в их полевых условиях —
- прерывистых – в дельте Меконга.
- Вижу – танки стоят Т-34 в Долине Кувшинок,
- тогда мне казалось – в Долине Девушек
- с Кувшинами на головах.
- Идут!
Кто такой Высокобродов?
- Унтер? Урядник?
- Или впереди с шестом – через глубокую реку?
- Разве не он – без голубей на плечах, но с галстуком
- серо-стальным, с прозеленью – доктор Бархударов?
- Разве не он – доктор Хабургаев в чёрном берете,
- сказавший Грете с пузырём тути-фрути у рта —
- при табурете,
- что, взгромоздясь и грохнувшись,
- она и есть – Маргарита Александровна?
- Он!
- Он решил наконец всё сделать как надо.
- Он залез на вершину дровяного склада,
- но крепёжная связка безбожная
- по воле дьябла ослабла,
- и они покатились.
- Бархударов.
- Хабургаев.
- Древин.
- Деревянко.
- Бревдо.
- А Высокобродов?
- Есть Колобродов, Козлобородов, Голобородов,
- Нищебродов,
- дурдом кругом и кавардак развели-бардак.
- Ба!
- Высокобродов, так это всё ты?
- Да. Больше некому.
- Он!
- Он был бы сейчас, как и тогда, —
- часу в шестом, впереди с шестом,
- если б не Маргарита Александровна —
- на девятой минуте кувырком на батуте.
Чти карту
пики или крести (крики или песни)
М. Айзенберг
- Меня учила матчасть цыганщины
- картами плотно прикрывать глаза,
- чтобы острым краем, когда мы играем,
- по глазу вдруг не полоснули вини.
- – Не вини, но пики, пики! —
- говорила она, ударяя при этом
- по носу валетом, а не вальтом при том.
- И не говори всуе блеф.
- И не царь крестей, но король треф.
- И – по глазам: – Нельзя так, нельзя так!
- И взяток, взяток – то брать, говорит, то не брать.
- И по морде опять: ну откуда у него пять, —
- думай, думай! – девяток?
- Вот так матчасть, сучара, меня цыганщине обучала.
- – Чти карту – тщись, но учись фарту!
- И бей с бубей!
- Не научился, но выучил её повадки:
- кто встал первей – у того и тапки, и дама червей,
- под вистузу – с тузу, под игрока – с семака.
- И довёл их до совершенства:
- буби козыри – дураки у нас в почёте!
- Сам, повторяю, не научился. Не научился. Но доношу
- в Совет Инквизиции – на говорящих:
- «Незнание прикупа – не освобождает…»
В рюмочной
- Вот рюмочная межеумочная,
- а там – и месопотамия
- Яузы и Москвы-реки.
- Берегов изрезанность, мысли извилистость,
- речи прямизна, кривизна линзы и главизна
- всех благ;
- суп из головизны,
- левизна в коммунизме,
- неотвязность пуповизны и флаг —
- во главе угла – угловой.
- Иди туда и ляг головой
- к флагу. И я там лягу.
- – Иду! Слава труду!
Течёт вода, горит огонь, едят
- Глядят: хозяйка на работников,
- на сына мать, жена на мужа.
- Жуёт,
- как жвачное.
- А то, бывает, пища, как корова,
- проглатывается – не жуя, рептилией.
- И, как зверёныш, – птицей.
- Она
- долбит его об камень энергичными кивками.
- Затем, когтистой лапой тушку придавив,
- вдруг замирает – наблюдая,
- как медленно срезает шкурку бархатистую
- серебряным ножом – кривым! – персидский шах.
- Из клюва птицы хвост зверька повис недоумённый:
- неужто Фетх стрельнёт в неё из пистолета —
- какой рукой? —
- когда сжимают обе – и плод сочащийся, и нож кривой.
- Сглотнула – выстрел грохнул – на сглотнула,
- как на сморгнула – бах! – мигательной мембраной.
- Ремембер! Так
- коварный Фетх, трёхрукий, в шатре на берегу
- за поеданьем персика расстреливает чаек —
- пугливых, но прожорливых.
- Взлетев, они опять слетаются
- над телом раненой товарки, как над подарком бога.
- Так Фетх казнит себя в сердцах:
- нет, не желал он смерти Грибоеда!
- – У них и таньга – туман, – шепчут друг другу
- волны Хазарского моря.
Пруд
- мосфильмовский таит
- премного чудных артефактов.
- И сам, как говорится, себе на уме таится.
- Здесь верные друзья: «Давай макнём!» —
- макнут Меркурьева как индюка,
- самоутопятся Офелия и Дарья.
- О, РИР проекция! На водах – маска
- блуждающая. Помнишь?
- Все эти крупняки, досъёмки бликов,
- отражённых
- от вод, колышущихся возле
- мостков, где, я не вру, Аксинья
- простыни полощет.
- Нет, вру.
- Не в нашем, а в другом пруду полощет —
- Останкинском,
- у кинофабрики – ты помнишь? – юношеских фильмов.
- И Дарья – не у нас от нас уходит, а там – у той же
- студии того же Горького.
- И этот – нет, не тут
- «Потёмкин» броненосец погибает,
- а там —
- за магазином «Ноты», во всевышних
- разрядах Сандуновских бань.
- А тут —
- ты видишь – гайки Кайдановские
- пропащие: «хюлп!», «хюлп!» —
- выныривают из глубины
- мосфильмовского пруда.
Сапоги видом похожие
- Распря двух Иванов. Расклад таков:
- Иван Иванович – из духовного звания,
- а Иван Никифорович – из казаков.
- Мол, гусь (Иванович) свинье (Никифоровичу)
- не товарищ,
- но – Армагеддон!
- Дорогие мои!
- Вспомните, как по-соседски, бывало,
- вы товариществовали за пышным столом
- с водкой перегонной, с брагой, с бузою!
- А квасу тут столькое множество было,
- что и глядеть на него не хотелось!
- А заливной поросёнок! А журавель запечённый!
- А кушанье,
- видом похожее на сапоги, в квасе намоченные!
- Стоп! Что за кушанье?
- Почему сапоги?
- Потому. Они говорят:
- – Наша скромная еда – подорожник, лебеда.
- А наша праздничная пища – вырезка из голенища.
- Всё – в квасе замочено!
Над подпольем
- Когда мастера вскрыли мои паркетные доски,
- я увидел подполье, а в нём —
- расчёску и мелочь негодную к употреблению.
- Жаль:
- самой древней монетой был советский пятак,
- а не царский.
- Понимаю:
- прежний хозяин моего помещения – это
- единственно я.
- Сам же себе и оставил эту расчёску и сам же – пятак.
- Ну и пуговицу.
- Так что там, под паркетными досками,
- нет ничего такого подпольного.
- Да и подполья, как я понимаю – подполье! – нет.
- Есть что-то мелкое, неглубокое.
- Человек, например, туда не уложится, только —
- кошка худая.
- Не подполье – изнанка какая-то, впрочем —
- новенькая. Поновее лица.
- Голые лаги лежат – чистые,
- будто сейчас положили.
- И свежая стружка, песочек сырой, перемешанный
- с грунтом
- и с сереньким порошком (наверно, цемент), —
- также лежат без следов прошедших десятилетий.
- Хорошо сохранились
- и мои обиходные вещи —
- вне обихода.
- Расчёска – ещё ничего, возьми да расчёсывайся,
- и пятак – не стёрся, только вот пуговица.
- Силюсь припомнить:
- ну, когда и чья эта пуговица
- в пыль мою закатилась подпольную
- и след оставила? Вижу
- со стороны – ну, точно! – как курица —
- я замер перед чертой нарисованной.
В химкиных ховрах
- Были мы парни хоть куда, но себе на уме.
- И это – обидно.
- Как-то застряли мы в химкиных ховрах каких-то —
- – Хевроны ефимкины —
- мы так их, шутя, называли – в смысле
- хрен туда доберёшься.
- А как выбираться из этой глуши?
- Редкая мимо промчится машина,
- не остановится.
- Ладно. Легли поперёк дороги, думаем,
- какая-нибудь остановится.
- Остановилась.
- Выходят менты. – Ну что, обезьяны?
- Не потому – обезьяны, – что мы оба лохматые,
- а потому, что – нас повезут в обезьянник.
- – Да хоть куда! – Вот достойный ответ фаталиста.
- Но мы промолчали.
- А ведь как хорошо-то: хевроны ефимкины!
- Не прижилось.
В лифте
- Такая неловкость, хоть провались:
- людям, прижатым друг к другу в лифте,
- не по себе от навязанной близости, —
- молчат. Глядят упёрто.
- Ну а как ещё – если в упор-то?
- Взгляд в упор нагл, вызывающ, нападающ.
- А куда его деть-то?
- Вперил
- скромным образом – в личную область крепления берцы и сюзки
- с округлым, слава богу, носком,
- а не – узким, клювообразным
- и загнутым кверху, как дьявольский коготь,
- и к лодыжке привязанным
- с бубенцами – отпугивать нечисть;
- и, к счастью, —
- не с «волчьей» разлапистой «пастью»,
- и не с тупой медвежьей стопой,
- как у Лютера,
- и не с квадратным носком, обрубленным,
- как у Абсолютного
- Солнца.
- Да, это плохо: шнуровка, лопнув, надставлена.
- Но впорность, чую – хорошая – в подъёме разношена
- и в пальцах не сдавлена.
- Да. Уходя не почистил. Бурая кожа,
- вижу, местами пожухла и треснула,
- чую – у задника как – измочалена прошва.
- Подошвы не видно, но мне-то известно,
- что отходит подошва – отчасти
- в пелёночной части. Отсюда —
- и рант вшивной, кое-как живой,
- и голос
- человека-невидимки:
- – Как-никак, а ботинки!
В стояке на Маяковке
- Только я кружку поставил – полную и с подогревом,
- только газетку я развернул
- с остатками рёбрышек и плавничков,
- так тут же блатная плотва и гнойва худая подумали,
- что я спекулирую бублой из-под полы.
- И главное – кто же сказал мне такое
- в лицо?
- Два хека в ушанках.
- – Мы тебя знаем – барыгу, – сказали два хека
- в ушанках.
- Ссыпали мелочь – как брызнули – мне на газетку.
- – Пикшу не хошь ли? – бегло по матери блякнули,
- внаглую рёбрышки взяли мои
- и плавнички.
- Это точно: в Москве
- бубла была тогда редкостью дикой!
В Отрадном
- Однажды в Отрадном коварные вихри сорвали
- молдавский
- мой половичок —
- с лоджии – вверх, в крону берёзы.
- И ладно.
- Лежал на перилах половичок – для просушки.
- Жаль – домотканый.
- Попираем ногами, над головою повис.
- И ладно.
- Но Дуся велела мне снять эту тряпку, захламляющую
- нашу территорию.
- – Как?!
- Туда только МЧС залезет!
- – А ты её потряси, может, половичок и свалится.
- Я потряс – берёза не шелохнулась.
- – А если это не моё?
- Нет, Дуся запомнила половичок, глядя на лоджию
- с улицы:
- – Твой – полосатый!
- В какие-то странные игры играет со мной эта Дуся.
- Теперь вместо «здрасьте» Дуся мне говорит, указывая
- пальцем в небо:
- – А половичок-то – висит! – издевательским голосом,
- перешедшим со временем в ровный,
- повествовательный,
- и – уважительный:
- – А половичок-то – висит!
- Висит!
- Снегом покрытый висит, прогибаясь, обледеневший.
- И, выцветающий, —
- прочно под солнцем висит – невыносимым.
- Нет, не сорвётся в коварных потоках – и будет,
- будет висеть среди гнёзд и рваных пакетов из пластика,
- скомканных в виде тушек вороньих и гнёзд —
- в кроне высокой будет висеть незаметный
- и всеми забытый, пока
- Дуся не скажет однажды:
- – Здрасьте. А наш-то!
На скверике
- Схожу к Москве-реке,
- посижу на скверике…
- Сел рядом со мной Саша – с тремя газетами.
- Одна лежала у него на голове,
- на другую он сел,
- а третьей, свёрнутой в трубочку, стал постукивать себе по коленке:
- – Т-к, т-к, т-к.
- Сидит, пожимает плечами в смысле: «Да кто его знает?»
- Или кивнёт: «Это уж точно!» —
- газету к голове прижимая.
- Думаю, зачем он из дома вышел – в пижаме,
- правда – в приличной, похожей
- на спортивный костюм? «Саша» —
- на левом нагрудном кармане написано. Что это?
- Фирма или самоназвание?
- И шарф зачем повязал? – бенетоновский —
- мерзкий, небесно-клюквенный? А?
- В спешке, наверное, взял первый попавшийся – внука
- или кого-там.
- Да что за спешка? Саша, ты что?
- Время дремать на диване, укрывшись газетой —
- у вентилятора «Харьков» настольного,
- «тк-тк-тк» всю жизнь тарахтящего, или
- под сплит-системой «Хитачи».
- Подул ветерок. Саша
- прижал к голове газету – покрепче.
- Эх, шляпу! —
- надо было бы брать, а не шарф бенетоновский —
- лёгкую шляпу с широким соломенным полем – такую
- я никогда не носил, да и шляп вообще.
- А галстук?
- В юности, помню, надел – как свидетель на свадьбе.
- А может, ему просто поговорить не с кем?
- Я достал сигаретку, спросил у Санька насчёт огонька.
- Саша плечами пожал в смысле «что вы, откуда?» —
- Ну а где его взять, огонька-то?
- Я вышел на улицу, но среди прохожих курильщиков не встретил.
- Да и какие прохожие? Пекло! За сорок в тени,
- за пятьдесят.
- Все у себя
- дома под сплитами дремлют ледящими.
- Вернулся – никого. Три газеты лежали на лавочке:
- – Т-к, т-к, т-к…
- Ну, две ему не нужны —
- под зад, и по коленке стучать
- в смысле «так-то и так-то».
- Но без третьей – на голове от удара —
- он не ушёл бы. Думаю: – Испарился? Нет, никогда.
- Шарф бы тогда остался – позорный,
- лазорево-пурпурный
- от Бенетона,
- прекраснозвучащего.
Хорошуй хорошо
- Хорошенько хорошуй хорошо.
- Плохо само уплошится, а хорошо хорошения требует,
- хорошевания.
- Без хорошевания
- хорошилось хорошо, да и схорошилось в порошок.
- Плошневеет хорошо – без хорошевания.
- Без хорошевания
- хорошуги всего хорошего
- лежат плошнивьём обросшие
- и хорошилово – как плошилово
- уплошает плохца паршивого.
- Без хорошевания,
- хошь не хошь, плохнет хорш.
- А из плошного хорша
- вырастает хворьша.
- Люди спрашивают:
- – Как хорошуете? – и отвечают:
- – Хорошуем во плохах как в лопухах.
- Или: – Во плохах как в облаках.
- А ты говори:
- – Помаленьку хорошу́ю хорошеню большую,
- пока плохница сама не заглохнется.
Наставки да умудрения
- Щупл тощ в худобе своей, да жив, пока костн и мршав.
- Обло облако; тучно, улетучно.
- Вот и ты – взыскивай, да не взыщи,
- говори ежеутренне: – Вздравсь!
- Хмурую думу уволь, вдохни бодровитую!
- Скажешь так – вздравсь тебя вдохновит и воздравит.
- А скажешь с у́смехом дерзким, как дитя
- неразумное: – Вздрись! —
- вздрись тебя вздрит.
- Спящий храпит – взнузданный
- разнуздиться не может. Разнузда ему помогай.
- А кто разнузду уздить будет? Взнузда. Зови
- и взнузду.
- Прямень и кривень во сне кричат —
- хорошо поработали.
- Ясень и смутень во сне плачут —
- растут.
- Корми работников своих, как ешь сам,
- ибо вместе ходите.
- Околонь ходит по кругу, привязанный к колу,
- одрынь – к дрыну,
- охлуд – к хлуду.
- Из каких ты пошёл – из одрынцев, из околоней или
- из охлудов —
- всяк говори:
- – Такая вязовина не мною связана, да мною сваз
- движется.
- И в небе есть песть – чад своих пасет,
- а чады песть пестуют, пестунью свою.
- Где умудрённоглавые ходили, блюди их вытопки —
- там не топчи.
- Отвергай куковину, вразумляй кукшу.
- Кто куку кому вскрючит, того кукшей зови.
- Не назовёшь – сам скрючишься.
- Обнимай гнездоту да щупай гнездливых:
- всё ли тут гнездно и годно?
- Чуй да чувай!
- Посади чад вокруг едалища.
- Скажи:
- – Всю едовину не уешь. А она – тебя?
- Ответят:
- – Целует в уста, едовина ненасытная. Снедает,
- снедаема.
- Каждому дай его едло, едолю его.
- И неедальцам – также.
- Крохи собери со стола – для сорницы побирухи.
- Скажи:
- – Побируха сорница рубаху шьёт —
- всегда недошитую и криво тканную,
- и дыро пряденную —
- из пыли и сора, что по углам собирает
- сорница, побируха.
- Побируха сорница озорница, попрядуха,
- ветреница, веретенница,
- без рубахи по дороге идёт, пыль столбом подымает:
- – Вот оно – веретено!
- Кто увидит – блеск того взнищит!
- Лысый валун булыга-лыбуга
- в желвах лежит, в морщах да в лишаях.
- Вот и ты – лишнего не скажи,
- говори: – Молчу! Мало ли чего алчу,
- глыба-улыба.
- Как страх нападёт, не бубучь, не гукай.
- Встань-встынь, говори:
- – Я тут внучок Стоерос, в землю врос.
- А ты – проходи, дедушка Столбеней!
- Как пройдёт – не заметишь.
- Пройдёт и тётка икотка,
- и долгочих – дядька завстрялый.
- Разумей толчки да тычки свои.
- И худо дело – втычено,
- и любо дело – втолчено.
- А ты не тыч, как быч, и не толч, как волч.
- Мрозьке, зьмуке-зьмущей,
- не говори «мрза лютодрыжная».
- Скажи: – Дево льдивое! Бледное. На другой бочок
- перевеснись! Да не задави
- всяку лежмяку.
- Уж такое это дело делдое —
- простое надло, строгое требло —
- люто перелютовать до увесневения,
- да в ярах отъяриться и приосениться —
- во благах как в облаках.
- А там и томь – льнёт. Лилеет томильце.
- – Не притомиться ли? —
- Подумал так – в томилище впал.
- В томилище впалый отверсту зовёт.
- Ты не зови!
- Не почитай адтулину
- как красотулину.
- Не говори всуе: «Суя». Пустое множить – отверсту
- звать.
- А ты зовёшь.
- Прямо гляди. Зыркобокий ко кривде клонится,
- кривень блюдёт.
- А ты прямень прями, да ему не подобься!
- Не всё правда, что прямо. Обод – гнут, да катится.
- Кривду всуе не хули, ибо хула – суть кривда.
- Хулотворцев не хулом выхуливай, но возмозговывай.
- Выползниц крючекрылых
- и перепончатопалых выползней из отверсты кипелой —
- отгнезди.
- Вдвинь им мудрь в дурь.
- Вжучь им добра в пыск.
- Взстыди их живот угрымзами своести.
- Укори их в ямку ядрёмную – твардой кроткостью.
- Говори: – Хороша
- редька драная, а не дрянная!
- Не взъярясь, говори: – Гнездно и годно!
- Блюди, но не возлилей даху свою.
- Что даха даст – то и взяха взяст.
- А ты выпестуй зижду —
- вот радость!
- Даху и взяху – превозмоги через невмоготу.
- Превозневмоготою зижда воззиждется!
- И ежевечерне:
- – Мрей!
- Уложи меня ладно во Встреку-реку мрееву,
- да ладно высплынь оттуда ко вздравсю.
- А скажешь с у́смехом дерзким: – Мрись! —
- мрись тебя смрит.
- Чу, гук: выл вук.
- Кто выл? Вылк.
- Кто был? Бълг.
Невмогота
- Вот говорят:
- – Ну да, ну да: всё тут не то, не то.
- Но ты не говори так: – Ну да, ну да.
- Не то придёт нуда —
- нуда-нудица —
- спросит водицы напиться,
- а за нею – нудищ сто тыщ!
- А ты говори так:
- – Кто тут нудадей изнудённый,
- так это не я – каждую нуду нудачить
- и её нудашек нудатых и ваших
- всех нудаков вознудавших.
- Ибо: – Ну да, – это не к нам.
- Мы – безнудавые!
- И местность наша безнудная,
- и речка – Безнудайка!
- И не говори: – Да ну, да ну…
- Мол, изо всех сил тяну, тяну,
- как лямку – такую данудянку,
- вот и да ну её – дануду дануеву,
- и до кучи – дануриков её данучих
- и всех в дане возданутых,
- да мало ли тут их…
- И не говори данудонам, что их дануй – ну, никто нам!
- Мол, мы – бездануевцы, говорим по-бездануйски,
- и наша житуха – сплошь бездануха,
- и наше лазорево – Бездануево морево.
- А говори: – Для того она и дана-то, такая данута,
- что тянуть её никому невмоготу-то.
- И неохота. Да то-то и оно-то,
- что всё тут не то, ну не то-то.
- И усё – нетото.
- Вот и говорят они – все не те
- и усе нетети нетотоевы —
- про всё и усё,
- да не о том.
- О том,
- да не так.
- Так,
- да так, как не надо.
- Как надо,
- да не вовремя.
- Вовремя,
- да не к месту.
- К месту,
- да не к тому.
- К тому —
- а того нет в дому.
- Что же делать?
- Делать невмоготу.
- Всё – не то,
- одна она – та,
- невмогота.
- Ну да, ну да,
- всё тут не то, не то.
- Но ты не говори так: – Ну да, ну да.
- Отнудишь нудакалы.
- И не говори: – Да ну, да ну, —
- данудка обезданудится.
Обыкновенные подозреваемые
- 2. Фарго.
- Фарго формально – это Дакота,
- но в сериале «Фарго» оно —
- воспринимается как Миннесота.
- Мне эту «Фаргу» в двенадцатый раз смотреть неохота,
- но, вот бывает же и неохота такая, что пуще неволи.
- Хочешь не хочешь, а видишь опять знакомый до боли
- снежный, «Северо-Звёздный» простор
- и его простака-мясника, и «зайку» его – кикимору
- в мини-юбке.
- Из-за неё разгорелся этот чёртов сыр-бор
- и закрутился
- дьявольский фарш в мясорубке.
- Понимаете, тут какая-то хрень
- вовлекает людей с мозгами вдруг набекрень
- в чумовые разборки —
- поперёк рассудка и здравия.
- А фрицев у нас как у дурня махорки
- (за ними по списку идёт Скандинавия).
- Отсюда и Тоффель с чёрной бородкой – герой
- Миннесоты – Мефодий Исаич – сквозной,
- зверь, проходящий из серии в серию
- как подстрекатель к Богу неверию.
- 3. Монстр.
- Ты куда? На оленя.
- Подбрось до шлагбаума. Залезай.
- Шмяк!
- В лобовое стекло птичка влетела,
- предвестник беды, а затем – и олень, —
- хрясь! —
- оказавшийся антропоморфным
- утопленником непотопляемым,
- и обугленным, но из огня восстающим монстром,
- мораль:
- если рыльце в пушку, не проси незнакомца:
- подбрось до шлагбаума.
- И не сажай к себе незнакомцев
- с рылом в меху. Помни:
- если где-то в прихожей ты увидел звериную голову,
- рогатую или с клыками, значит, птички уже полетели —
- в окно твоё лобовое.
4. Ангел-Истребитель.
Персонально его нет. Но он присутствует как террор невыявленной сути.
Как эту суть понимать? Вот, например, все слуги, как крысы с тонущего корабля, вдруг сбежали, а праздные господа остались запертыми в доме. Никто их не запирал, но выйти наружу они не могут. Нет выхода? Есть. Только выйти им нельзя. Почему – неизвестно.
Все спят вповалку в гостиной на ковре. Съестные запасы кончились, от жажды и голода возникают: грязь в отношениях и, как бы сам по себе, покойник. Куда его деть, чтоб не вонял?
Вот он – высший свет, – говорит режиссёр. А по-моему, это просто хорошо одетые люди. Были в опере, решили заглянуть после оперы к Эдмондо – пропустить по рюмочке да и разъехаться по домам. Но застряли в проклятой гостиной.
Нет, все они – порочные мрази, говорит режиссёр, чрезмерно сердитый. Вот зачем ему (режиссёру) здесь медведь, хоть и прирученный? Чтобы сказать, как они с жиру бесятся? По-моему, он сам бесится. А овцы? Не только метафора (бараны, стадо), но и жратва троглодита – прямо на паркете в гостиной, как в пещере.
И с внешней стороны сюда нет ходу. Дом окружен полицией, все толпятся возле ограды, но никто за ограду не идёт. Вход, конечно, существует, но войти в него невозможно. Просто ждут. Чего? Тут я согласен с режиссёром: идиоты.
Вечерние наряды точно не скажут, где именно происходит действие и когда. Они интернациональны и вне времени. Военная форма – тоже. Ну, не наша.
Говорят по-испански. В Испании? Нет, в Мексике. Хотя для Мексики – блондинок перебор. Толстяки с сигарами. Как в карикатурах на чужую жизнь в старом «Крокодиле».
Ну, наконец-то – вырвались, побежали! Жалкие, оборванные. На лицах написано: больше никогда – ни в оперу, ни в гости! Тема террора невыявленной сути заявлена, но не раскрыта. Прав был я, когда-то сказавший, что у Луиса Бунюэля света нет в конце тоннеля.
5. Антихрист.
Или антихристка?
Шарлотта – так называет публика антихристку по имени её исполнительницы – актрисы Шарлотты Генсбур, потому что у героев «Антихриста» имён нет, кроме подозреваемых – Адама и Евы. Убийственна её природа. Самоубийственна? В фильме много ужасного физиологизма, в том числе: кровавая эякуляция её мужа и сцена, где Шарлотта уродует себя ножницами, кажется, слесарными.
Она одержима. Одиумом генерисом хумани, переходящим в аутоодиум. Верно и наоборот. Сему сопутствуют: олень, лисица, говорящая по-латыни, и ворона. Кто они: жертвенные животные или вдруг (с какой стати?) наряду с ангелом – бык, лев, орёл – Тетроморф – крылатое четырёхобразное существо, хранитель четырёх пределов рая? И лес как живой организм – не дружественный человеку – кто он? Титр (и Триер) говорит, что фильм посвящён Тарковскому. Режиссёр «Антихриста», словно приглашая Тарковского в единомышленники, воспроизводит у себя его тревожный лес, помните – предураганный?
