Похабщина как она есть бесплатное чтение
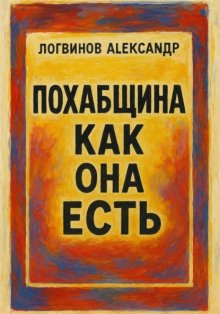
Стоит только кому-нибудь в компании пошутить ниже пояса, как за столом тут же раздаётся смех – пусть и приглушённый в присутствии посторонних. Что уж скрывать: человеческую природу сильнейшим образом тянет ко всему запретному и непристойному. Тайное притяжение сквернословия и непристойных шуток прослеживается с древнейших времён – от разудалых средневековых карнавалов до современных интернет-мемов. «Похабщина» – понятие широкое. В него входит всё, что считается грубым, непристойным, срамным, «для взрослых». Но почему же «низкое» и запретное так магически действует на людей? Какие психологические механизмы пробуждают смех и интерес при звуке крепкого словца? Как проявлялась похабщина в культуре на разных этапах – в фольклоре, литературе, музыке, кино, интернете – и какую социальную роль она играла? Где проходят границы дозволенного – когда похабство превращается в искусство, а когда остаётся просто грязью? И, наконец, может ли вульгарность оказаться честнее показного приличия? Давайте разберём похабщину «как она есть» – без излишней цензуры, но и без самоцели шокировать, с улыбкой, иронией и серьёзным анализом одновременно.
История слова «похабщина»: от юродивых до непристойности
Начнём с самого слова. Сегодня «похабщина» – это грубые, непристойные выражения или выходки. Скажете «несу похабщину» – значит, ругаюсь грязно, разговариваю матерно. Интересно, что изначально корень «похаб-» имел совсем иной смысл. В Древней Руси существовало слово «похабъ», которое означало «безумец», «юродивый» (то есть святой сумасшедший). Происходит оно от церковнославянского глагола «(по)хабити» – «портить, повреждать». Буквально «похабъ» – это «повреждённый», человек с изъяном. В средневековом сознании безумие и святость часто шли рядом: юродивых считали «повреждёнными умом» ради Бога. Неудивительно, что уже в древних текстах «похабъ» употребляли как синоним юродивого – сумасшедшего странника во Христе. От этого же корня образовались старые слова «похабный» (значило «безумный») и «похабство» («безумие»).
Однако со временем первоначальное значение утратилось. Слово «похаб» как «юродивый» из языка исчезло. Зато «похабный» и производные обросли новыми смыслами. Почему «похабное» перестало быть «сумасшедшим» и стало «непристойным»? Существует любопытная гипотеза: будто бы связь безумия и разврата пришла от тех самых юродивых. Ведь святые безумцы порой вели себя отнюдь не благопристойно: могли, например, ходить нагишом, браниться, совершать эпатажные выходки, шокируя обывателей. Их странное поведение, возможно, навлекло на слово «похабный» оттенок распущенности. Проще говоря, юродивый мог обнажиться на городской площади или обругать власть имущих – то, что обычный человек назвал бы мерзостью и похабщиной. Со временем народ забыл о безумцах, но слово осталось – и закрепилось уже в значении «непристойный, грязный, развратный». Как отмечают филологи, вся современная семья слов с корнем похаб- теперь единодушно относится к сфере нецензурщины, ругательств и срамных поступков.
Можно сказать, что язык обогатился новым эвфемизмом: называя что-то «похабным», мы подразумеваем именно обсценность (так учёные именуют запретную лексику и темы), а не сумасшествие. Забавно, что круг замкнулся: изначальное «повреждение» воплотилось уже в «испорченности» моральной. Порою кажется, будто в самом звучании слова похабщина слышится что-то непотребное – настолько прочно новый смысл сросся с формой.
Кстати, этимология роднит слово «похабный» с другими яркими выражениями. Например, в народе есть слово «хабалка» – так грубо называют нахальную, скандальную женщину. И оно имеет тот же корень «-хаб-», намекая на испорченность нрава. Таким образом, исторически похабщина выросла из представлений о людях «испорченных, безумных», став синонимом распущенности и цинизма. В подтверждение – цитата сатирика XIX века Петра Шумахера: «…Всякий цинизм или, говоря по-русски, похабщина тогда хороша, когда набросана или написана если не высоким, то хорошим художником». То есть уже в позапрошлом веке «похабщиной» прямо называли циничное, неприличное содержание – но допускали, что и ему место в искусстве, если сделано талантливо. Мы ещё вернёмся к вопросу границ искусства и непотребства, а пока спросим себя: почему же нас вообще влечёт к похабному?
Запретный плод сладок: психология притяжения к грубому
Можно возмущённо морщиться и делать вид, что пошлые шутки нас не интересуют. Но достаточно вспомнить детство: даже самые воспитанные дети в определённом возрасте начинают хихикать над «табуированными» темами. Скабрёзные частушки, сортирные стишки на стенах, названия интимных частей тела – всё это одновременно и пугает, и притягивает. Взрослея, большинство из нас учится соблюдать приличия на людях. Однако запретный плод продолжает манить. Почему так?
С точки зрения психологии здесь работает сразу несколько механизмов. Во-первых, обычный эффект фокуса на запрете. Стоит объявить что-то «нельзя», как объект запрета мгновенно приобретает ореол привлекательности. Пока слово или тема не объявлены вне приличий, люди могут и не обращать на них внимания. Но попробуйте повесить табличку «Руками не трогать» – сразу же зачесались руки потрогать! Так и с грубым словцом: запрет говорить мат только разогревает интерес, особенно у подростков. Нарушение правил щекочет нервы, дарит чувство новизны и даже превосходства («я осмелился туда, куда нельзя»). Наш мозг, получая порцию адреналина от мелкого бунта, ещё и награждает нас дозой дофамина – гормона удовольствия. Исследования подтверждают: чем сильнее преграда и запрет, тем больше удовлетворение при его преодолении. Недаром говорят, что нарушать правила приятно. Психика наслаждается маленьким бунтом против системы – ведь ничего ужасного не случилось, а ты уже почувствовал себя победителем.
Во-вторых, нарушение табу снижает напряжение. Ругательства и похабные шутки часто всплывают именно в ситуациях стресса, боли, страха. Выронил что-то тяжёлое себе на ногу – и вот уже с языка слетает сочное ругательство, причём оно реально помогает пережить боль. Врачи отмечают, что экспрессивная брань может сыграть роль эмоциональной разрядки, болеутоляющего средства. Когда мы выговариваемся «неподобающим» образом, спадает внутреннее напряжение, уходит зажатость. Похожим образом действует и смех над запретным. Знаменитый психоаналитик Зигмунд Фрейд предполагал, что в юморе мы избавляемся от вытесненных желаний и агрессии – особенно в так называемых непристойных шутках. Похабный анекдот позволяет выпустить пар социально приемлемо: ведь «это же шутка». Под маской иронии проскальзывают скрытые сексуальные фантазии или враждебные выпады, которые впрямую мы выразить не рискуем. Так шутка выполняет роль клапана для подсознания. Недаром смех часто снимает табуированных персонажей ореол серьезности – представьте, например, неприличный анекдот про какого-нибудь строгого начальника: становится легче, правда?
Есть и социальный аспект: тяга к запретному часто – это способ самоутверждения. Нарушая запрет (пусть даже рассказав похабный анекдот), человек как бы говорит: «Мне море по колено, я не боюсь ваших норм!». Особенно это свойственно молодежи, бунтующей против «правил приличия» старшего поколения. Крепкое словцо нередко воспринимается как признак своего парня, простого человека, не слишком чопорного. Отсюда, кстати, и феномен: публичные люди иногда нарочно употребляют простонародную лексику, чтобы казаться ближе к народу. Вспомним, как политики (хоть и оговорившись, «не для протокола») периодически вставляют знаменитое словечко из трёх букв – и публика одобрительно улыбается: «Эх, наш, родной, без галстука поговорил!». Жаргон и брань служат своеобразным маркером искренности, антиподом казённого официального языка.
Наконец, психологи отмечают интересную зависимость: умение оценить хороший чёрный юмор (а он часто балансирует на грани фола) коррелирует с высоким интеллектом. Другими словами, для понимания провокационной, циничной шутки требуется определённая интеллектуальная гибкость. Так что не спешите считать любителей похабных анекдотов глупцами – возможно, они просто опережают вас на несколько IQ-пунктов. Конечно, это не призыв мериться остроумием в сортире, но факт остаётся: юмор табуированной направленности – тонкий инструмент, и ценители у него часто далеко не дураки. В истории много примеров, когда выдающиеся умы не чурались непристойных шуток. Великий Фрейд, кстати, в своей книге о юморе приводил анекдоты столь сомнительные, что современный издатель, пожалуй, поставил бы на них маркировку 18+. А ведь это был научный труд!
Подведём итог: похабщина притягательна, потому что играет на фундаментальных струнах нашей психики. Запрет рождает искушение, нарушение табу дарит адреналин и удовольствие, грязный смех приносит облегчение, а цинизм позволяет заявить о своей свободе. В безопасной форме – через шутку или не всерьёз брошенное ругательство – мы исследуем границы дозволенного. При этом подобные вольности могут даже идти на пользу мозгу, стимулируя творческое мышление (надо же придумать такой каламбур!) и способствуя социальным связям. Да, связь похабщины и общества – отдельная большая тема. Но сперва посмотрим, как же проявлялась похабщина в культуре: от народных песен до кинофильмов.
