Внутренние голоса и диссоциативные части личности. Психотерапевтическая работа с использованием EMDR бесплатное чтение
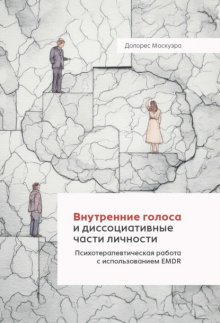
DOLORES MOSQUERA
WORKING WITH VOICES AND DISSOCIATIVE PARTS
A Trauma-Informed Practical Approach
Second Edition
Перевод с английского Н. А. Пресс
Иллюстрация для обложки предоставлена Юлией Локковой
© Mosquera D., 2019
© Издательство «Генезис», 2026
© ИП Мухаматулина Е.А., 2026
© Н.А. Пресс, перевод, 2026
Предисловие к российскому изданию
Книга, которую вы держите в руках, – не просто руководство или сборник техник. Это целый мир, тщательно расписанная карта, открывающая новые перспективы понимания того, как работать с клиентами, которые сталкиваются с внутренними голосами и диссоциативными частями. Она соединяет научную строгость теории, богатый клинический опыт работы и невероятную человечность, что делает ее поистине незаменимым инструментом для специалистов.
Национальная ассоциация EMDR с гордостью представляет книгу Долорес Москуэры «Внутренние голоса и диссоциативные части личности. Психотерапевтическая работа с использованием EMDR» на русском языке. Мы убеждены, что ее появление станет значимым событием для психотерапевтического сообщества, особенно для тех специалистов, которые работают в поле EMDR или другом травма-информированном подходе.
Протокол EMDR, представленный в книге, адаптирован для работы с клиентами с комплексной травматизацией. Долорес Москуэра использует процедуры переработки и микропереработки, но только в тщательно подготовленный момент. Вначале необходимо создать все условия для безопасного соприкосновения с беспокоящими чувствами.
Голоса, о которых идет речь в книге, могут вызывать у клиента страх, стыд, непонимание, а порой и отчуждение. Исторически их часто интерпретировали как исключительно патологическое явление. Однако подход Долорес Москуэры коренным образом меняет эту парадигму. Голоса перестают быть симптомом, который необходимо подавить или устранить, и становятся важной частью внутренней системы, нуждающейся в понимании и интеграции.
Особенно впечатляет, что книга построена не только на теоретических выкладках, но и на богатом клиническом опыте. Читатель найдет здесь множество примеров реальных случаев, зачастую сложных, которые у многих терапевтов наверняка вызвали бы ощущение собственного бессилия. Во второй части книги подробно описаны сессии, даны концептуализации случаев и объяснены решения терапевта. Это словно живой мастер-класс, где за каждым транскриптом сессии кроются годы работы, размышлений и поиска.
Для специалистов, которые только начинают изучать подходы к работе с голосами и диссоциативными частями, книга может стать настоящей путеводной звездой. А для опытных терапевтов она откроет новые аспекты интеграции методов и предложит свежие идеи для практики.
Эта книга – подарок не только терапевтам, но и клиентам, ведь благодаря изложенным в ней идеям мы можем предложить более эффективные и чуткие способы работы с их болью.
Мы надеемся, что вы найдете здесь вдохновение и новые инструменты, которые помогут в вашей практике.
Я хочу выразить глубокую благодарность издательству «Генезис», поверившему в ценность этой книги и поддержавшему наш проект.
Особая признательность моим коллегам из Национальной ассоциации EMDR за их поддержку на всех этапах работы. Юлия Малик, Елена Казенная, Ольга Наливаева, Надежда Градовская и Юлия Глазкова внесли свой бесценный вклад. Эта книга – результат нашего общего труда, и я горжусь, что мы смогли воплотить ее в жизнь.
Юлия Локкова, руководитель издательского проекта Национальной ассоциации EMDR
Предисловие
Всякий раз, пытаясь найти приемлемое определение для понятия «голос», мы сталкиваемся с тем, что это явление тесно связано с отношениями. Вариант остановиться на более конкретном и крайне странном подходе, который предлагают нам словари (например, голос – это звук, возникающий в гортани благодаря вибрации голосовых связок), разумеется, не подходит и не имеет смысла при использовании в контексте психологической работы.
Услышав голос, я сразу же кому-то его приписываю. Связь между мной и владельцем голоса формирует отношенческий компонент этого ощущения. Более того, голос представляет собой нечто большее, чем просто шум или звук, он обладает смыслом, несет в себе послание от человека, и это послание я могу принимать или не принимать.
Иногда я могу легко узнать человека по голосу, и такое узнавание добавляет глубины и ощутимости воспринимаемому мной. Голос напоминает мне о конкретном человеке, и послание становится более насыщенным, поскольку оно становится «посланием этого человека, которого я знаю лично».
Такие общие наблюдения по поводу голосов как признаков наличия значимых отношений обоснованы и в тех случаях, когда считается, что голос или голоса имеют галлюцинаторное происхождение. Исторически представители всей «пси-сферы» (психология, психиатрия и психотерапия) допустили две серьезные ошибки в связи с так называемыми слуховыми галлюцинациями (аудиальным восприятием, не имеющим аудиального стимула).
Первой ошибкой стал взгляд на все слуховые галлюцинации без исключения как на патологию. Есть множество опросов, проведенных среди «здорового» населения, которые доказывают ложность подобных взглядов. На самом деле довольно большое количество людей (приблизительно от 5 % до 15 %) говорят о том, что подобные переживания случаются с ними регулярно, и далеко не всегда это является критерием для постановки психиатрического диагноза.
Вторая ошибка, которую можно считать непосредственным следствием первой, состоит в том, что наличие голосов связывают исключительно с шизофренией. Слуховые галлюцинации действительно часто являются симптомом этого заболевания, но далеко не всегда. Обращаясь к работам Эмиля Крепелина и Эйгена Блейлера, двух первопроходцев в сфере исследования психотических расстройств и шизофрении, мы сразу понимаем, что ни один из них не считал сам факт наличия галлюцинаций основным или обязательным симптомом для диагностики этого тяжелого состояния. В основу подобного заблуждения легла работа Курта Шнайдера, написанная им в 1950-е годы. Он предложил включить в группу «симптомов первого ранга» некоторые типы слуховых галлюцинаций, поскольку считал их особо важными для дифференциальной диагностики шизофрении.
Начиная с 1990-х годов появляются устойчивые и совершенно однозначные результаты клинических исследований: шнайдеровские симптомы первого ранга проявляются при множестве различных психиатрических заболеваний и не являются достоверным критерием для постановки диагноза «шизофрения». На самом деле они чаще встречаются (превалируют) при диссоциативных расстройствах и в целом среди людей с более высоким баллом по Шкале диссоциативного опыта (англ. Dissociative Experience Scale\ которые подвергались физическому и/или сексуализированному насилию в детстве. Это совершенно неудивительно, поскольку три вышеупомянутых аспекта тесно взаимосвязаны.
При более внимательном рассмотрении шнайдеровских симптомов первого ранга мы обнаруживаем интересные диссоциативные признаки, особенно когда речь идет об отдельных голосах, комментирующих идеи или поведение клиента, или о множестве голосов, которые обсуждают что-то или спорят друг с другом, исключая из этого спора клиента – как будто голоса являются независимыми «личностями» и действуют вопреки воле воспринимающего их субъекта. То же самое можно сказать и о другом типичном шнайдеровском симптоме первого ранга под названием «чувство отчуждения» (навязанные чувства, навязанные действия, навязанные мысли), при котором человек чувствует, что его действия, мысли и чувства принадлежат не ему самому, а «кому-то другому» (потеря самоконтроля), что они навязаны ему (потеря автономности субъекта).
Из множества клинических и академических исследований в области травмы, особенно из работ Пьера Жане и авторов теории структурной диссоциации личности (Ван дер Харт, Нейенхэюс, Стил), мы знаем, что травмирующие события оказывают дезинтегрирующее (то есть диссоциативное) воздействие, сила которого пропорциональна интенсивности события, возраста, в котором началась травматизация, ее продолжительности и повторяемости. Одно из важнейших дезинтегрирующих последствий травматизации состоит в разрушении связности личности, которая распадается на две или более частей, которые сначала были интегрированы, а теперь диссоциируются.
Согласно этому подходу, вполне понятно, что чем раньше, чаще и тяжелее были случаи насилия, тем более сложным, фрагментированным, конфликтным и запутанным будет внутренний мир клиента и его симптоматика. Именно поэтому наличие относительно независимых выраженных диссоциативных частей является признаком того, что человек с высокой долей вероятности подвергся тяжелой и ранней травматизации. Одним из основных способов проявления этих частей как раз и становятся «их» голоса.
В этой потрясающей новаторской книге Долорес показывает нам, как довести присутствие голосов до максимума и с помощью этого достичь важных клинических целей. По ее мнению, голосов не надо бояться, их не надо считать признаком шизофрении, не надо пытаться от них избавиться – шаг за шагом она очень подробно объясняет, как работать с голосами в психотерапии. В этой книге она призывает нас вместе с клиентами исследовать голоса, прислушиваться к ним, а не избегать, снижать уровень диссоциативных фобий по отношению к голосам, понимать и подтверждать их функцию, находить альтернативные виды реагирования и работать с «потребностями голосов» и недостающими элементами. Если мы работаем таким образом, то в системе возникает взаимное доверие и сотрудничество, и части начинают работать как одна команда.
Общая структура клинической работы дополняется объяснениями структуры отдельных клинических сессий. Читатель увидит, как выглядят разные аспекты работы, ознакомившись с множеством транскриптов реальных терапевтических сессий. Уникальный, богатейший клинический материал дополняют меткие комментарии автора, сопровождающие текст.
Мудрое, последовательное и профессиональное использование травма-информированного подхода создает эффективный контекст работы, благодаря которому и терапевт, и клиент понимают важность, причины возникновения и защитные задачи разных частей личности. Это позволяет поддерживать верный темп работы, не спешить с преждевременной переработкой травмы и избегать повторения фобических блоков или перепроживания травматических событий, а наоборот – создавать контейнирующие, безопасные отношения и при этом двигаться вперед.
Читатель также найдет в книге описания конкретных процедур и техник, основанные на опыте работы автора с травмой в качестве терапевта, в частности, «Место встречи», «На кончике пальца», техника «Веснушка».
За первой, более теоретической частью следуют пять подробных клинических случаев. Я считаю, что эти главы обязательны к прочтению и по сути являются «книгой в книге» благодаря богатым и ясным наблюдениям и способности Долорес всегда присутствовать с клиентом в том, что происходит. Я уверен, что после прочтения книги каждый поймет, что это – большой подарок психотерапевтам и всем, кто интересуется исцелением людей, страдающих от последствий комплексной травмы и диссоциативных расстройств.
Джованни Тальявини,
психиатр-психотерапевт (Милан, Италия), президент Итальянского общества по изучению травмы и диссоциации
Благодарности
Я благодарю моих клиентов – вы мои лучшие учителя и источник вдохновения в этом путешествии. Особая благодарность клиентам, чьи переживания легли в основу клинических случаев, представленных в этой книге. Вы проявили большую щедрость, и я очень горжусь каждым из вас. Спасибо вам за доверие!
Я также хочу поблагодарить:
– Наталию – за то, что она вдохновила меня описать работу с этими клиентами. За то, что она – настоящий друг, который всегда рядом;
– Паулу – за поддержку всех моих проектов и за то, что она всегда находит время прочитать мои работы. Спасибо за искреннюю, конструктивную обратную связь, предложения и безусловную поддержку;
– Мириам – за редактуру этого текста, за ценные предложения, за помощь в улучшении содержания книги на протяжении всего процесса написания. Спасибо тебе большое за то, что ты заставляешь меня думать. Я очень ценю проделанную тобой работу, вложенные в этот проект время и энергию и твои советы;
– Джованни – за профессиональное рецензирование этой книги и за написание предисловия к ней, за честную обратную связь и поддержку. Спасибо, что помогли мне осознать многое из того, что я делаю;
– Айноа – за рецензирование этой книги, за помощь в структурировании и прояснении информации, за потрясающие предложения по улучшению разных глав и разделов книги. Спасибо, что помогла мне задуматься и предложила включить более подробную концептуализацию случаев, а также составить план терапии в разделе, посвященном клинической работе;
– Эндрю Московица – за обратную связь по моей работе и поддержку в записи моих идей;
– Онно ван дер Харта – вы помогли мне начать ценить мои идеи и очень многому научили за все эти годы;
– Кэти Стил и Сюзетт Боун – спасибо вам за готовность давать обратную связь на мою работу и за прекрасное время, которое мы провели в путешествиях по миру и совместном проведении тренингов. Вы – идеальная команда!
Введение
Эта книга задумана как практическое руководство по работе с клиентами, которые слышат голоса или имеют диссоциативные[1] части. Идея написать книгу на эту тему пришла ко мне довольно давно и вызвала интерес у моих коллег. Они и подтолкнули меня к созданию текста, в котором я описала интервенции, необходимые для эффективной работы с этой категорией клиентов.
Выделяя шаги, которые я совершаю в терапии, я поняла, что многие интервенции вплетаются в ткань работы на протяжении всей сессии, и их применение во многом зависит от специфики клинической ситуации. Я стала лучше понимать смысл написания практической книги, которая могла бы служить руководством для этой работы – книги, которая включала бы клинические примеры, иллюстрирующие работу с разными клиническими ситуациями и типичные сложности, с которыми мы часто сталкиваемся при работе с диссоциативными частями, и в особенности – с диссоциативными голосами.
Книга состоит из двух разделов: теоретического и практического. Теоретическую часть книги можно условно разделить на четыре смысловых подраздела. Цель глав 1 и 2 – рассказать об основах работы с диссоциативными голосами и частями.
В них приводится краткое объяснение важных ключевых понятий, описываются подходы, повлиявшие на метод, которым я пользуюсь в книге, а также некоторые процедуры и техники, применение которых читатель впоследствии увидит в разборе клинических случаев.
В главах 3 и 4 основное внимание уделяется трем базовым интервенциям: помощь клиенту в развитии Взрослого Я, исследовании внутренней системы и понимании внутреннего конфликта. Мы увидим, что именно конфликты между частями лежат в основе имеющейся симптоматики. В ходе разбора клинических случаев я подробно опишу ключевые элементы, которые позволяют проводить базовые интервенции и достигать значимых для системы целей на разных этапах терапии. В этих главах также содержатся общие рекомендации, которые помогут выстроить структуру клинической сессии и терапии в целом.
Главы 5-10 посвящены работе со сложными частями и голосами. В них описаны типы голосов и частей, которые часто встречаются во внутреннем мире таких клиентов. Предлагается классификация на враждебные и агрессивные голоса, суицидальные части, критикующие голоса, части, имитирующие насильника, и части, испытывающие страх. Причина, по которой мы выделяем разные типы голосов и частей, состоит в том, что хотя на практике работа с ними часто выглядит схожим образом, в ней присутствуют и важные различия.
Главы 11 и 12 посвящены трем темам: дифференциации, со-осознаванию и интеграции. Отсутствие дифференциации – одна из главных проблем, с которой сталкиваются терапевты при работе, поскольку внутренняя и внешняя реальности клиентов могут очень сильно отличаться друг от друга. Зачастую уделяется слишком мало внимания застреванию частей в прошлом травматическом опыте, при котором они не осознают, что прошлое уже закончилось, и они находятся в безопасном настоящем. Таким образом стирается граница между ориентацией на настоящее и повторным проживанием того, что когда-то произошло, как будто оно все еще продолжает происходить.
Наконец, следует отметить еще один немаловажный момент: клиенты склонны путать свои самые агрессивные части и голоса с голосами реальных насильников, и им бывает довольно сложно понять, что эти части на самом деле принадлежат им самим.
По мере снижения интенсивности внутреннего конфликта можно начинать работать над развитием со-осознавания и интеграцией этих частей и голосов. Иногда со-осознавание развивается постепенно, естественным образом, и проведение особых интервенций в таком случае может не потребоваться. На самом деле интеграция начинается с самой первой сессии. Мы проводим интервью, общаемся с частями, при этом помним о системе в целом – все это уже интегративные интервенции. Однако некоторые части нуждаются в дополнительной помощи во время интеграции с теми частями, которых они боятся сильнее всего. Этому процессу способствует со-осознавание, ориентация во времени и работа с дифференциацией.
В большинстве глав есть краткие описания клинических случаев, чтобы читатель мог интегрировать теоретические положения каждой главы в клиническую практику и использовать книгу как справочный материал, сталкиваясь с теми или иными сложными ситуациями. Кроме того, во втором разделе приводятся полные транскрипты сессий, позволяющие ознакомиться с целым рядом клинических случаев, в которых терапевт адаптирует и сочетает различные интервенции. Особое внимание в транскриптах сессий будет уделено различным шагам и процедурам, о которых идет речь в книге. Разумеется, вся информация личного характера была полностью изменена в целях защиты конфиденциальности клиентов.
Раздел 1
Описание работы
Глава 1
Ключевые понятия, теоретические подходы и клинические процедуры
В этой книге я описываю практические инструменты, которые основываются на различных теоретических и психотерапевтических подходах, работающих с понятиями диссоциативных частей и отсутствием интеграции, как при диссоциативных расстройствах, так и при расстройствах личности, особенно при пограничном расстройстве личности. Кроме того, эта практика также связана с другими подходами, напрямую работающими с травматическими переживаниями, например EMDR[2] – методом десенсибилизации и переработки движениями глаз (Shapiro, 2001, 2018).
У меня не было задачи подробно описать здесь все эти понятия и подходы, поскольку существует огромное количество специальной литературы, к которой может обратиться заинтересовавшийся читатель. Однако краткое описание ключевых понятий и психотерапевтических теорий и моделей поможет более глубоко понять тот вид деятельности, которому посвящена эта книга.
Помимо знакомства с некоторыми важными понятиями, в этой главе читатель также найдет описание терапевтических процедур, которые применяются при проработке определенных тем в терапии клиентов с диссоциативными частями или голосами – эти процедуры позднее будут проиллюстрированы разными клиническими случаями в разных главах книги.
Ключевые понятия в работе с диссоциативными частями и голосами
Читателю следует познакомиться с некоторыми важными понятиями, поскольку они лежат в основе всей остальной информации, которая предлагается в этой книге.
Взрослое Я
Взрослое Я представляет собой особый набор способностей личности, которые обычно еще не развиты у всех частей личности. Понятие «Взрослое Я» используется в этой книге в значении, схожем с «Я будущего» (англ. Future Self, см. Korn, Leeds, 2002) и «Здоровый Взрослый» (англ. Healthy Adult) из схема-терапии (Young et al., 2003). Среди способностей личности, которыми обладает Взрослое Я, можно назвать эмпатию, заботу, валидацию[3] и внимательное отношение к разным частям личности. Эти качества развиваются у клиента благодаря тому, что терапевт выступает для него в качестве ролевой модели. Развитие Взрослого Я с помощью терапевтической работы более глубоко рассматривается в главе 3.
Билатеральная стимуляция
Билатеральная стимуляция (БЛС) – это применение внешних визуальных, аудиальных или тактильных стимулов, выстроенных в ритмический паттерн смены сторон (Shapiro, Solomon, 2010). БЛС является одним из ключевых компонентов EMDR-терапии (Shapiro, 2001, 2018) – широко применяемого терапевтического подхода к работе с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Как правило, при работе в этом подходе клиент сосредотачивается на травматическом воспоминании и негативных мыслях или чувствах, связанных с этим воспоминанием. Затем он следит глазами за рукой терапевта или каким-то предметом, который движется перед ним туда-сюда в горизонтальной плоскости. Терапевт также может выбрать другой тип билатеральной стимуляции – постукивания или аудиальную стимуляцию. Изначально в этом подходе в качестве билатеральной стимуляции использовались только движения глаз, однако сейчас часто применяют и другие виды стимуляции, например, билатеральные звуковые сигналы.
Существует гипотеза о том, что такая стимуляция помогает клиенту получить доступ к негативным воспоминаниям и переработать их, тем самым снижая психологическое напряжение, связанное с воспоминанием. Применение БЛС проиллюстрировано в описаниях клинических случаев в разделе 2, где эта процедура применяется в варианте, адаптированном для работы с клиентами с комплексной травматизацией (Gonzalez, Mosquera, 2012; Mosquera, 2014; Knipe [2015]).
Любые процедуры с применением БЛС предназначены для применения исключительно специалистами, прошедшими обучение методу EMDR. Люди, не прошедшие такого обучения, не должны пытаться применять подобные процедуры в работе с клиентами.
Со-осознавание
Термин «со-осознавание» используется для описания осведомленности эго-состояний и/или диссоциативных частей о существовании друг друга и их способности делиться друг с другом информацией. Со-осознавание – один из ключевых аспектов процесса интеграции. С точки зрения теории эго-состояний Филлипс и Фредерик предполагают наличие разных этапов пути к интеграции: узнавание, налаживание коммуникации, развитие эмпатии, совместные начинания, разделение внутреннего опыта, со-осознавание и продолжающееся со-осознавание (Phillips, Frederick, 1995). Это связано с процессом работы с фобией диссоциативных частей личности и внутренним конфликтом. Со-осознавание подробно описывается в главе 11.
Дифференциация
У разных авторов отличаются представления о том, что такое дифференциация. В этой книге мы понимаем дифференциацию не только в контексте отношений с другими людьми, но главным образом как способность клиента дифференцировать внутреннюю и внешнюю реальность – отличать то, что происходит внутри, от того, что происходит снаружи. Важнейшую роль играет дифференциация настоящего и прошлого, поскольку, когда части не знают, что опасность уже миновала, и продолжают жить в периоде, когда произошла травма, у человека часто возникают сложности с ориентацией во времени. При наличии частей, имитирующих насильников, или голосов, которые повторяют их слова, очень легко потеряться во внутреннем хаосе и перепутать эти части с реальным насильником. Глава 11 посвящена разным аспектам работы с дифференциацией.
Диссоциативные части и голоса
Этот термин обычно используется для описания внутренней структуры диссоциативных расстройств. Диссоциативные части представляют собой выраженные идентичности или состояния личности. Они являются не «предметами», «людьми» или «личностями», а относительно устойчивыми паттернами мышления, чувствования, восприятия, интуиции и поведения, организованными во множественные, иногда противоречащие друг другу состояния личности (Steele et al., 2019). Неотъемлемым свойством диссоциативной части, таким образом, является восприятие от первого лица (Van der Hart et al., 2006). Когда эти части берут на себя контроль над действиями в повседневной жизни, то начинают все больше и больше воспринимать себя как отдельную личность. Проще говоря, они воспринимают себя отдельными от других частей и от клиента в целом. Однако такое самовосприятие может быть и очень рудиментарным, как в случае с частями, которые, к примеру, содержат лишь фрагмент сенсорно-моторных воспоминаний о том, что произошло. Ричард Клюфт отмечает, что диссоциативные части, в отличие от эго-состояний, обладают самоощущением и саморепрезентацией, а также автобиографическими воспоминаниями и личным опытом, который считают своим (Kluft, 1988).
Читатель столкнется с терминами «голоса» и «части» в разных клинических случаях. Одни клиенты будут в основном говорить о голосах и называть свои части «голос» или «голоса»; другие будут говорить и о голосе/голосах, и о части/частях. Обратите внимание, что все голоса являются частями, но не все части являются голосами, и во многих случаях необходимо работать и с тем, и с другим. В обоих случаях используются очень схожие интервенции. Основное отличие состоит в том, что при работе с голосами мы фокусируемся главным образом на диалоге, развивающемся между клиентом и разными голосами, а работа с частями – это в первую очередь работа с происходящим взаимодействием (например, поведение или симптом).
Диссоциативные фобии
Этот термин взят из теории структурной диссоциации личности (Van der Hart et al., 2006). Авторы описывают модель, согласно которой структурная диссоциация появляется в результате травмы и поддерживается целым рядом фобий, характерных для людей, переживших травму, а также факторами отношений (Nijenhuis et al., 2002; Steele et al., 2001, 2005). Термин «фобия» здесь понимается как динамика, которую мы часто наблюдаем у травмированных людей и которая способствует поддержанию внутреннего конфликта, мешает его разрешению и реинтеграции личности. Несмотря на то что авторы описывают различные типы диссоциативных фобий, в последующих главах мы будем уделять основное внимание диссоциативной фобии голосов и частей личности по отношению друг к другу, фобии травматических воспоминаний (то есть попыткам не думать о травматическом опыте), а также фобии ментальных действий (то есть попыткам вообще не думать или не чувствовать).
Эго-состояния
По определению, предложенному Джоном и Хелен Уоткинс, эго-состояния – это не только диссоциативные части при посттравматической патологии, но и части, составляющие здоровую личность каждого человека (Watkins J., Watkins Н., 1997). Это все части, из которых состоит личность. Эго-состояния дают нам возможность адаптироваться, мыслить, действовать и реагировать по-разному в разных ситуациях. С точки зрения теории эго-состояний, Филлипс и Фредерик говорят о том, что если рассматривать эго-состояния как континуум, то они, как правило, отделены друг от друга некой полупроницаемой мембраной (Phillips, Frederick, 1995).
Важно понимать, что все диссоциативные части являются эго-состояниями, но не все эго-состояния являются диссоциативными частями (Steele et al., 2017). У эго-состояний нет самоощущения от первого лица, поскольку они понимают, что являются частью человека, и клиенты воспринимают их как «себя», в отличие от более развитых диссоциативных частей.
Интеграция
Простейшее определение интеграции может звучать так: это действие или состояние совмещения разных элементов в единое целое. Однако интеграция не является единичным событием или конечным пунктом назначения. Это динамическое состояние бытия, находящееся в постоянном движении, но одновременно с этим устойчивое и стабильное (Steele, 2017). Согласно рекомендациям Международного общества по изучению травм и диссоциации (ISSTD, 2011), интеграция — это объемный, длительный процесс, включающий всю терапевтическую работу с диссоциированными психическими процессами. О других сходных понятиях, которые часто путают с термином «интеграция» (например, слиянии), речь пойдет в главе 12.
Внутренний конфликт
Этим термином обозначается конфликт, существующий между всеми аспектами или частями внутренней системы и особенно ярко проявляющийся у человека, который слышит голоса или воспринимает части как «не себя». Оба варианта тяжело переносятся клиентами, склонными к попыткам проигнорировать эти части или избавиться от них. Чем больше клиент пытается игнорировать голоса или части или старается избавиться от них, тем более острым становится конфликт. Именно поэтому основная задача работы с голосами состоит в снижении остроты конфликта и развитии способности к сотрудничеству. Это понятие подробно обсуждается в главе 4.
Внутренняя система
Этот термин обозначает психическую репрезентацию различных аспектов или частей сознания, которая создается клиентом с фрагментированной структурой психики. Внутренняя система включает диссоциативные части, воспоминания, чувства и любые другие диссоциированные аспекты человека. Понимание частей как системы, а не отдельных состояний личности дает важный контекст для терапии. В главе 4 подробно обсуждается способ исследования внутренней системы.
Интернализация посланий
Интернализация напрямую связана с научением и вспоминанием того, что уже выучено. В психологии интернализацией называется интеграция установок, ценностей, стандартов и мнений других людей в собственную идентичность или самоощущение. В этой книге я постараюсь проиллюстрировать с помощью клинических примеров, как клиенты и их голоса учатся и интернализируют послания и установки других людей, а затем повторяют их на протяжении жизни.
Метакогниции и мыслительные навыки высшего порядка
Джон X. Флейвелл использовал этот термин для описания когниций высшего уровня, то есть когниций о когнициях, или менее формально – «мышлении о мышлении» (Flav ell, 1979). Метакогниции состоят из двух компонентов: знания о когниции (то есть осознания собственного процесса познания) и регуляции или контроля за когнициями, связанного с мыслительными процессами высшего порядка.
Некоторые виды научения требуют большей когнитивной обработки, но при этом обладают более генерализованными преимуществами. Мыслительные процессы высшего порядка включают овладение такими сложными навыками суждений, как критическое мышление и способность к решению проблем. Мышлению высшего порядка сложнее научить или научиться, но оно является и более ценным, поскольку такие навыки с большей долей вероятности пригодятся в незнакомых ситуациях (то есть в ситуациях, не похожих на те, в которых был выучен сам навык).
Режимы
Этот термин взят из схема-терапии. Режимы – это состояния или стороны личности, использующие особые схемы или действия схем (Young et al., 2003) – адаптивные или дезадаптивные – которые на данный момент являются активными у человека. Выделяется четыре основных типа: детские режимы (Уязвимый Ребенок, Агрессивный Ребенок, Импульсивный/Недисциплинированный Ребенок и Счастливый Ребенок), дисфункциональные копинговые режимы, дисфункциональные родительские режимы, а также режим Здорового Взрослого. Последний режим практически отсутствует у многих пограничных клиентов, следовательно, его формирование – одна из задач терапии. Основной режим, который мы будем стараться развивать, – режим Здорового Взрослого (см. главу 3).
Переключение
Этот термин в основном используется для описания изменений диссоциативных частей личности при диссоциативном расстройстве идентичности (ДРИ). Некоторые переключения очень легкие и едва заметны стороннему наблюдателю, другие совершенно очевидны и могут характеризоваться изменением тона голоса, позы или поведения. Некоторые люди с ДРИ очень мало осознают разные части своей личности и не общаются с ними, поэтому практически не замечают, как происходит переключение, что обычно предполагает наличие амнезии, связанной с фобическим конфликтом между разными частями. В других же случаях, напротив, мы довольно часто наблюдаем сотрудничество разных личностей, при котором человек полностью осознает переключение или может его контролировать.
Все эти термины очень важны при описании и понимании различных внутренних процессов, характерных для клиентов и их голосов, а также процедур, которые применяются на разных этапах терапии.
Психотерапевтические теории и подходы, основанные на существовании диссоциативных частей и голосов
Терапия эго-состояний
Этот психодинамический подход направлен на терапию различных патологий и использует различные инструменты, в том числе множество интервенций гипнотического характера. Он был разработан Джоном Уоткинсом (Watkins, 1997) и включает разнообразные техники групповой и семейной терапии, которые применяются в индивидуальной работе с внутренней системой клиента. Автор полагает, что эго-состояния есть у всех и представляют собой разные аспекты личности. У диссоциативных клиентов более выражена сепарация и дифференциация этих состояний, и максимальной степени она достигает при диссоциативном расстройстве идентичности.
В основе рабочего метода лежат выявление разных черт и функций каждого дифференцированного эго-состояния и применение целого ряда интервенций для выстраивания хороших отношений между состояниями.
Внутренние семейные системы
Этот интегративный подход был предложен Ричардом Шварцем (Schwartz, 1995). Согласно ему, сознание состоит из относительно отдельных частей, или субличностей, каждая из которых обладает собственными взглядами, воспоминаниями, интересами и качествами. При работе в этом подходе проводится исследование организации субличностей, а также возникающих между ними конфликтов. Шварц описывает три категории частей: менеджеры, пожарные и изгнанники. Первые две объединяются в более общую группу под названием «защитники». Изгнанники содержат в себе боль и травматические переживания, которые на каком-то этапе были невыносимыми для системы.
Основная идея этого подхода состоит в том, что все части обладают позитивным намерением, даже если их действия и последствия этих действий могут пагубно сказываться на клиенте или вызывать нарушения. Цель терапии – достичь внутренней гармонии и соединенности, не избавляясь при этом ни от одной из частей.
Теория структурной диссоциации личности
В 2006 году Ван дер Харт, Нейенхэюс и Стил опубликовали книгу «Призраки прошлого» (англ. The Haunted Self), в которой предложили подход, объединяющий знания психологии травмы и нейробиологии, а также классические теории диссоциации. Авторы воспринимают диссоциацию не как симптом или расстройство, а как стратегию, лежащую в основе всех посттравматических расстройств. Они предложили стройный теоретический контекст для понимания причин отсутствия интеграции и наличия конфликтов у клиентов, имеющих диссоциативные части и слышащих голоса.
Теория структурной диссоциации личности утверждает, что при травме (как при травматических событиях, так и при нарушениях ранней привязанности) личность разделяется на две или более подсистемы, или диссоциативные части. Каждой из этих частей соответствуют разные системы действий: так, внешне нормальные части личности (ВНЛ) в основном действуют в повседневной жизни, а аффективные части личности (АЛ) в основном связаны с защитными механизмами, необходимыми во время травматического опыта.
Клиент как АЛ продолжает проживать травму и продолжает находиться «там и тогда». Эта часть все так же чувствует угрозу, поэтому возникает и защитная реакция. В таком состоянии человек не может жить обычной жизнью и вступать во взаимодействие с другими. В результате он отсоединяется от аффективной части и начинает жить из ВНЛ. Из ВИЛ пережившие травму люди воспринимают АЛ и по крайней мере некоторые действия и состояния, связанные с АЛ, такие как эго-дистонные, как нечто, что «случается» с ними, однако полностью ее не присваивают. ВНЛ сосредоточена на избегании травматических воспоминаний и внутренних переживаний как таковых и пытается казаться нормальной. Тем не менее психика начинает функционировать иначе: нормальность ВНЛ остается лишь внешней и приводит к развитию негативной симптоматики – дистанцирования, ступора, частичной или полной амнезии травматического опыта.
Схема-терапия
Этот подход был разработан Джеффри Янгом для терапии расстройств личности (Young, 1990) и включает элементы когнитивно-поведенческой терапии, теории объектных отношений и гештальт-терапии. Основное внимание уделяется широкому спектру эмоций, личности и схемам, по которым живет человек. В рамках этого подхода описывается несколько базовых способов, которыми люди с расстройством личности структурируют и воспринимают мир, а также реагируют на него. На основе детского травматического опыта формируются схемы и режимы, связанные с реакциями клиента на настоящее.
Этот подход полезно использовать для психологического просвещения клиентов (психообразования), чтобы клиент быстро увидел связь между прошлым и настоящим и понял связь между тем, чему он научился в прошлом, и тем, как он строит отношения, взаимодействует и реагирует на других в настоящем.
Терапия, фокусированная на переносе (ТФП)
Психотерапия, фокусированная на переносе, имеет психоаналитическую направленность. Этот подход был предложен в 1960-е годы Отто Кернбергом (Kernberg, 1967) и в дальнейшем совершенствовался на протяжении многих лет. Это теория развития организации пограничной личности, которая понимается в контексте аффектов и репрезентаций себя и другого, что в некотором роде схоже с вышеописанными диссоциативными частями. Частичные репрезентации себя и других объединены в пары и аффективно связаны в психические единицы под названием «диады объектных отношений». По Кернбергу, задача терапевта состоит в том, чтобы «выявить действующих лиц» внутреннего мира пограничного клиента, используя контрперенос для понимания переживаний клиента. Среди репрезентативных пар действующих лиц, присутствующих во внутренней жизни клиента, выделяются следующие: «деструктивный плохой ребенок» и «наказывающая, садистская родительская фигура», «нежеланный ребенок» и «отвергающая, поглощенная собой родительская фигура», «ущербный, никчемный ребенок» и «презирающая родительская фигура», «жертва насилия» и «садистический мучитель», «жертва сексуализированного нападения» и «насильник».
Динамика изменений клиентов, которые проходили терапию, фокусированную на переносе, представляет собой интеграцию поляризованных аффективных состояний и репрезентаций себя и других в более связное единое целое. Интеграция также является целью и терапевтического подхода к диссоциативным расстройствам.
Терапия, основанная на ментализации
В центре внимания Энтони Бейтмена и Питера Фонаги (Bateman, Fonagy, 2004) стоят нарушения привязанности, связанные с проблемами в детско-родительских отношениях, а рабочая гипотеза говорит о том, что если мать не может выполнить свою задачу по отзеркаливанию эмоциональных состояний младенца, то возникает дефицит ментализации. Ментализация определяется как способность интуитивно понимать мысли, намерения и мотивацию других людей, а также отслеживать связь между мыслями, чувствами и действиями. Следовательно, терапия фокусируется на развитии способности к ментализации.
Будучи тяжелыми и хроническими, подобные нарушения со-настройки и регуляции оказывают глубочайшее влияние на развитие личности ребенка. Дети вынуждены интернализировать искаженные психические состояния так, будто те принадлежат им самим. Идея об интернализации и внутренней конструкции ментальных репрезентаций – следствия проблем с ранней привязанностью – во многом схожа с идеей о диссоциативных частях и диссоциативных фобиях по отношению к определенным частям личности, которая описана в теории структурной диссоциации личности. Объединяющим элементом для этих подходов в рамках психоаналитической теории является проективная идентификация: некоторые интернализированные части, которые человек не принимает как свои, проецируются на другого.
EMDR-терапия
Учитывая широкую распространенность травмирующих событий в анамнезе клиентов, которые слышат голоса, методы терапии, сфокусированные в первую очередь на травме, дают потрясающую возможность для работы с подобными клиническими ситуациями. EMDR-терапия (десенсибилизация и переработка движениями глаз) – многообещающий подход, обладающий обширной доказательной базой в области терапии травмы (Shapiro, 2001, 2018). Теория адаптивной переработки информации выдвигает гипотезу о том, что в основе патологии лежат травматические воспоминания, включая не только случаи насилия и жестокого обращения, но и повседневный опыт, связанный с ненадежной привязанностью или тяжелыми событиями любого характера. Согласно этой теории, такие тяжелые переживания сохраняются в нервной системе дисфункциональным образом, блокируя работу системы, с помощью которой наш мозг обрабатывает опыт.
EMDR способствует переработке и интеграции дисфункционально сохраненной информации. Для этого обращаются к перцептивным, когнитивным, эмоциональным и соматическим элементам воспоминания, соответствующим разным уровням переработки информации (Shapiro, 2001, 2018). После того как произошла активация воспоминания и его компонентов, для разблокировки информации применяются движения глаз, которые, по мнению специалистов, приводят в движение систему адаптивной переработки информации в нашем мозге. Терапевт следует за процессом, помогая клиенту делать сеты движений глаз, пока связанное с этим воспоминанием эмоциональное и соматическое беспокойство не проходит, после чего у клиента появляется новое адаптивное убеждение о себе. Помимо движений глаз также возможно использование двусторонней тактильной или аудиальной стимуляции. Все варианты этой техники называются билатеральной стимуляцией.
EMDR состоит из восьми фаз, включая фазу сбора анамнеза и стабилизации, которые предшествуют получению доступа к вызывающим беспокойство воспоминаниям и возможности их переработки. Для работы с диссоциативными расстройствами и расстройствами личности были разработаны специально адаптированные версии EMDR-терапии; например, одни специалисты сочетают EMDR с терапией эго-состояний (Forgash, Copeley, 2007; Paulsen, 2009), другие – с теорией структурной диссоциации (Gonzalez, Mosquera, 2012; Mosquera, Gonzalez, 2014). В этой книге я опишу некоторые техники, применяющиеся во второй фазе EMDR-терапии, в частности, основанные на «прогрессивном подходе» (Gonzalez, Mosquera, 2012).
Клинические процедуры и техники
Когда клиент готов столкнуться с травмой и начать работать с травматическим анамнезом, переработка травматических воспоминаний становится самым важным стабилизирующим элементом. Однако большинство клиентов, которые слышат голоса или имеют сложную внутреннюю систему, не готовы к этой работе в начале терапии и нуждаются в правильно проведенной подготовке. Для безопасной работы с травмой по стандартному протоколу, необходимо наличие как минимум следующих условий.
• Достаточное знание внутренней системы.
• Адаптивная информация[4]: без нее клиент не будет готов к работе с травмой любого рода.
• Определенная степень способности к саморегуляции или регуляции с помощью терапии (со-регуляция).
• Способность поддерживать двойной фокус внимания[5], даже если это возможно только с помощью терапевта.
• Способность замечать, что происходит в теле, и выдерживать физические ощущения.
• Со-осознавание диссоциативных частей или наличие договоренностей внутри системы.
• Некоторая степень контейнирования за рамками терапии. В идеале – наличие социальной поддержки, в противном случае хотя бы способность обращаться за помощью.
Однако цель этой книги состоит не в подробном разборе работы с травмой, а в анализе случаев, которые требуют предварительного применения других техник для безопасного и постепенного движения в терапии. Когда использование стандартных процедур невозможно, некоторые из следующих техник помогут в переработке особых типов воспоминаний (например, интрузивных воспоминаний; воспоминаний о ситуациях опасности для себя и других; ночных кошмаров) или определенных элементов, связанных с травмой. Некоторые из этих элементов могут представлять собой фрагменты воспоминаний; такие интрузивные элементы памяти, как картинки, звуки, запахи, ощущения и т. д.; периферийные элементы травмы или фобии, относящиеся к травме.
Процедуры, описанные в тексте, можно использовать на протяжении всего терапевтического процесса для достижения различных целей – каждая из них будет проиллюстрирована в многочисленных транскриптах клинических случаев во втором разделе книги. Одни процедуры напрямую связаны с переработкой травмы, а другие созданы для исследования системы частей и стабилизации клиента. Процедуры для переработки и микропереработки (Mosquera, 2016) взяты из EMDR-терапии.
Техники заземления
Техники заземления могут оказаться очень полезны, когда клиенты ощущают сильный дистресс, особенно если он вызывает у них ощущение нереальности или отстраненности. Такие техники помогают вернуть ощущение безопасности и контроля при работе с диссоциацией и флэшбеками. Клиенты учатся возвращать себя в «здесь и сейчас», не теряться в прошлом и не перепроживать опыт, как будто он происходит с ними снова. Вот несколько примеров таких техник.
На зрительное восприятие. Пусть клиент осмотрится в кабинете и обратит внимание на разные предметы, формы, цвета. Попросите его описать их.
На слуховые ощущения. Помогите клиенту заметить окружающие звуки (например, шум машин за окном кабинета, тиканье часов).
На телесные ощущения. Пусть клиент обратит внимание на свое тело: ощутит прикосновение одежды к коже, почувствует опору – стул, на котором он сидит, пол, на котором стоят ноги, и то, как эта опора ощущается в стопах, ногах и остальных частях тела. Практикуйте дыхательные техники, осознанное дыхание. Сфокусируйте внимание на области живота.
На движение. Пусть клиент походит по комнате, подвигает руками и ногами, сделает любое другое движение, которое помогает заземлиться.
Комбинирующие разные каналы восприятия. Например, попросите клиента встать со стула и ощутить под ногами опору пола (сочетание телесных ощущений с движением). Еще можно подбрасывать и ловить мячик или подушку (сочетание движения с необходимостью следить за предметом взглядом).
Техника «Журналист»
При использовании техники «Журналист» клиента просят стать журналистом, который собирает информацию, не фильтруя ее и не оценивая. Эта техника была создана, потому что многие клиенты теряются, когда их просят обращать внимание на голоса, думая, что теперь обязаны им подчиняться.
1. Попросите клиента обращать внимание на то, что с ним происходит, никак это не оценивая:
«На эту неделю я хочу предложить вам упражнение по наблюдению. Надо будет проявлять интерес к тому, что происходит с разными частями и голосами, но ничего с этим не делать. Иначе говоря, сам факт того, что вы слушаете ту или иную часть или обращаете на нее внимание, не означает, что вы должны делать то, что она говорит, или как-то реагировать на то, что вы наблюдаете. Идея состоит в том, чтобы делать заметки, как журналист, а потом приносить эти записи на сессию, чтобы мы вместе с вами постарались разобраться в том, что происходит».
2. Подготовьте клиента к возможным сложностям:
«Я понимаю, что это непростое упражнение. Когда голоса пугают нас, мы стараемся не слушать или изо всех сил пытаемся их заглушить. Наша задача – получить больше информации о том, что происходит с разными частями и голосами, чтобы мы смогли вместе во всем разобраться».
3. Убедитесь, что клиент понял, как выполнять упражнение.
Задайте следующие вопросы:
– Как вы думаете, почему я прошу вас выполнять это упражнение? В чем, по-вашему, его смысл?
– Понятно ли вам, что вы не обязаны делать то, что говорят голоса, и что ваша цель – просто собрать информацию и попытаться понять, что они хотят до вас донести?
Основная цель этой техники – повысить мотивацию клиентов к исследованию внутренней системы, помогая им обрести достаточную дистанцию, чтобы проявить интерес к тому, что происходит с разными частями и голосами, но при этом не подчиняться их требованиям.
Техника «Место встречи»
Техника «Место встречи» (Gonzalez et al., 2012) основана на более ранних техниках по исследованию системы: «Терапия внутренней группы» (Caul, 1984), «Стол диссоциации» (Fraser, 1991, 1993) и «Конференц-зал» (Paulsen, 1995, 2009). В этих техниках клиент обычно присутствует на встрече как другая часть, и любая часть может играть роль посредника. В технике «Место встречи» Взрослое Я находится снаружи, и все интервенции осуществляются через Взрослое Я. Все эти техники нацелены на создание комфортного места встречи для разных частей, где можно исследовать их потребности, функции и взаимоотношения.
1. Попросите клиента описать пространство встречи: можно представить себе место, где есть стол и стулья, как в технике «Стол диссоциации», или место, где достаточно комфортно и безопасно для воображаемой встречи с частями и голосами личности.
2. Назначьте встречу с помощью направленной визуализации:
«Можете прикрыть глаза или оставить открытыми – как вам комфортнее. Теперь давайте пригласим сюда, в это место, все голоса: всех, кто придет. Помните, что это место для диалога и понимания, а не споров или ссор. Здесь рады всем частям, но никого из них не заставляют быть здесь или принимать участие.
Части также могут просто наблюдать; им необязательно что-то говорить или делать».
3. Убедившись, что клиент понял упражнение, мы помогаем исследовать происходящее с помощью следующих вопросов:
– На что похоже это место? Что вы видите вокруг себя?
– Сколько стульев/мест вы видите?
– Какие части/аспекты представлены на этих местах?
4. Получив представление о том, какие части/голоса присутствуют на встрече, мы начинаем исследовать разные аспекты – их чувства, мысли, потребности, функции, а также то, чем они могут быть полезны:
– Как себя чувствует эта часть? А эта? А другая? А та, которая прячется в углу?
– В чем нуждается эта часть? (Если часть не отвечает, задействуйте Взрослое Я клиента, задав ему вопрос: «А как вам кажется, что ей может быть нужно?»)
– Давайте поговорим со всеми частями и узнаем, как они пытаются помочь (исследование функции).
– Знают ли все части, что опасность уже миновала, и сейчас они в безопасности? (Этот вопрос может быть очень полезен, если части все еще живут во времени травмы.)
Основная цель интервенции такого типа – помочь клиенту и всей его системе, включая Взрослое Я и другие части, лучше понять друг друга, сменить оборонительное отношение на живой интерес и наблюдение, а также развить способность к рефлексии. Это помогает улучшить навыки коммуникации, эмпатии и сотрудничества – ключевые аспекты снижения степени конфликта. Техника будет проиллюстрирована в нескольких примерах в разделе 2.
Техника «Переработка фобий»
Техника «Переработка фобий» (Gonzalez, Mosquera, 2012) была предложена в рамках EMDR-терапии и применяется в случаях, когда терапевт сталкивается с фобиями, связанными с травмой, и особенно фобиями между частями внутренней системы. Изначально эта техника предназначалась для проработки дисфункциональной эмоции и сопутствующего физического ощущения, но нередко такое соединение бывает излишним. Если у клиента присутствует выраженная фобия по отношению к внутренним переживаниям, рекомендуется опустить соматический компонент.
Технику можно использовать с любой частью, которая испытывает диссоциативную фобию и готова поработать с ней. Обычно мы начинаем с Взрослого Я, поскольку это служит примером для других частей. К тому моменту, когда мы предлагаем другим частям поработать таким образом, они уже знакомы с тем, как это происходит.
1. Сфокусируйтесь на эмоции, которую диссоциативная часть испытывает по отношению к другой части (или голос по отношению к другому голосу, или Взрослое Я по отношению к голосу или голосам), а также на сопровождающем ее соматическом ощущении. Это можно сделать с помощью следующих вопросов:
– Можете ли вы сфокусироваться на страхе/отвержении/отвращении, которое вы испытываете по отношению к этой части?
– Можете ли вы попросить эту часть сфокусироваться на страхе/отвержении, которое она замечает сейчас по отношению к другой части (или Взрослое Я)?
2. Проведите один или два очень коротких сета БЛС (от 4 до 6 движений, не больше).
Основная цель этой техники – постепенно снизить уровень конфликта между частями. Ее следует использовать в сочетании с другими процедурами: исследованием внутренней системы и работой с системой, но не в качестве основной интервенции. Эта техника будет проиллюстрирована клиническими случаями в главах 10 и 11, и в некоторых случаях в разделе 2.
Стратегия «На кончике пальца»
Название стратегии «На кончике пальца» (Gonzalez, Mosquera, 2012; Gonzalez et al., 2012) связано с метафорой руки, которая применяется в EMDR-терапии для объяснения переработки травматического воспоминания. Третья фаза стандартного протокола EMDR начинается с самого воспоминания (ладонь), затем во время четвертой фазы продолжается разными ассоциативными цепочками (пальцы), периодически возвращаясь к изначальному воспоминанию. Стратегия «На кончике пальца» намеренно выбирает в качестве мишени информацию, связанную с травматическим содержанием, но не само по себе травматическое воспоминание, а небольшую часть дискомфортного ощущения или эмоции, которая является периферийным последствием воспоминания.
Травма часто порождает множество последствий, симптомов или других вторичных проблем, которые на протяжении многих лет сохраняются в нейронных сетях дисфункциональным и изолированным образом и в результате практически теряют связь с исходным травматическим воспоминанием. Эта информация может находиться так далеко от остальных сетей воспоминаний об изначальной травме, что работа с ней не будет активировать те невыносимые травматические воспоминания, которые послужили ее источником. В таких случаях эффективным способом десенсибилизации текущего симптома или проблемы и одновременно подготовкой клиента к постепенному усложнению материала может стать работа по принципу «снаружи внутрь». Этот процесс можно сравнить с очисткой луковицы: мы начинаем с периферийных аспектов и, поочередно снимая слой за слоем, приближаемся к центральным.
Стратегия «На кончике пальца» не подразумевает направленную работу с травматическим случаем или каким-либо элементом, близким к невыносимому воспоминанию. В качестве мишени используется одно из периферийных последствий. Мы выбираем всего один элемент (эмоцию, мысль, чувство или импульс) и применяем очень короткие сеты БЛС (от 4 до максимум 6 движений за сет или же до момента достаточного снижения активации), потому что хотим избежать контакта с травматическим материалом. Чем больше элементов мы добавляем или чем более длинные сеты мы делаем, тем выше вероятность того, что изолированный материал вдруг соединится с изначальными воспоминаниями.
1. Предложите использовать технику: когда мы определили информацию, которую можно считать периферийным элементом/последствием травматического воспоминания, мы предлагаем использовать эту технику. Например, когда клиентка испытывает неадекватной силы гнев по отношению к мужчинам в ситуациях, связанных с травматическим опытом, который она либо помнит, но не готова к конфронтации с ним, либо знает, что что-то произошло, но не может вспомнить, что именно. Другой пример: страх ножей в нейтральных ситуациях, например, при нарезке овощей, когда терапевт и клиент знают, что он связан с прошлым травматическим опытом, с которым система еще не готова иметь дело.
– Готовы ли вы попробовать поработать с… (тем, что мы определили, как подходящий пример для применения этой интервенции: гнев к мужчинам в целом, импульс схватить нож или идею использовать его против других и т. д.)?
2. Объясните плюсы:
– Вы говорили, что хотели бы иметь возможность готовить и спокойно пользоваться ножами, не испытывая при этом таких чувств. Мы не будем работать с прошлым; мы с вами договорились пока его не затрагивать. Однако мы можем поработать с этой проблемой, которая, как мы знаем, связана с вашим опытом.
3. Задействуйте Взрослое Я в выборе мишени: идея заключается в том, чтобы поисследовать варианты вместе с клиентом и системой частей, начав с ограничивающих элементов, которые могут улучшить функционирование системы.
– Как вам кажется, из того, что мы с вами обсуждали, что в наибольшей степени вас ограничивает на данный момент?
4. Спросите разрешения, чтобы убедиться, что все части согласны.
– Проверьте, есть ли что-то внутри вас, что не согласно на эту работу.
– Если есть часть, которая не согласна, то можно сказать: «Давайте просто попробуем. Что нужно этой части, чтобы она разрешила нам попробовать? Если она будет испытывать дискомфорт, мы сразу остановимся».
5. После того как мы получили разрешение, мы даем конкретные указания:
– Если мы работаем с Взрослым Я: «Сейчас вы сфокусируетесь на… (выявленном периферийном элементе). Только на этом, мы не будем работать с воспоминаниями, не будем работать с прошлым, только с тем, с чем договорились поработать». (Пример: «Вы сфокусируетесь на страхе, который замечаете в себе, когда ваша сестра режет овощи, только на этом, не на прошлом».)
– Если мы работаем с другой частью или голосом: «Теперь вы попросите эту часть/голос сфокусироваться на… (выявленном периферийном элементе). Только на этом, мы не будем работать с воспоминаниями, не будем работать с прошлым, только с тем, с чем договорились поработать».
П,ель – двигаться в сторону переработки травматического опыта. Однако если этот опыт избыточен и вызывает сильное затопление, к этим воспоминаниям следует приближаться небольшими шажками, начиная с наиболее легких интервенций и перерабатывая небольшие объемы информации. Хорошо применять эту технику с клиентами, если мы планируем работу такого рода. Когда мы не можем планировать такую работу, можно пользоваться другими техниками, например, CIPOS (Knipe, 2001) и техникой «Веснушка», или даже сочетать их.
Погружение в интенсивно ощущаемые неприятные и беспокоящие воспоминания (CIPOS)
Техника CIPOS[6](Forgash, Knipe, 2001; Knipe, 2002, 2007, 2010) дает возможность научить клиента важному навыку выхода из травматических переживаний и возвращения в «здесь и сейчас». При регулярной практике клиенту с каждым разом становится все проще и проще делать это. Такой навык крайне важен в случаях, где присутствует сильная фобия по отношению к травматическому материалу. На короткое время погружаясь в травматическое воспоминание, а затем возвращаясь обратно, клиент может быстро научиться ценному навыку возвращения из травмированной части обратно в безопасное настоящее. Таким образом человек получает возможность безопасным образом получать доступ к вызывающему сильное беспокойство материалу и работать с ним.
Билатеральная стимуляция используется для того, чтобы клиент мог четко ощущать присутствие в текущей жизненной ситуации (например, в кабинете терапевта). Укрепляя ориентацию на настоящее с помощью БЛС и внимательно контролируя объем экспозиции травматического воспоминания, мы помогаем клиенту научиться удерживать двойной фокус внимания. С помощью техники CIPOS переработка воспоминаний может происходить более безопасно, то есть с меньшим риском возникновения непродуктивного, диссоциированного перепроживания травматического события.
1. Объясните суть техники. Клиент должен понимать, почему и как именно техника CIPOS будет для него полезна. Иногда достаточно просто рассказать клиенту, что эта техника поможет ему справиться с такими проблемами, как фобическое избегание и/или склонность перепроживать травму и терять двойной фокус внимания. После этого следует объяснить, чего можно ожидать на разных этапах выполнения техники.
2. Попросите разрешения. Получите от клиента полное согласие на постепенную и безопасную работу с воспоминанием, вызывающим сильное беспокойство, при условии, что на каждой сессии у вас будет достаточно времени на завершение работы вне зависимости от того, с каким травматическим материалом вы столкнетесь во время переработки.
3. Оцените уровень субъективной безопасности клиента. Как и при любой другой терапевтической интервенции, важно, чтобы клиент понимал, что в кабинете терапевта объективно он находится в безопасности. Если клиент не уверен в физической или межличностной безопасности текущей ситуации, с этим необходимо поработать.
4. Усильте ориентацию на настоящее. Для оценки и последующего усиления ориентации на настоящее терапевт может задать клиенту серию простых вопросов, связанных с тем, как клиент воспринимает действительность, находясь в кабинете. Вопросы могут быть следующими.
– Где вы на самом деле находитесь прямо сейчас? Подумайте об этом (затем сделать короткий сет БЛС).
– Слышите ли вы шум проезжающих за окном машин? Подумайте об этом (затем сделать короткий сет БЛС).
– Сколько коробок с салфетками вы видите в моем кабинете? Подумайте об этом (затем сделать короткий сет БЛС).
5. Используйте технику «Затылочная шкала» (англ. Back of the Head Scale, BHS). Техника CIPOS тесным образом связана с применением техники «Затылочная шкала» – простой субъективной шкалы, разработанной Дж. Найпом (Knipe, 2015) для оценки ориентации клиента на текущую ситуацию и того, насколько он, по собственным ощущениям, присутствует в работе, которую мы делаем. Шкала также дает возможность оценивать эффективность интервенции CIPOS на протяжении сессии. Таким образом мы можем убедиться, что клиент чувствует себя достаточно безопасно в эмоциональном отношении, что необходимо для переработки травмы. «Затылочная шкала» – способ убедиться в том, что клиент находится в безопасности и удерживает двойной фокус внимания: остается соединенным с безопасным настоящим и при этом получает доступ к информации о травматическом воспоминании. Скрипт шкалирования выглядит следующим образом.
– Представьте себе линию, идущую от моих пальцев (терапевт поднимает указательные пальцы на расстоянии примерно 35 см от лица клиента) до вашего затылка. Пусть эта точка на линии (терапевт перемещает пальцы) означает, что вы полностью осознаете, что вы здесь, со мной, в этом кабинете, что вы хорошо слышите то, что я говорю, и вас совершенно не отвлекают другие мысли. Пусть другая точка на этой линии, в районе вашего затылка, означает, что вы полностью находитесь в воспоминании о прошлом, несмотря на то, что у вас открыты глаза. (Поскольку от одного упоминания травматического воспоминания многие клиенты могут начинать терять ориентацию на настоящее, я обычно повторяю описание шкалы спокойным, нейтральным голосом.) Вот это место (показать пальцами) означает, что вы полностью присутствуете здесь и сейчас, а точка на затылке – что вы полностью находитесь в воспоминании. Покажите, пожалуйста, где вы находитесь на этой линии в данный момент (Knipe, 2018, с. 199).
6. Начинайте работать с травмой медленно. Когда клиент сориентирован на настоящее, можно предложить ему вспомнить картинку, связанную с травмой, на очень непродолжительное время – иногда всего 2–3 секунды (за временем следит терапевт).
Цель этой техники – улучшить способность клиента оставаться в «здесь и сейчас» и повысить его толерантность к безопасной и постепенной переработке травматических воспоминаний.
Техника «Веснушка»
Техника «Веснушка» (Mosquera, 2014) – еще один пример сегментированной и постепенной переработки. В отличие от техники «На кончике пальца» здесь мы фокусируемся не на каком-то последствии травмы, изолированном в отдельную нейронную сеть, что снижает вероятность активации самого травматического воспоминания, а на фрагменте ядерной травмы. Начинаем мы с какого-то момента или конкретного элемента (например, картинки, слова, запаха и т. д.) – триггера травматического переживания, с которым клиент или какая-то часть системы еще не готовы работать в полном объеме.
Применение этой техники требует от терапевта хорошего знакомства с внутренней системой частей и работы по повышению эмпатии и сотрудничества между частями. Клиент должен быть в состоянии удерживать двойной фокус внимания (или возвращаться к нему с помощью терапевта), а также соединяться с эмоциями, чувствовать их без затопления и отсоединения. Кроме того, ему потребуются определенные навыки эмоциональной регуляции. Клиент и разные части должны научиться говорить «нет» или «стоп», чтобы отказаться от этой процедуры, если какая-то из частей еще не готова, потому что здесь принципиально важно получение согласия от всех частей.
1. Предложите технику.
– Готовы ли вы сфокусироваться на… (эмоция, картинка, запах, ощущение)?
2. Спросите разрешения у системы.
– Есть ли внутри вас какая-то часть, которая не согласна сделать это?
– Может ли эта часть ⁄ голос ⁄ «что-то внутри вас» разрешить нам попробовать? Если ей что-то не понравится, мы сразу же остановимся.
3. Как только мы получили разрешение, мы даем конкретные инструкции.
– Если вы работаете с Взрослым Я: «Сейчас вы сфокусируетесь на этом… (ощущении, боли, картинке и т. д.). Только на нем, с воспоминаниями мы работать не будем, ничего из прошлого, только на том, что вы замечаете/чувствуете».
– Если вы работаете с другой частью или голосом: «Сейчас вы попросите эту часть/голос сфокусироваться на этом… (ощущении, боли, картинке и т. д.). Только на нем, с воспоминаниями мы работать не будем, ничего из прошлого, только на том, что она замечает/чувствует».
Применение этой техники не планируется заранее, мы прибегаем к ней, когда возникает такая необходимость в ходе сессии. Как правило, когда части тела клиента все еще остаются во времени травмы, содержащем болезненные воспоминания, необходимость в такой работе не возникает, потому что клиент не может получить доступ к этим воспоминаниям и не способен их контейнировать. В таких ситуациях мы работаем с системой частей согласно инструкциям, описанным в следующих главах. Но и в этом случае клиент будет иногда соединяться с травмой в силу внешних или внутренних триггеров, и с этим ничего не поделаешь. Применение техники с такими клиентами уместно только в этих случаях.
Цель этой интервенции – снизить уровень эмоциональной активации, вызванной внезапным появлением на сессии травматического материала, в тех случаях, когда этот материал является интрузивным и подвергает риску клиента или других людей, или же клиент еще не готов к переработке травмы по стандартному протоколу EMDR.
Глава 2
Начало терапевтической работы и структура клинических сессий
Разным клиентам нужна разная степень помощи в обучении пониманию своей системы и выстраиванию новых отношений с голосами и частями. Известно, что если у клиента появляется более осмысленное понимание голосов, то его состояние улучшается по сравнению с теми, кто избегает, критикует или отвергает голоса (Romme et al., 2009). Однако это непростая задача. Клиенты часто боятся голосов и частей или опасаются возможных реакций других людей на свой рассказ о том, что с ними происходит (например, о госпитализации или увеличении дозировки препаратов).
Первые шаги должны быть направлены на создание доверительной атмосферы, в которой клиент почувствует, что может открыто говорить о происходящем внутри, а его голоса или части будут ощущать себя достаточно безопасно, чтобы позволить ему делать это. После этого важного этапа работы следует сфокусироваться на улучшении отношений с голосами и частями.
Общая структура терапевтической работы
Эта глава содержит описание основных шагов, которые нужно иметь в виду в течение всей терапевтической работы. Общая структура, разработанная на основе исследований (Mosquera, 2014, Mosquera, Ross, 2016; Moskowitz et al., 2017), представляет собой краткое введение, которое будет расширено в главе 6 при описании работы с более сложными частями. Необязательно строго следовать этим шагам: это скорее гибкое руководство по работе такого рода. Временами, в зависимости от клинического случая, можно пропускать какие-то шаги, задавать другие вопросы или варьировать интервенции, полагаясь на свой терапевтический опыт.
Шаг 1. Исследование голосов и частей
Первый шаг направлен на то, чтобы получить представление о внутренней репрезентации голосов и частей, а также о том, как клиент понимает то, что происходит у него внутри. Если клиент говорит о том, что слышит голоса, необходимо исследовать тон, содержание и послания, которые пытаются выразить голоса или части. Это может быть либо какое-то повторяющееся послание, в котором на первый взгляд нет смысла, или же очень четкое послание, имеющее вполне конкретную цель. Цель будет постепенно проясняться по мере исследования функции голоса (шаг 6). Исследуя голоса и части, мы также можем спросить, сколько лет этому голосу, и узнать другие подробности, которые помогут составить представление об этой внутренней репрезентации. Мы можем поисследовать момент первого появления голосов, а также ситуации, в которых голоса проявляются в текущей жизни (см. исследование триггеров, шаг 3).
Шаг 2. Предложение прислушиваться к голосам и обращать больше внимания на части
Второй шаг тесно связан с первым. Для получения необходимой информации нам нужно помочь клиенту стать более заинтересованным и проявить любопытство к своему внутреннему миру. Это может быть относительно простой задачей при работе с некоторыми типами голосов. Однако задача усложняется, и одновременно с этим приобретает огромную важность, при работе с трудными частями. Понимание того, что голоса и части на самом деле пытаются помочь – вот один из ключевых элементов, необходимых для развития живого интереса.
Шаг 3. Исследование триггеров
Третий шаг направлен на исследование проявлений голоса или части. Как мы увидим в разных главах этой книги, это связано с триггерами, а следовательно – с функцией. Основная цель этого шага – исследование того, что происходило, когда появились эти голоса или части. В дальнейшем мы свяжем эту информацию с исследованием функции и определением потребностей (шаги 6 и 7).
Как правило, голоса активируются, когда клиенту плохо, когда он напуган или чем-то обеспокоен. Также это происходит, когда что-то напоминает клиенту о прошлом, особенно о голосах, продолжающих оставаться во времени травмы. Однако есть и исключения: например, если клиента наказывали за то, что ему было хорошо, голоса могут активироваться в приятных и доставляющих удовольствие ситуациях.
Шаг 4. Исследование и переработка диссоциативных фобий
Фобии частей по отношению друг к другу – одно из главных препятствий, мешающих естественному течению терапии. Необходимо всегда прояснять, что чувствуют друг к другу разные части и Взрослое Я. Мы выявляем наличие диссоциативных фобий между частями, сталкиваясь с дисфункциональными чувствами: например, когда одна часть боится другой либо чувствует к ней отвращение, стыд или отвержение. Как только фобия выявлена, можно более оптимально выстроить работу, а также принять решение о необходимости переработки этой фобии перед следующим шагом. В свою очередь такая переработка дает возможность исследования, поскольку это инструмент, помогающий снизить уровень страха или любой другой эмоции, мешающей процессу
Шаг 5. Оценка степени дифференциации и ориентации во времени у клиента и частей
Клиентам с комплексной травматизацией нелегко различать внутренние и внешние элементы. Иногда проблемы с дифференциацией связаны с границами, когда клиенты не знают, что можно терпеть от других и как далеко можно заходить самим. Также у них могут возникать сложности с тем, чтобы отличать мысли и чувства других людей от своих собственных, а интернализированные послания – от реальности.
Критический момент касательно дифференциации связан со способностью отличать то, что происходит сейчас, от того, что происходило тогда. Части и голоса могут оставаться во времени травмы, не зная, что опасность уже миновала, и продолжая реагировать так, будто она все еще есть. На разных этапах работы, когда клиенты будут терять двойной фокус внимания, терапевту нужно будет оценивать, как они ориентируются во времени, а также помогать им ориентироваться на безопасность в настоящем. Это особенно важно, когда есть части, у которых вообще нет опыта удерживания «двойного внимания» и которым еще только предстоит узнать, что сейчас они в безопасности – или как минимум начать допускать такую возможность.
Шаг 6. Исследование и валидация функции голосов
Голоса появляются не просто так, и ключевой аспект терапии – понять, что они на самом деле пытаются сделать. У каждой части есть свои причины делать то, что она делает, и мы должны всегда определять эти причины вне зависимости от того, являются ли они адаптивными в настоящем или нет. Помните о том, что изначально голоса возникли для того, чтобы выполнять определенную роль, и помогали человеку пережить то, через что ему пришлось пройти в детстве.
Однако то, что было адаптивно в определенной ситуации в прошлом, далеко не всегда продолжает быть адаптивным в настоящем. На самом деле это поведение, как правило, становится дисфункциональным, и человеку в целом от него становится только хуже. Поэтому многим клиентам поначалу тяжело поверить, что части пытаются помочь, поскольку некоторые из них – особенно враждебно настроенные части – заставляют их чувствовать себя очень плохо. Это такой оксюморон, и поначалу он совершенно непонятен клиентам.
С уважением задавая вопросы о частях, мы показываем клиенту, что такое здоровое любопытство, и в ходе терапии клиент постепенно интегрирует это качество. Оно поможет клиенту понять, как именно каждая часть пыталась помочь ему выжить.
Валидация реакций частей с голосами также очень важна. Клиенты обычно очень недовольны голосами или действиями частей и не способны оценить их значение для выживания в прошлом.
Шаг 7. Определение ресурсе и валидация чувств и потребностей
Клиенты с разными частями и голосами часто испытывают смешанные и даже противоречивые чувства. То же самое касается и потребностей: одна часть может иметь потребности, находящиеся в прямом конфликте с потребностями другой части. Именно поэтому определение ресурсов и валидация чувств и потребностей – ключевая часть работы, благодаря которой разные голоса и части могут почувствовать, что их слышат и понимают, а именно этого опыта и не хватает нашим клиентам. Ключевой элемент валидации такого типа состоит в том, чтобы научиться принимать разные эмоции и потребности, помогая и клиентам, и системе частей понимать и принимать их. Для того чтобы интернализировать новый способ реагирования на чувства и потребности, частям необходимо получить опыт совершенно нового отношения, что возможно с помощью ролевой модели, и только потом этот новый способ может прижиться.
Исследование потребностей разных частей системы поможет определить, какие ресурсы необходимо развить, а какие у клиента уже есть (хотя он может о них еще не знать). Когда клиенты понимают адаптивную функцию голоса или части, это помогает определить существующие в системе ресурсы, доступ к которым могут иметь разные части и клиент. Процесс идет быстрее с частями, которые более просты и легче идут на контакт. Однако работа с конфликтной системой может оказаться куда сложнее. Иногда клиенты тратят так много энергии на свою систему, что упускают важные ресурсы, которые есть у некоторых голосов и частей. Пробудив в клиенте любопытство, можно исследовать ресурсы каждой части и объяснить их пользу для остальной системы. Например, один голос может помогать защищать систему, другой – распознавать потенциальную опасность, третий – наслаждаться жизнью. Исследование этих ресурсов усилит любопытство клиента и поможет установить отношения сотрудничества и командной работы, что, в свою очередь, приведет к большей степени интеграции личности, где каждый голос будет приносить пользу и улучшать жизнь в целом.
Если у терапевта есть подготовка в сфере EMDR-терапии, то при необходимости можно использовать короткие сеты (от 8 до 12 движений) билатеральной стимуляции, чтобы усиливать любые важные инсайты, которые могут появляться у клиента и системы в результате работы.
Шаг 8. Исследование, моделирование и применение альтернативных способов реагирования на практике
Если какая-то из стратегий голосов или частей перестает работать и приносить клиенту облегчение, нужно помочь системе придумать альтернативные реакции и предложить более полезные или адаптивные способы, которыми голос действительно мог бы помочь человеку. В такой момент важно помогать клиенту осознать, что теперь у него есть выбор, и он может принимать решения, исходя из своих потребностей и желаний.
Большую часть времени голоса или части не осознают то, как их комментарии влияют на остальную систему, и то, что их поведение в настоящий момент не является адаптивным. Учитывая, что их основная цель – защита, обычно они не пытаются причинить вред, а наоборот, как правило, открыты новым предложениям. Когда мы помогаем клиенту общаться с частями и говорить с ними об их комментариях и поведении, которое пугает или беспокоит их, то делаем очень важный шаг к улучшению качества жизни. Иногда сам факт того, что мы обращаемся к голосам, оказывает позитивное воздействие, потому что они не привыкли, что к ним кто-то обращается. Когда клиенты начинают говорить нам, что для них работает, а что – нет, голоса и части могут начать менять свой способ реагирования.
Изначально это следует делать с помощью терапевта, задавая вопросы, направленные на то, чтобы помочь клиенту понять это:
– Знает ли этот голос, насколько это вас расстраивает?
– Понимает ли этот голос, как сильно вы пугаетесь, когда он говорит такие вещи?
Как правило, клиенты отвечают что-то вроде: «Ну конечно, знает, ему просто все равно», но это автоматический ответ, отражающий привычный способ функционирования системы. В таких случаях важно сказать нечто вроде:
– Я понимаю, почему вы так говорите, но попробуйте все-таки обратиться к этому голосу и спросить у него, знает ли он, насколько это вас расстраивает?
Психологическое просвещение может быть полезно, но для некоторых частей его будет недостаточно. Лучший способ закрепить новое отношение в системе частей – использование ролевой модели. Множество клиентов не имели в детстве здоровых моделей для подражания, поэтому им только предстоит развить в себе многие базовые вещи, которым мы учимся в процессе взросления. Часто в работе с этой группой клиентов встречается ситуация, когда у частей развивается лишь очень ограниченный репертуар. Терапевт выступает в качестве модели и показывает новые способы реагирования, а Взрослое Я и другие присутствующие части могут наблюдать, как выглядит и звучит новый тип взаимодействия. Этому нельзя научиться, читая книги или слушая объяснения, нельзя интернализировать без практики и наблюдения.
С некоторыми голосами это получится довольно легко, потому что им достаточно просто узнать, что их поведение или комментарии уже неполезны. Однако с другими голосами это может занять много времени, особенно с враждебными и критичными голосами, как мы увидим в главах 7 и 9 соответственно.
Шаг 9. Определение и исследование недостающих элементов
Другой, возможно, актуальный аспект – исследование недостающих элементов. К примеру, клиенты, которые никогда не злятся и не грустят, будут сообщать об этой сложности или выражать эту потребность очень косвенным образом.
Иногда недостающие элементы совершенно очевидны, иногда мы обнаруживаем их на более поздних этапах терапии, когда лучше узнаем клиента и его систему частей. Когда что-то не стыкуется, важно обратить на это внимание и проверить, есть ли другие части или голоса. Это можно сделать, задав вопрос общего характера («Есть ли другая часть или аспект, о котором вам тяжело говорить?») или используя такие инструменты исследования, как место встречи («Как вам кажется, стоит ли нам оставить пустые стулья для других частей, на которых вам, возможно, тяжело смотреть?»). Иногда клиенты также рассказывают о недостающих элементах, рисуя свою внутреннюю систему; часто мы видим туманные области или тени, за которыми ничего не видно. Некоторые клиенты говорят: «За туманом много людей, и они кричат» или «Там что-то темное, и я не могу даже на это смотреть, все части от него тоже прячутся».
Помимо этого, клиенты могут не говорить о некоторых частях/голосах из страха или потому что привыкли к внутренней цензуре этих аспектов и не могут даже помыслить о том, чтобы об этом рассказывать.
Шаг 10. Заключение соглашений, налаживание сотрудничества и командной работы
В качестве последнего шага система должна прийти к возможному для всех голосов соглашению или компромиссу на благо всей системы/человека. Это один из последних шагов, но мы можем начинать готовиться к нему заранее. Вот почему так важно показывать системе частей новые способы, чтобы они постепенно учились сотрудничать и вместе двигаться к этим целям.
Все предыдущие шаги направлены на развитие понимания и эмпатии между клиентом и голосами. Большее понимание ведет к большему состраданию и эмпатии, которые, в свою очередь, способствуют сотрудничеству. В следующих главах я приведу примеры каждого из этих шагов при разборе клинических случаев.
Общая структура клинической сессии
Начиная работу с голосами и частями, важно помнить основополагающие принципы, которые применимы к любой клинической сессии. Это помогает сделать процесс организованным и структурированным, а также дает ясное понимание воздействия, которое наши интервенции могут оказывать на внутреннюю систему клиента.
В целом структура клинической сессии состоит из трех частей, каждая из которых должна содержать разные аспекты исследования, – в зависимости от того, какой материал возникает на сессии. Все эти принципы можно применять к работе и с голосами, и с молчаливыми частями.
1. Исследование результатов предыдущей сессии
1.1. Поисследуйте то, как клиент и части/голоса чувствовали себя в конце сессии (например, лучше, хуже, растерянно, вдохновенно). Так мы получим обратную связь по поводу того, что сработало, а что – нет.
– Как вы себя чувствовали после предыдущей сессии?
1.2. Спросите, как прошла неделя для всей системы, а не только для Взрослого Я и некоторых частей. Важно задать этот вопрос как голосам и частям, с которыми мы работали на прошлой сессии, так и остальной системе. Эта интервенция является выражением уважения ко всем частям системы без исключения и показывает возможность сотрудничества.
– Как себя чувствовали (голос/голоса или часть/части) после проделанной нами работы?
1.3. Узнайте, следовал ли клиент как единое целое предложениям или показаниям предыдущей сессии и как он себя при этом чувствовал. Если давалось домашнее задание, важно его проверить. Система должна знать, что мы серьезно относимся к терапии, держим слово, не забываем проверять и спрашивать о текущих важных вопросах. Это поможет клиентам и их частям понять, что они важны, что их мнение важно, а также создать доверие в терапевтических отношениях.
– Как чувствовала себя система по поводу этих комментариев/предложений?
– Оказались ли эти предложения полезными (простыми, сложными, понятными и т. д.)?
2. Работа с темами, проявившимися в течение недели или во время сессии
2.1. Поисследуйте, были ли голоса и части активны на этой неделе. Спросите у частей, как у них дела. Чем более последовательно мы спрашиваем о частях, тем быстрее у клиента разовьется здоровое любопытство по отношению к ним.
– Слышали ли вы на этой неделе голоса? (Были ли на этой неделе активны какие-то части?)
– Это были голоса/части, которых вы уже знаете, или новые голоса/части?
2.2. Если части появлялись в течение недели или на сессии, надо поисследовать, что послужило триггером их появления.
– Когда появились голоса? Как они появились?
– Что происходило, когда они появились?
– Что говорили голоса, что делали части, и почему?
– Какова была их цель? (Чего они пытались добиться?)
2.3. Поисследуйте реакцию системы на голоса (например, пытались слушать, рассердились, сказали замолчать). Проявляя любопытство к другим частям, мы даем клиенту модель нового отношения к остальным частям системы. Только исследуя эти вещи, мы можем получить четкое представление о том, какая часть (части) системы реагирует адаптивно, а каким все еще нужна помощь.
– Что вы (клиент) думаете о том, что произошло с голосами/частями? Что об этом думают другие части или голоса?
– Было ли полезно то, что говорили голоса или делали части?
– Каков был результат для голоса, части и системы в целом?
– Какова была реакция остальных частей системы? Как они справились или отреагировали?
– Что другие голоса или части думают об этой реакции?
2.4. Работайте с любыми темами или сложностями по мере их возникновения. Когда мы выявляем важные темы или проблемы, мы можем либо поисследовать их, либо по крайней мере предложить поработать с ними.
– Спросите, пожалуйста, у этой части, согласна ли она поработать с этим только что появившимся гневом (фрустрацией, чувством вины, отвержением и т. д.)?
– Спросите, есть ли части, которым сейчас некомфортно или которым нужно что-то выразить.
2.5. После любой интервенции спрашивайте, как себя чувствуют остальные части после того, что произошло.
– Что вы замечаете сейчас, после того, как мы поговорили обо всем этом (в предыдущем разделе)?
– Что вы об этом думаете? Понятно ли вам это?
– Что вы замечаете, когда я предлагаю/говорю это?
А другие части или голоса? Что происходит с ними, когда я предлагаю/говорю это?
– Есть ли внутри какая-то часть, которой не нравится то, что мы сейчас делаем?
– Есть ли внутри какая-то часть, которая не согласна делать это (то, что мы предлагаем или исследуем)?
2.6. Проверьте, продолжают ли имеющиеся выученные дезадаптивные послания или виды поведения активироваться после того, как голос или часть начали практиковать новые адаптивные виды поведения. Если это так, надо напомнить клиенту, что этот голос или часть пока еще только учится новым способам поведения.
– Я понимаю, что вам или этой части/голосу нелегко, но помните, что она все еще учится общаться иначе.
3. Завершение сессии
Завершение сессии может стать одним из самых важных моментов в работе. Важно не заканчивать сессию резко, не уделив достаточно времени исследованию того, как себя чувствует клиент и система. Может показаться, что клиент чувствует себя нормально, но помните, что зачастую это выученная стратегия. Нередко мы сталкиваемся с тем, что клиент не полностью присутствовал во время сессии, или какая-то часть плохо себя чувствует от проделанной работы. Как правило, клиенту требуется просто внимание, прояснение или помощь. Иногда ему нужно время, чтобы обдумать проделанную работу или помощь, чтобы понять ключевые моменты сессии.
З.Е Закрепите результаты проделанной на сессии работы и валидируйте усилия, которые приложила каждая часть системы, активно участвовавшая в работе.
– Сегодня вы отлично поработали! Несмотря на страх, который вы замечали, вам удалось сохранить интерес к другим частям/голосам.
– Я бы хотела поблагодарить /Давайте поблагодарим эту часть/голос за то, что он(-а) разрешил(-а) нам поисследовать эти темы. Это было очень полезно.
3.2. Проверьте эффективность интервенций, которые применялись во время сессии. Это поможет пересмотреть работу, которую мы делаем, понять, что работает и что можно повторять, а что не работает и нуждается в изменении.
– Что было вам полезно, что мы могли бы повторить в будущем? Что было не полезно и чего бы не хотелось повторять?
– Что необходимо улучшить?
3.3. Проверьте, стабилен ли клиент, заземлен ли он, сориентирован ли во времени.
– Как вы себя чувствуете прямо сейчас?
– Что происходит внутри? Замечаете ли вы какое-то волнение внутри?
– Если клиент говорит что-то, указывающее на отсутствие ориентации во времени: «Где вы сейчас находитесь? Знаете ли вы, что вы сейчас со мной в кабинете?»
3.4. Подведите итоги: обсудите, что нового вы сегодня узнали, помогите клиенту структурировать проделанную на сессии работу и поставить цели на будущие сессии. Когда мы обращаем внимание клиента на любые договоренности и новое понимание – это важный аспект интеграции. Однако мы должны помнить, что большинство клиентов тратят огромное количество энергии на внутреннюю борьбу, поэтому на ранних этапах терапии им может быть очень сложно упорядочивать и запоминать информацию. На некоторых сессиях можно естественным способом выстроить работу так, чтобы следующие сессии были ее логичным продолжением. Это позволит клиенту поддерживать связь между сессиями и знать, что мы будем продолжать работу с тем, что проявилось во время сессии.
– Обратите внимание, как вам важно понимать, что этой маленькой девочке просто нужно было быть увиденной. Давайте убедимся в том, что на следующей сессии мы будем продолжать помогать этой маленькой девочке получить ощущение, что ее видят.
3.5. Предупредите о потенциальных препятствиях и проблемах. Важно подготовить клиента к трудностям, которые могут возникнуть при работе с частями в будущем, поскольку процесс не всегда идет так гладко, как нам бы того хотелось. Эта интервенция поможет клиенту быть более открытым и понимающим по отношению к сложностям, с которыми столкнутся части его системы (например, критикующие комментарии или побуждения к самоповреждению; голоса, которые не хотят быть в терапии) (Mosquera, Steele, 2017). Прогнозирование нормализует сложности, с которыми мы сталкиваемся в ходе терапии, помогает клиенту удерживать диалектическое напряжение между принятием того, где части находятся сейчас, и потребностью в изменениях, а также избегать возвращения к конфликтным реакциям частей друг на друга. Однако если мы замечаем потенциальные проблемы во время сессии, не следует дожидаться ее окончания, чтобы поговорить о них. Обратите внимание, что подобные вопросы также включены в пункт 2.6.
– Если вы услышите, что голос снова негативно комментирует вас, помните, что он еще только учится новым способам.
– Помните, что все это в новинку для всех ваших частей. Мы просим голоса делать то, чему им еще предстоит научиться. Один из ключевых аспектов – то, как вы сами реагируете на комментарии.
Еще раз подчеркну, что необязательно жестко придерживаться указанной последовательности выполнения шагов. Здесь изложены основные принципы работы и аспекты, которые стоит исследовать. Далеко не всегда мы будем исследовать все эти аспекты в рамках одной сессии – мы делаем это только при необходимости и когда в этом есть смысл. По мере продвижения в работе клиенту будет требоваться все меньше помощи со стороны терапевта, и он будет способен самостоятельно ответить на многие из обозначенных вопросов.
Основная структура терапевтической работы (ТР)
1. Исследование голосов (содержание, тон, послание, возраст, момент появления и т. д.) и частей.
2. Поощрение клиента к слушанию голосов и проявлению большего внимания к частям.
3. Исследование триггеров (что происходило, когда появилась та или иная часть либо заговорил голос).
4. Исследование и переработка диссоциативных фобий.
5. Оценка степени дифференциации и ориентации во времени у клиента и частей.
6. Исследование и валидация функции голоса.
7. Определение ресурсов и валидация чувств и потребностей.
8. Исследование, моделирование и применение на практике альтернативных способов реагирования. Предложение вариантов при необходимости.
9. Определение и исследование недостающих элементов.
10. Заключение контракта, развитие сотрудничества и командной работы.
Общая структура клинической сессии (КС)
КС 1. Исследование эффекта работы, проделанной на предыдущей сессии
1.1. Исследуйте, как и с чем ушли с прошлой сессии клиент и части/голоса.
1.2. Спросите, как прошла неделя для всей системы.
1.3. Узнайте, следовал ли клиент рекомендациям, полученным на прошлой сессии.
КС 2. Работа с проблемами, которые возникли в течение недели или во время сессии
2.1. Узнайте, были ли голоса и части активны в течение недели. Спросите, как себя чувствуют части.
2.2. Если в течение недели или на сессии появлялись голоса, нужно поисследовать, что послужило триггером их появления.
2.3. Исследуйте реакцию системы на голоса или части.
2.4. Прорабатывайте любые темы или сложности по мере их появления.
2.5. После любой интервенции спрашивайте, как себя после нее чувствуют остальные части.
2.6. Узнайте, какие выученные послания или поведение продолжают присутствовать после того, как голос или часть начали практиковать новое адаптивное поведение.
КС 3. Завершение сессии
3. L Закрепите проделанную на сессии работу и валидируйте усилия, которые приложила каждая из участвовавших в работе частей системы.
3.2. Узнайте, насколько полезными были примененные во время сессии интервенции.
3.3. Убедитесь в том, что клиент находится в стабильном и заземленном состоянии, что он правильно ориентирован во времени.
3.4. Подведите итоги того, чему вы научились. Это поможет клиенту структурировать внутри себя проведенную на сессии работу и поставить цели на следующие сессии. Усильте реализацию (понимание).
3.5. Спрогнозируйте потенциальные препятствия и проблемы, чтобы подготовить клиентов к будущим сложностям.
Внимание! В транскриптах клинических случаев оба типа шагов будут выделяться, чтобы читатель мог четко увидеть, как они применяются в клинической практике. Шаги основной структуры терапевтической работы будут помечаться в скобках аббревиатурой ТР (терапевтическая работа), а также номером конкретного шага (например, ТР № 1, ТР № 2, и т. д.). Шаги, относящиеся к структуре клинической сессии, будут помечаться аббревиатурой КС (клиническая сессия) и соответствующим номером (например, КС № 1.2, КС № 2.1, и т. д.).
Глава 3
Развитие Взрослого Я
Прогрессивный подход (Gonzalez, Mosquera, 2012) предполагает работу с диссоциативными клиентами через Взрослое Я. Концепция Взрослого Я, используемая в этой книге, создана на основе понятий «Будущее Я» по Корну и Лидсу (Korn, Leeds, 2002) и «Здоровый Взрослый» из схема-терапии (Young et al., 2003). Взрослое Я представляет собой развивающийся набор личностных качеств, которые еще не появились у всех частей личности. Среди личностных качеств Здорового Взрослого можно назвать способность к заботе, валидации и поддержке при режиме «Уязвимый Ребенок», выставление границ при режимах «Сердитый Ребенок» и «Импульсивный Ребенок», а также поддержка и воодушевление при режиме «Здоровый Ребенок». Режим «Здоровый Взрослый» также нейтрализует или регулирует дезадаптивные родительские режимы и замещает дезадаптивные копинговые режимы. Кроме того, этот режим отвечает за выполнение соответствующих взрослых функций – работу, родительство, взятие на себя ответственности и обязательств, а также другие взрослые увлечения – интеллектуальные и культурные интересы, забота о здоровье и занятия спортом.
Изначально терапевт выступает в роли Взрослого Я, когда сам клиент на это не способен (Young et al., 2003). В течение курса терапии клиент интернализирует поведение терапевта, включая его в свой режим «Здоровый Взрослый». Большинство взрослых клиентов имеют некую версию режима «Здоровый Взрослый», однако эффективность работы этого режима может быть очень разной. Вполне естественно, что клиенты с более высоким уровнем функционирования имеют более здоровые взрослые режимы, чем клиенты с более низким, но мы исходим из идеи, что в каком-то объеме эта способность есть у всех клиентов.
Таким образом, мы переходим к имплицитному пониманию того, что в клиенте уже есть семена здорового, хорошо функционирующего и интегрированного Взрослого Я. При работе через Взрослое Я одна из наших основных целей – показать клиенту, как говорить и общаться с разными голосами и частями. Не обращаясь к ним напрямую, терапевт моделирует новый способ отношения к ним. Однако иногда может требоваться прямое взаимодействие с частями, или же оно может проявляться спонтанно, особенно в случае амнезии либо низкого уровня ⁄ полного отсутствия со-осознавания частей у клиентов.
И напротив, если Взрослое Я не присутствует и не осознает, что происходит в терапии, а терапевт работает напрямую с частями, детские части, у которых хороший контакт с терапевтом и потребность во внимании, будут появляться чаще и далеко не всегда контролируемым адаптивным образом. Другие типы частей, наоборот, будут появляться на сессии, только если считают нужным предложить защиту. Вероятно, что без присутствия Взрослого Я интеграция будет занимать больше времени. Учитывая эти качества Взрослого Я и моделируя их в терапии, терапевт способствует постепенному развитию Взрослого Я у клиента, и работа на сессиях идет прежде всего через него.
Ключевые аспекты развития Взрослого Я
Работа с частями и голосами требует от терапевтов понимания некоторых ключевых аспектов, которые остаются неявными, неосознаваемыми для клиентов по мере развития сессии. Терапевт моделирует новые способы отношения к частям и голосам, тем самым помогая созреванию Взрослого Я клиента. Кроме того, специалисты способствуют исследованию внутренней системы и внутреннего конфликта. Развивая осознание этих скрытых аспектов, мы можем сделать их понятными, явными в процессе терапевтической работы. Давайте рассмотрим их подробнее.
Учитывайте всю систему
Когда мы исследуем внутреннюю систему частей, мы должны думать о всей картине в целом и стараться включить в нее все части и голоса. Крайне важно объяснять клиентам, что разные части представляют собой разные аспекты личности, но не являются отдельными людьми. Некоторым клиентам может быть сложно это понять, поскольку голоса временами очень похожи на людей, которых они знают с детства. Так, нередко клиенты принимают некоторые части за насильников, потому что те искусно подражают их поведению, тону голоса и выражениям.
Стоит помнить, что иногда мы будем сталкиваться с частями, которые не так легко выявить. Некоторые части, особенно враждебно настроенные, клиент может игнорировать, поскольку они внушают ужас – к ним терапевту следует быть особенно внимательным. В главе 6 мы отдельно рассмотрим взаимодействие с враждебными частями. Проделав определенную работу, мы сможем понять, каких элементов не хватает системе. Эти элементы обычно связаны с неудовлетворенными потребностями и отчасти – со скрытыми частями или частями, о которых клиенту может быть тяжело говорить. На шаге 9 общей структуры работы мы предлагаем исследование этих недостающих элементов.
Всегда проявляйте уважение
Уважение крайне важно: оно помогает исследовать внутреннюю систему частей. Мы должны проявлять глубочайшее уважение как к нашим клиентам, так и ко всем их частям. Это будет служить примером для клиентов, моделью поведения и отношения к себе и своим частям.
Для того чтобы транслировать уважение, на уровне отношения и поведения следует руководствоваться следующими принципами.
• Мы должны принимать то, как клиент воспринимает происходящее, даже если не всегда с этим согласны. Например: «Я понимаю, почему вы смотрите на это именно так, очень тяжело слушать голос, который все время говорит страшные вещи» или «Я понимаю, почему вы так себя чувствуете».
• С уважением относитесь к чувствам и мыслям каждой части и не принимайте сторону одной из них, поскольку это только усилит конфликт. У каждой части есть основания делать то, что она делает, и важно помочь клиенту увидеть всю картину целиком и понять каждую из частей.
• Используйте язык клиента для обсуждения его внутреннего мира. Некоторым клиентам не нравятся термины «голоса» или «части», и они предпочитают говорить об «аспектах» или о «чем-то во мне». В любом случае терапевту важно адаптировать свой язык таким образом, чтобы он соответствовал выбору слов клиента.
• Помогите клиенту переименовать части, которые он или она считают «негативными». Клиенты часто используют негативные имена и отпускают презрительные комментарии, говоря о некоторых голосах или частях. Несмотря на то что это добровольно выбранный ими язык, в этом случае мы не должны следовать за клиентом. Необходимо помочь ему понять, что если он продолжает называть часть подобным образом, то лишь поддерживает внутренний конфликт. Маловероятно, что голос, названный «ублюдком», «засранцем», «сатаной» или «плохим», окажется заинтересован в сотрудничестве. Мы помогаем клиенту переименовать такие части и убрать из употребления негативные, неуважительные или угрожающие определения.
• Уважайте тайминг разных частей. Также нужно подавать клиенту пример того, как правильно относиться к таймингу, чтобы клиент понял, что у каждой части свой темп. Иногда клиенты так хотят скорее исцелиться, что пытаются заставить себя работать с травмой или расстраиваются, потому что у других частей есть тайны, которыми они не спешат делиться. Важно помнить об этом ключевом аспекте на протяжении всего процесса, потому что он связан с самыми сложными фазами терапии.
• Поощряйте клиента принимать решения. В детстве у многих наших клиентов не было выбора, поэтому теперь они склонны делать то, что от них ожидают, или спрашивают мнение других, прежде чем принять решение. Помогайте клиенту оценить собственную способность думать, рефлексировать и принимать оптимальные для него решения. Когда клиенты узнают, что у них есть выбор, это становится мощным инструментом, помогающим им отличать прошлое от настоящего.
• Избегайте интерпретаций. Одно из наиболее частых непреднамеренных проявлений неуважения к клиенту со стороны терапевта – интерпретация действий клиента, голоса или части вместо того, чтобы просто исследовать и пытаться понять. Основная идея исследования системы состоит в том, чтобы помочь клиентам осознать, что происходит у них внутри, не привнося ничего, что могло бы обусловить их реакцию.
Развитие здорового интереса
Уважение и интерес – взаимоподдерживающие процессы. Выражая интерес к причинам поведения частей, мы моделируем новое, более уважительное отношение, что, в свою очередь, повышает интерес у клиента и его частей. Как только клиент начинает слушать голос и понимать потребности или мотивацию разных частей, он становится более сонастроенным с ними. В результате отношение к частям меняется. Клиенты могут проявить здоровый интерес к работе с голосами и частями: что они могут сказать, в чем нуждаются и в каком темпе способны работать. Это поможет понять, что работа состоит не в том, чтобы «побыстрее получить информацию», и клиенту поскорее стало лучше. Клиент начинает понимать, что процесс разворачивается по мере того, как система частей становится готова делиться более уязвимыми подробностями и работать с ними.
Здесь могут быть полезны следующие вопросы:
– Чего голос пытается добиться своими комментариями или поведением?
– Чего опасается голос?
– Пытается ли голос тем или иным образом помочь?
– Что, по мнению голоса, случится, если вы__________?
– Как будет голос себя чувствовать после этого?
Валидируйте! Валидируйте! Валидируйте!
Валидация – возможно, один из самых важных инструментов в терапевтическом процессе. Следует валидировать любые усилия клиента, направленные на понимание системы частей, и любые усилия, которые предпринимают части, чтобы быть понятыми. Человек с конфликтом в системе не привык к валидации, не замечает положительное отношение или сотрудничество, у него не было модели уважительного взаимодействия. Очень важно всегда оказывать поддержку всей системе частей, признавать защитные намерения (независимо от того, являются ли попытки функциональными в настоящий момент), позитивные аспекты, а также любые ресурсы, которые части привносят в систему. Валидацию нужно проводить перед каждой интервенцией. Этот ключевой аспект помогает терапевту смоделировать новый взгляд на части и голоса, с помощью которого разные части могут наблюдать и учиться. Этот новый способ отношения можно интернализировать только благодаря практике и новому опыту.
Будьте сострадательны
Проявляя живой интерес и уважение по отношению к разным частям системы, клиенты могут начинать понимать, почему система организована таким образом. Понимание – это путь к состраданию и эмпатии, необходимый шаг для создания внутренней атмосферы сотрудничества. Для некоторых клиентов это может быть очень сложно. Большинство людей чувствуют сострадание, глядя на страдания ребенка. Однако, вспоминая себя в детстве, они не сострадают, а винят во всем самих себя. Клиенты говорят: «Я могу ощутить это по отношению к другим людям, но не к себе», «Если я думаю о какой-то девочке, то могу понять, что ты имеешь в виду, но если думаю о девочке во мне самой – то не могу».
