Путь Волка: Становление Князя бесплатное чтение
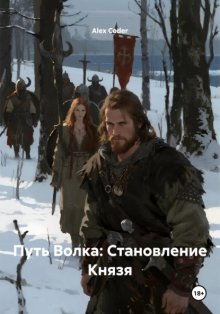
Глава 1. Огонь и Мед
Ночь дышала медом, дымом и мокрой от росы травой. На капище горели костры, их языки слизывали с неба мелкие, как брызги, звезды. Праздник Купалы смывал с людей усталость, пот и кровь недавних стычек с кочевниками. Сегодня все были равны: и воевода Светозар, могучий, как старый дуб, и последний смерд, чьи руки пахли землей.
Ратибор, сын воеводы, осушил очередную чашу с медовухой и рассмеялся, глядя, как девки с визгом прыгают через огонь. Ему было едва ли девятнадцать, и весь мир казался простым и понятным, как рукоять меча. Жизнь – это верная дружина, честь рода и улыбка Светланы, что сейчас сидела поодаль, сплетая венок.
– Пей, Ратибор, но голову не теряй, – пророкотал рядом отец. Светозар положил тяжелую ладонь ему на плечо. – Завтра снова думать придется.
– А сегодня пусть думают боги, отец. Мы свою дань им заплатили.
Рядом, прихлебывая из рога, сидел Всеслав, воевода соседнего городища. Старый, хитрый, с глазами, похожими на два мутных камешка на дне ручья. Он улыбался, морщины у глаз складывались в добрый узор.
– Правильно, сокол. Молодость для веселья, – проскрипел он. – Хорошо сидим, Светозар. Мирно. Крепко.
– Твоими бы устами мед пить, старый лис, – усмехнулся Светозар и обернулся, чтобы крикнуть что-то своим гридням.
И в этот миг тишину разорвал нечеловеческий крик. Он прилетел со стороны дозорной вышки. А следом – рев боевого рога, но не своего, знакомого, а чужого, пронзительного и дикого.
Из-за стены леса, с той стороны, где не ждали, хлынула темная волна. Печенеги. В свете костров блеснули кривые сабли. Ратибор видел, как первая стрела вонзилась в горло смеявшейся секунду назад девке. Праздник захлебнулся кровью.
Мужики, хмельные и безоружные, бросились к шатрам, где оставили мечи и щиты. Но было поздно. В ряды нападавших вклинились другие воины – рослые, в добротных доспехах. И Ратибор с ужасом узнал на их щитах знак Всеслава.
– Отец! – крикнул он, выхватывая свой меч.
Но Светозар уже все понял. Он стоял лицом к лицу с Всеславом, который перестал улыбаться. В руках старика был короткий боевой топор.
– За что, Всеслав? Мы же… клятву давали. На крови.
Всеслав сплюнул.
– Кровь смывается кровью, Светозар. Твой род слишком разросся. Пора проредить.
И прежде чем Светозар успел поднять свой меч, два дружинника Всеслава ударили его в спину. Копья вошли глубоко, с хрустом ломая ребра. Светозар упал на колени, глядя на сына с недоумением и болью. Ратибор видел, как из его рта хлынула темная кровь.
Глава 2. Глаза Предателя
Мир для Ратибора сузился до двух точек – мертвеющих глаз отца и ухмыляющегося лица Всеслава. Все остальное – крики, звон стали, запах горящей плоти – стало далеким фоном. Он не закричал. Он взревел, как раненый медведь.
Этот рев был единственным звуком, который он издал. Дальше говорили только мышцы и сталь. Он шагнул вперед, и меч в его руке стал продолжением ярости. Первый воин Всеслава попытался остановить его, но Ратибор не стал отбивать удар. Он просто шагнул в сторону и рубанул наотмашь, рассекая кожаный доспех и то, что было под ним. Второй получил рукоятью меча в лицо, хрустнула челюсть.
Он не думал о защите. Он не видел ничего, кроме цели. Каждый человек со знаком Всеслава на щите был для него просто препятствием. Он не чувствовал боли, когда печенежская сабля полоснула его по плечу. Он лишь развернулся и вонзил свой меч кочевнику в живот, провернув лезвие.
Всеслав отступал, выставив вперед своих лучших бойцов. Он не ожидал такой ярости от юнца.
– Взять его! Живым! – прохрипел он.
Два тяжелых дружинника с секирами бросились на Ратибора с двух сторон. Это должно было закончить бой. Но он прыгнул не назад, а вперед, прямо на одного из них. Он ударил его щитом в грудь, выбивая дух, и тут же, извернувшись, подставил его тело под удар секиры второго воина. Лезвие с глухим стуком вошло в спину соратника. А Ратибор, оттолкнув от себя мертвый щит, оказался лицом к лицу со вторым врагом. Их глаза встретились на мгновение. И в следующий миг меч Ратибора пронзил его горло.
Кровь хлестала, заливая ему лицо. Теплая, липкая. Он видел только глаза Всеслава. И он почти дошел. Оставалось шагов десять.
Но тут на него сбоку налетела Рогнеда, его подруга детства, дева-воительница.
– Безумец! Они тебя убьют! – прокричала она, оттаскивая его назад.
К ней присоединились двое верных отцовских гридней. Они буквально повалили его и потащили прочь от бойни, в спасительную тьму леса. Он рычал и вырывался, царапая землю пальцами.
– Пустите! Я убью его! Пустите!
Последнее, что он видел, прежде чем тьма леса поглотила его, – это как Всеслав спокойно вытер свой топор о волосы мертвого Светозара. И эта картина выжглась в его памяти огнем.
Глава 3. Пепел и Шепот
Они сидели в сыром овраге, заросшем папоротником. Ночь почти кончилась, на востоке небо начало седеть. От городища доносился треск догорающих срубов и пьяные крики победителей. Запах гари и смерти висел в воздухе.
Ратибор сидел, уставившись в одну точку. Ярость ушла, оставив после себя ледяную пустоту и пульсирующую боль в плече. Светлана, бледная, с заплаканными глазами, промывала его рану отваром, который успела прихватить, убегая. Ее руки дрожали.
– Молчишь, – тихо сказала она. – Скажи хоть что-нибудь, Ратибор. Прокляни. Ударь. Только не молчи так.
Он медленно повернул голову.
– Что говорить, Света? Все сказано. Там, на пепелище. Отцу моему сказано. Мечом в спину.
Он посмотрел на свои руки. Они были в запекшейся крови – своей и чужой.
– Ты когда-нибудь задумывался, почему у предательства такое лицо… знакомое? Почему самый страшный удар наносит тот, кто вчера делил с тобой хлеб? Потому что чужой не сможет подойти так близко. Он не знает, куда бить. А друг… друг знает. Он бьет точно в сердце, даже если целится в спину.
Он говорил это тихо, будто самому себе или кому-то невидимому, кто сидел рядом в этом овраге. Светлана коснулась его щеки.
– Ты ранен. Не только здесь, – она кивнула на его плечо. – Здесь, – ее палец коснулся его груди. – Но ты жив. Боги тебя сберегли.
– Боги? – горько усмехнулся Ратибор. – Какие боги, Светлана? Перун, что смотрел, как режут его людей на празднике? Или Велес, что позволил клятвопреступнику победить? Нет. Боги отвернулись. Или их вовсе нет. Есть только человек. И его меч.
– Не говори так, – прошептала она. – Это горе в тебе говорит. Оно пройдет.
– Не пройдет. Оно теперь часть меня. Как эта рана. Она заживет, останется шрам. И он будет напоминать мне о глазах Всеслава. Каждый день.
Глава 4. Меч или Дорога
Собралось их не больше тридцати воинов, да еще с полсотни женщин, стариков и детей, что успели сбежать. Они сидели вокруг крошечного, бездымного костра. Лица были серыми от горя и усталости.
– Мы должны вернуться, – сказал Боривой, старый дружинник отца, седой, как лунь. – Собрать тех, кто спрятался. И умереть с честью. Отомстить за воеводу.
– И нас перережут, как ягнят, – отрезала Рогнеда. Она стояла, прислонившись к дереву, и чистила свой меч от крови. Ее голос был резок и лишен всяких чувств. – У Всеслава сотня его головорезов, да еще печенеги. А у нас что? Тридцать уставших мужиков и ни одной целой стены за спиной. Смерть твоя будет бесчестной и бесполезной, Боривой.
– Лучше умереть в бою, чем бежать, как псы! – взревел другой воин.
Ратибор молчал, слушая их. Внутри него все еще кипела жажда вернуться и умереть, забрав с собой хотя бы Всеслава. Но слова Рогнеды были холодным ручьем на раскаленных углях.
– А ты что скажешь, Рогнеда? – спросил он наконец, поднимая на нее тяжелый взгляд. – Склонить головы? Просить пощады у убийцы?
Рогнеда подошла к нему и посмотрела прямо в глаза.
– Нет. Я скажу то, что сказал бы твой отец, будь он прагматиком, а не доверчивым добряком. Месть – это блюдо, которое подают не горячим от ярости, а холодным от расчета. Сейчас мы слабы. Если мы нападем – проиграем. Если останемся здесь – нас выследят и убьют. Если пойдем на юг – попадем в лапы другим князькам, которым мы не нужны.
– И что ты предлагаешь? – спросил Ратибор.
– Уходить. На север. Туда, где нет ни Всеслава, ни других псов, грызущихся за клочок земли. Туда, где земли дикие и пустые. На берега великого Варяжского моря, о котором рассказывали купцы.
В кругу воинов поднялся ропот.
– На север? К чуди и болотам? Там же гиблое место!
– Да мы с голоду помрем в первую же зиму!
– А здесь мы умрем завтра! – отрезала Рогнеда. Она обвела всех стальным взглядом. – Послушайте меня. Мы найдем там место. Построим свой острог. Станем сильными. Богатство не только в пашне. Богатство в пушнине, в торговле с варягами. Мы окрепнем, соберем силу, найдем союзников. И вот тогда, Ратибор, – она снова повернулась к нему, – ты вернешься сюда. Не как оборванный беглец с горсткой отчаянных, а как князь с дружиной. И возьмешь свою месть. Не умрешь за отца, а отомстишь за него. Есть разница.
Ратибор смотрел на нее. На ее жесткое, решительное лицо. Она была права. Ее слова были горьким, но нужным лекарством. Отец проиграл из-за чести и доверия. Значит, он, Ратибор, победит хитростью и терпением.
Он встал.
– Она права. Собирайте, что есть. На рассвете уходим на север.
Глава 5. Последний Взгляд
Туман лежал на земле густым, влажным саваном. Он крал звуки, превращая хруст ветки под ногой в глухой стук, а приглушенный плач женщины – в печальный вздох самого леса. Мир съежился до нескольких шагов вокруг, до силуэтов деревьев, похожих на скорбящих великанов. Под этим серым покровом горстка людей, все, что осталось от гордого рода Светозара, покидала землю своих предков. Они двигались молча, как тени, боясь нарушить предутреннюю тишину, которая казалась последним другом, укрывавшим их от врагов.
Ратибор шел впереди, но его шаги становились все медленнее. Что-то тянуло его, невидимая цепь, вросшая в эту землю, в эту выжженную поляну, что когда-то была его домом. Люди проходили мимо него, обтекая его фигуру, как река обтекает валун. Они не смели его торопить. Они понимали.
– Иди, Ратибор. Нам нельзя здесь оставаться, – Рогнеда положила руку ему на плечо. Ее голос, обычно резкий, был непривычно тихим.
Он молча высвободил плечо и, не говоря ни слова, свернул с тропы. Он начал подниматься на невысокий холм, что возвышался над их разоренным городищем. Склон был скользким от росы, ноги вязли в мокрой траве. Ему не нужно было видеть путь, он знал здесь каждую пядь земли. Тысячи раз он бегал здесь мальчишкой, играя в войну. Он и не думал, что однажды эта игра станет такой до ужаса настоящей.
На вершине холма туман был чуть реже. Ратибор остановился, и его дыхание вырвалось белым облачком. Отсюда было видно.
Внизу, в лощине, лежали руины его мира. Черные, обугленные остовы домов, похожие на скелеты доисторических чудовищ. Кое-где из-под завалов все еще лениво вился сизый дымок, смешиваясь с туманом. Не было больше ни смеха, ни стука топоров, ни запаха печеного хлеба. Только вонь гари, крови и смерти. И воронье, слетевшееся на пир. Их хриплое карканье было единственным звуком, нарушавшим мертвую тишину.
Он смотрел, и картина выжигалась на обратной стороне его век. Вот здесь был отцовский дом, самый большой, где он вырос. Теперь на его месте – груда почерневших бревен. Вон там, у колодца, они со Светланой впервые поцеловались, неумело и торопливо. Теперь колодезный сруб был сломан, а земля вокруг втоптана в грязь. А там, на месте капища, где еще позавчера горели купальские костры, теперь валялись тела, которые победители не удосужились даже убрать.
Ратибор не чувствовал ни боли, ни ярости. Все это сгорело в нем вчера. Остался только холод. Холод, который пробирал до самых костей, до самой души. Это был холод пустоты. Холод понимания, что все, что ты любил, все, что составляло твою жизнь, можно уничтожить за одну ночь.
"Странная штука – память, – подумал он, и эта мысль была отстраненной, чужой, будто не его. – Ты носишь в себе целый мир: лица, голоса, запахи. А потом приходит кто-то с огнем и мечом и превращает твой мир в горстку пепла. И все, что у тебя остается, – это призраки. Призраки, которые будут ходить за тобой по пятам, куда бы ты ни пошел".
Он сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Он не произнес ни слова. Клятвы, данные вслух, может услышать и смыть ветер. Настоящие клятвы рождаются в тишине. В тишине раздавленного сердца и холодной, как сталь, решимости.
Он клялся не богам. Боги отвернулись. Он клялся этому пеплу. Этим черным руинам. Этим безымянным могилам.
Он будет жить. Не ради жизни, а ради смерти. Смерти тех, кто это сделал.
Он уйдет. Не для того, чтобы спастись, а для того, чтобы набраться сил.
И он вернется.
Он не знал когда. Через год, через десять, через двадцать. Но он вернется. Он вернется на этот холм. И внизу, в лощине, будет гореть другой огонь. Огонь мести. И дым от городища Всеслава застелет небо.
Ратибор в последний раз обвел взглядом разоренный дом. Запомнил каждую деталь, каждую почерневшую балку. Он вбирал эту картину в себя, делал ее частью своей крови, своего дыхания. Этот пепел будет стучать в его сердце до тех пор, пока не превратится в пламя.
Затем он молча повернулся и начал спускаться с холма.
Когда он вернулся к своим людям, его лицо было как маска, вырезанная из камня. Они смотрели на него – и в его взгляде больше не было растерянного, яростного юнца. В его глазах отражался холодный дым сожженного дома.
Рогнеда молча кивнула. Она все поняла.
Ратибор-мальчишка умер на этом холме.
На тропу ступил Ратибор-вождь. И его путь вел на север. Путь домой лежал через долгую дорогу от него.
Глава 6. Голоса Духов
Когда последние следы их сожженного дома растворились в утреннем тумане, Заряна остановила маленькую процессию беглецов. Она остановилась у старого, покрытого мхом валуна, лежавшего у самой кромки леса. Камень был древним, из тех, что помнят, как по этим землям ходили ледники, а не люди.
– Подождите, – ее голос был тих, но в нем слышалась та особая власть, которую не дает меч или право рождения. Власть тех, кто говорит не от себя. – Мы не можем уйти просто так. Как воры. Не попрощавшись.
Мужики недовольно заворчали. Страх подгонял их, делал их сердца нетерпеливыми.
– Не время для обрядов, жрица, – пробурчал Боривой. – За нами погоня может быть.
– Тем более не время, – спокойно ответила Заряна, не глядя на него. – Уйти, не отдав долг, – значит навлечь беду на свой след. Земля-матушка нас вырастила. Поила, кормила. А мы оставляем ее в ранах, оскверненную кровью и огнем. Она держит души наших отцов. Если мы не попросим у нее отпустить нас, она будет тянуть нас назад. И эта ноша будет тяжелее любого мешка с добром.
Ратибор, стоявший поодаль, молча кивнул. Он не верил в ее духов так, как верила она. Его богом в эту ночь стала месть. Но он видел, как смотрели на Заряну женщины, как притихли дети. Этим людям, потерявшим все, сейчас нужна была не только его сталь, но и ее вера. Нужен был хоть какой-то смысл в их бегстве, кроме животного страха.
Заряна опустилась на колени перед валуном. Из своего скромного узелка она достала то немногое, что успела спасти: горсть зерна из разоренного амбара, кусочек вчерашнего хлеба и маленький глиняный кувшинчик с молоком, который какая-то сердобольная женщина сунула ей наспех. Это были не дары. Это были крохи. Все, что осталось от их былого достатка.
Она рассыпала зерно у подножия камня, положила хлеб. Затем открыла кувшинчик и тонкой струйкой вылила молоко на холодный, поросший мхом гранит.
– Земля-кормилица, – начала она свой шепот, который, казалось, был слышен только ей да камню. – Прости нас, детей твоих неразумных. Прости, что не уберегли твой покой. Прости за кровь, что впиталась в тебя. Прости за огонь, что лизал твою траву.
Она замолчала, прижавшись лбом к холодной поверхности валуна. Ее плечи дрожали. Она не просто проводила ритуал. Она прощалась. По-настоящему.
Люди стояли вокруг в почтительном молчании. В этом простом действии было нечто глубокое и настоящее. Это не было похоже на пышные обряды во время праздников. Это было отчаянное, искреннее прощание с домом, с корнями, с целым миром, который рухнул.
Заряна выпрямилась. Ее глаза были закрыты, лицо – бледное и сосредоточенное. Она больше не была здесь. Ее дух блуждал где-то на границе миров. Она начала говорить снова, но ее голос изменился. Он стал глуше, отстраненнее, будто шел из глубины самого камня.
– Я вижу… реку. Длинную, темную, как змея, ползущая на север. Вода в ней холодная и тяжелая. Берега – чужие. Леса молчат. Я вижу… небо. Серое, низкое. И солнце… оно светит, но не греет. Оно похоже на тусклую медную бляху. Безразличное.
Ее дыхание стало прерывистым.
– Я вижу боль. Холод. Голод. Дорога будет долгой. Она заберет слабых. Она испытает сильных. Духи той земли… они не наши. Они древние, суровые. Они не ждут гостей.
Она резко открыла глаза. Зрачки были расширены, в них плескался отголосок того, что она видела. Она посмотрела прямо на Ратибора.
– Путь будет тяжел, вождь, – сказала она уже своим голосом, но в нем все еще слышалось эхо видения. – Тяжелее, чем ты думаешь. Мы идем не в землю обетованную. Мы идем в пасть зимы.
Ратибор подошел к ней. Он смотрел на ее измученное лицо, на капельки пота, выступившие на лбу, несмотря на утренний холод.
– Ты видела, дойдем ли мы? – спросил он тихо, чтобы слышала только она. Вопрос вождя. Прагматичный и жестокий.
Заряна отвела взгляд.
– Я видела только дорогу. И великую, холодную воду в ее конце. Дорога никогда не показывает, кто дойдет до конца. Она лишь испытывает идущих. Каждого.
Она сделала паузу, а потом добавила, уже тише:
– Ты спрашиваешь, как воин, Ратибор. А нужно спросить, как жнец. Достаточно ли в нас зерен, чтобы засеять новое поле, пройдя через каменистую пустыню? Видение не дало мне ответа. Оно лишь показало, сколько камней будет на нашем пути.
Он понял. Она не давала ему надежды на легкий путь, но она и не отнимала ее совсем. Она давала ему правду. Суровую, неутешительную правду. И в этот момент он понял, что ее правда сейчас нужнее людям, чем его месть. Потому что месть греет только одного. А правда готовит к испытаниям всех.
– Хорошо, – сказал он, уже обращаясь ко всем. – Значит, путь будет тяжелым. Мы это слышали. Но мы – род Светозара. Мы не боимся трудных дорог. Мы оставляем здесь пепел. А на севере мы зажжем новый огонь. Теперь – в путь.
Люди двинулись. Обряд был закончен. Земля их отпустила. Но слова Заряны о холодной реке и безразличном солнце поселились в сердце каждого. Они уходили из ада. Но теперь они знали, что их путь не ведет в рай. Их путь лежал через чистилище.
Глава 7. Сборы
Они добрались до укромной заводи в нескольких верстах вниз по реке, где рыбаки держали свои лодки. Место, которое победители, упиваясь грабежом в городище, обошли стороной. Здесь, под прикрытием плакучих ив, их ждали три старые, просмоленные ладьи. Не боевые ушкуи, не гордые ладьи для торговли. Простые рабочие лошадки, пахнущие рыбой и речной сыростью. Их спасение. Их ковчег. И, возможно, их общая могила.
Пока мужчины осматривали лодки, латали дыры и укрепляли весла, женщины выложили на берегу все, что удалось унести.
Зрелище было жалкое.
Несколько мешков с зерном. Пара бочонков с солониной. Немного вяленого мяса. Моток веревки. Несколько топоров, дюжина мечей и копий. И ворох случайных вещей, выхваченных в панике: медный котелок, детский резной конек, вышитое полотенце, чей-то любимый гребень из кости. Это было все, что осталось от целого мира. Остатки кораблекрушения, выброшенные на берег.
Молодая женщина по имени Любава сидела, тупо глядя на сверток в своих руках. Она развернула его. Внутри был незаконченный свадебный наряд, который она шила для своей сестры. Белая ткань с искусной вышивкой. Сестра погибла этой ночью. Любава снова завернула ткань и начала раскачиваться из стороны в сторону, не издав ни звука. Ее горе было таким огромным, что для него не было слез.
К ней подошла пожилая женщина, Милолица, потерявшая мужа и двух сыновей. Она коснулась плеча Любавы.
– Брось, дочка, – сказала она хрипло. – Лишняя тяжесть. Теперь нам другие наряды шить придется. Из шкур да рогожи.
Любава подняла на нее глаза, полные какой-то отрешенной ярости.
– Это все, что от нее осталось, бабка. Понимаешь? Не тело, которое сожгли в доме. Не косы, которые они отрезали. А вот это. Ее мечта. И ты говоришь мне ее бросить?
Милолица вздохнула. Взгляд ее смягчился.
– Нет, дочка. Не понимаешь ты. Не бросить. А вплести. Возьми нитку из этой вышивки. И когда будешь латать рубаху своему живому мужу или пеленать своего будущего ребенка, вшей эту нитку в шов. Пусть ее мечта станет оберегом для живых. Мертвым наряды не нужны. Мертвым нужна память. А память должна быть легкой, чтобы ее можно было нести с собой, а не тяжелой, как камень, что тянет на дно.
Любава смотрела то на сверток, то на лицо старухи. Потом медленно кивнула. Она не выбросила наряд. Но отложила его в сторону, чтобы позже сделать так, как сказала Милолица.
***
Неподалеку двое дружинников, Горазд и Верен, проверяли оружие.
– Мой щит треснул, – сказал Верен, проводя пальцем по глубокой вмятине с трещиной. – Печенежская сабля. Еще бы чуть-чуть, и располовинила бы.
– А мой меч затупился о чьи-то кости, – пробормотал Горазд, пробуя лезвие. – И теперь этим тупым мечом нам, может, придется отбиваться от лесных тварей и всякой чуди. Хорош поход, нечего сказать. От огня да в полымя.
Верен посмотрел на реку, на серую, холодную воду.
– А я вот думаю… знаешь, о чем? – сказал он тихо. – В бою все просто. Вот ты. Вот враг. Либо ты его, либо он тебя. Все ясно, как божий день. А сейчас… что сейчас? Кто наш враг? Голод? Холод? Неведомые земли? Как с ними драться? У них нет ни глотки, которую можно перерезать, ни сердца, куда можно вонзить копье.
Горазд хмыкнул.
– Наш враг тот же, что и был, Верен. Страх. Он сидит в каждом из нас. Вон, посмотри на баб. На стариков. Их глаза пустые. Если мы дадим страху волю, он сожрет нас изнутри быстрее любого печенега.
"Забавно, – подумалось Ратибору, который стоял рядом и слышал их разговор, не подавая вида. – Мужи, что не дрогнули перед кривыми саблями, боятся тишины и неизвестности. Может, потому и придумывают люди себе богов и духов? Чтобы было кого винить в своих бедах. Чтобы было с кем сражаться, когда настоящий враг невидим и сидит в твоей собственной голове. Дать страху имя – это почти что победить его".
***
Он подошел к Рогнеде, которая распределяла скудные припасы, откладывая самое необходимое. Она делала это методично, без суеты, будто готовилась не к отчаянному бегству, а к обычному походу.
– Все не возьмем, – сказала она, не поднимая головы. – Лодки не выдержат. Зерно, мясо, оружие, топоры. Остальное – в реку.
– Люди… они цепляются за эти вещи, – тихо сказал Ратибор. – Это все, что у них есть.
Рогнеда наконец подняла на него свои ясные, холодные глаза.
– Нет. Все, что у них есть, – это их жизнь. Эти тряпки, горшки, безделушки… это якоря. Они тянут их назад, в прошлое, которого больше нет. А нам надо плыть вперед. И плыть налегке. Чтобы выжить, им придется научиться отпускать. Чем быстрее – тем лучше. Жестоко? Да. Но река, по которой мы пойдем, будет еще жесточе. Она не прощает лишнего груза.
Она взяла в руки ту самую детскую резную лошадку. Повертела ее.
– Кто-то из отцов вырезал ее для своего сына, – сказала она. Ее голос на мгновение смягчился. – Думал о будущем. А будущего не стало.
Она бросила лошадку в общую кучу вещей, которые останутся на берегу.
– На севере, – сказала она, снова становясь жесткой, – его сыну понадобится не игрушечная лошадка, а настоящий лук. И я его научу, как из него стрелять. Это все, что я могу сделать. Для него. И для тебя.
Ратибор смотрел на нее и понимал. Она была его якорем. Но якорем не прошлого, а будущего. Она не давала ему утонуть в жалости к себе и другим. Она заставляла его думать о выживании.
Их сборы были похожи на похороны. Похороны их прошлой жизни. Каждый узел, который они завязывали, каждый мешок, который они грузили в лодку, был прощанием. Они брали с собой не вещи. Они брали с собой только надежду. Хрупкую и почти невесомую, как паутинка в осеннем лесу. И каждый втайне молился, чтобы она не оборвалась на первом же повороте реки.
Глава 8. Первый Предел
Они плыли уже несколько часов. Позади осталась заводь, леса, в которых они выросли. Река медленно несла их на север, и монотонный скрип уключин стал единственной музыкой их исхода. Никто не разговаривал. Слова казались лишними, неуместными. Слишком многое было выжжено в их душах за последние сутки, чтобы находить силы на пустые звуки. Каждый был погружен в свою собственную тишину, в свой личный, безмолвный ад.
Ратибор сидел на корме головной ладьи, правя веслом. Его плечо горело тупой, ноющей болью, но он почти не замечал этого. Он смотрел не вперед, а на убегающий назад берег. На знакомые до последней кочки холмы, на изгибы реки. Он прощался. Он вытравливал из себя эту землю, как знахарь вытравливает яд. Болезненно, мучительно, до тошноты.
Впереди показался старый дуб, раскинувшийся у самой воды. Его ветви, похожие на могучие руки старца, почти касались поверхности реки. Дуб был древний, разбитый молнией, но все еще живой. Его знали все. Это была межа. Невидимая граница, отделявшая земли их рода от владений Всеслава. Когда-то у этого дуба они встречали невест, провожали купцов, дрались стенка на стенку с парнями из соседнего поселения. Это был порог их дома.
Боривой, старый дружинник, сидевший на веслах, крякнул.
– Вот и все, княжич, – сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. – Межевой дуб. Дальше – чужая земля.
И это простое слово – "чужая" – ударило по всем, кто был в лодках, как удар весла по воде. До этого момента они были на своей земле, пусть и спасаясь бегством. Они были хозяевами, изгнанными из собственного дома. Но стоило им миновать этот дуб, и все менялось.
Теперь они становились никем. Беглецами. Бродягами. Людьми без корней, без права, без земли под ногами. Официально, бесповоротно – изгнанниками.
Когда их лодка поравнялась с дубом, Ратибор поднял голову и посмотрел на его могучий ствол.
"Что такое граница? – пронеслась в его голове мысль, острая и ясная, как вспышка молнии в ночи. – Это просто черта, которую один человек провел, чтобы сказать другому: "Это мое". Дерево, камень, река. И все верят в эту черту. И умирают за нее. Но ведь для реки нет границ. Для ветра, для зверя – нет границ. Может быть, быть изгнанником – это не проклятие, а свобода? Свобода от этих черточек на земле, за которые люди готовы перегрызть друг другу глотки?"
Он горько усмехнулся своим мыслям. Легко рассуждать о свободе, когда у тебя отняли все, кроме собственной жизни и меча на поясе.
Светлана, сидевшая неподалеку, кутала в платок маленького мальчика, чей отец остался лежать на капище. Мальчик не плакал, просто смотрел на воду пустыми глазами.
– Он спрашивал меня, – тихо сказала Светлана Ратибору, будто продолжая его мысли, – вернемся ли мы домой, когда дядя Всеслав перестанет сердиться.
Ратибор посмотрел на мальчика. На его тонкую шейку, на испуганное, чумазое личико.
– А ты что сказала?
– Я сказала, что мы идем строить новый дом. Лучше прежнего.
– Ты солгала ему, – беззлобно констатировал Ратибор.
– Нет, – твердо ответила Светлана, и в ее голосе впервые за эти сутки прорезался металл. – Я дала ему надежду. Надежда – это не ложь, Ратибор. Это… это то, что мы вдыхаем, когда воздуха уже не осталось. Мы можем потерять землю, можем потерять дома, можем потерять все. Но если мы потеряем надежду, тогда можно смело поворачивать лодки и плыть навстречу мечам Всеслава. Потому что мы уже будем мертвы.
Он смотрел на нее, на эту хрупкую девушку, которая за одну ночь повзрослела на десять лет. Она была права. Его месть – это то, что двигало им. Но надежда – это то, что будет двигать всеми остальными.
Лодки миновали старый дуб. Скрип уключин, казалось, стал громче, отчаяннее. Люди оглядывались. Прощались. Теперь они были в чужих владениях. Опасность возросла. Теперь любой встречный мог безнаказанно убить их. Они были вне закона, вне своего мира.
Верен долго молчал, как и все. Смотрел на серую воду, на убегающие берега. Внутри него все сжалось в ледяной комок. Но сидеть вот так, в тишине, было невыносимо. Тишина давила, заставляла снова и снова видеть перед глазами огонь и кровь. И он сделал то, что делали воины всегда, когда становилось слишком тяжело. Он запел.
Его голос поначалу был тихим, неуверенным, чуть дребезжащим:
(медленно, почти речитативом, под скрип уключин)
"Ой, да по реке-реченьке, да туман стелется,
Словно Марена-матушка саван свой стелет нам…"
Он запнулся, поняв, какие страшные слова сорвались с языка. Но было поздно. Он глубоко вздохнул, и голос его окреп, налился горечью и упрямством.
(ритм становится четче, увереннее, подгоняя гребцов)
"А мы идем, братцы, да на чужу сторонушку,
Где ворон – сват, а волк-то нам будет кумом.
Где ветер-батюшка нам споет колыбельную,
А ночка темная станет верной жинкою".
Горазд, сидевший напротив, криво усмехнулся и подхватил, уже громче, с привычной удалью:
(темп ускоряется, появляется надрывная, отчаянная сила)
"Прощай, село родное, да хата белая!
Прощай, девчонка-волюшка с русою косою!
Мечи-то наши острые – вот наша вотчина,
А щит щербатый, батюшка, – вся наша скотинушка!"
И тут песня, будто прорвав плотину молчания, хлынула во всю мощь. К ним присоединились и другие голоса, хриплые, мужские. Они пели, яростно вгоняя весла в воду. Они пели не о том, что было, а о том, что будет, переиначивая старые слова на новый, отчаянный лад.
(хор гремит, почти кричит, бросая вызов реке и небу)
"Не за добром идем, не за златом-серебром,
А за своей мы долею с острым топором!
Где наша доля ляжет – там поле ратное,
Где наша доля встанет – там будет новый дом!
Нас не проводит матушка слезой горючею,
Нас встретят сватьи-тученьки стрелой колючею.
Так наливай, брат, воздуха, да полной грудью пей!
Мертвецки пьяным весело плясать среди мечей!"
В последнем куплете веселый, почти плясовой мотив смешался с такой лютой тоской, что стало жутко. Это была песня людей, которым больше нечего терять. Песня воинов, которые шли не в набег за добычей, а в свой последний поход, где единственной наградой могла стать сама жизнь.
Когда песня смолкла, над рекой снова повисла тишина. Но это была уже другая тишина. Не мертвая тишина отчаяния. А тяжелая, сосредоточенная тишина людей, которые посмотрели в глаза своей судьбе и приняли ее вызов. Они все еще были изгнанниками на пути в неизвестность. Но теперь они снова были дружиной. И их песня стала их первым стягом на этой долгой, темной реке.
Они пели не для веселья. Они пели, чтобы заглушить тишину. Чтобы доказать реке, лесу и самим себе, что они еще живы. Что род Светозара не утонул в крови и не сгорел в огне. Он просто ушел. Ушел, чтобы однажды вернуться.
Ратибор не пел. Он слушал. И в этой песне, в скрипе весел, в упрямых лицах своих людей он чувствовал рождение чего-то нового. Они перестали быть просто осколками разбитого рода. Они становились стаей. Маленькой, израненной, но стаей. И у этой стаи был вожак. Он смотрел вперед, на север, туда, где река скрывалась в серой дымке.
Граница была пройдена. Обратного пути не было. И это, как ни странно, приносило облегчение. Больше не нужно было оглядываться. Только вперед. В неизвестность.
Глава 9. Слово Вождя
Они пристали к берегу, когда солнце начало клониться к закату. Место было глухое, заросшее густым ольшаником. Здесь можно было передохнуть, не опасаясь, что их заметят с высокого берега. Развели небольшой, почти бездымный костер. Люди сгрудились вокруг него, как мотыльки вокруг единственного огонька в бескрайней ночной тьме.
На их лицах лежала печать усталости и безнадежности. Они плыли весь день, гребли молча, механически. Движение спасало от мыслей. Но сейчас, в неподвижности лагеря, мысли вернулись. Призраки убитых родных, картины пожара, липкий страх перед будущим – все это снова навалилось на них, пригибая к земле. Женщины тихо всхлипывали, убаюкивая детей. Мужчины смотрели в огонь, и в их глазах отражалась пустота. Это была опасная тишина. Тишина перед тем, как ломается дух.
Ратибор видел это. Он чувствовал, как отчаяние, словно болотная топь, начинает засасывать его людей. Еще немного, и они превратятся в безвольное стадо, которое можно вести на убой. И он понял, что больше нельзя молчать. Слова. Сейчас нужны были слова. Не жалость, не утешение. А что-то другое. Что-то, что заставит их снова поднять головы.
Он встал и вышел в центр круга, так, чтобы его видел каждый. Он был не выше многих из них, измазанный сажей и кровью, с перевязанным плечом. Он не выглядел как княжич. Он выглядел как один из них – выживший.
Он обвел их всех медленным, тяжелым взглядом. Заглянул в глаза каждому: старому Боривою, молодой Любаве, испуганным детям, своим верным дружинникам.
– Вы молчите, – начал он, и его голос, хриплый от дыма и крика, прозвучал неожиданно громко в лесной тиши. – Молчите и смотрите в огонь, будто уже видите там свои похороны. Вы думаете, что все потеряно. И вы правы.
По кругу пронесся удивленный, недоуменный ропот.
– Мы потеряли все, – продолжил Ратибор, и его голос набрал силу. – Наши дома стали пеплом. Наша земля пропитана кровью наших отцов и братьев. Наши женщины стали вдовами, наши дети – сиротами. Честь нашего рода втоптана в грязь сапогом предателя. Тот, кто вчера пил с нами мед, сегодня пьет нашу кровь. Все это правда. Горькая, как полынь.
Он сделал паузу, давая словам впитаться.
– И вы сидите здесь и ждете чего? Что боги сжалятся? Что прошлое вернется? – он горько усмехнулся. – Прошлое мертво. Боги слепы. Или им просто все равно. Никто не придет и не спасет нас. Никто не отомстит за нас. Никто. Кроме нас самих.
Он шагнул ближе к огню, и его лицо осветилось неровным, пляшущим светом. Тени на его лице делали его старше и жестче.
– Да, у нас отняли все. Но кое-что у нас осталось. Вы оглянитесь друг на друга! У нас остались руки, которые могут держать весло и меч. У нас остались ноги, которые могут нести нас вперед. У нас остались сердца, в которых горит ненависть. А ненависть – это великая сила, если знать, куда ее направить. Она греет лучше любого костра. Она кормит лучше любого хлеба.
Он снова обвел их взглядом, и теперь в его голосе звенела сталь.
– Я не буду вам врать. Я не обещаю вам легкой жизни. Впереди нас ждут голод, холод и смерть. Впереди нас ждет земля, которая не захочет нас принимать. Мы будем грызть кору с деревьев и пить болотную воду. Мы будем хоронить наших детей и стариков в чужой, мерзлой земле. Мы будем сражаться со зверями, с людьми и с духами, о которых мы даже не слышали. Многие из нас не дойдут. Это тоже правда.
Люди слушали его, затаив дыхание. Он не щадил их. Он резал по живому.
– Но я обещаю вам другое.
Он вытащил из-за пояса меч. Лезвие тускло блеснуло в свете костра.
– Я обещаю вам месть. Кровью клянусь, на этом мече, на могиле моего отца! Настанет день, когда мы вернемся. Мы вернемся не как стая побитых псов. А как волчья стая, ведомая яростью! И мы вырежем род Всеслава до седьмого колена! Мы сожжем их дома, мы заберем их женщин, мы засеем их поля солью! Мы вернем себе все, что у нас отняли! Сторицей!
Его голос гремел под сводами темного леса.
– А до тех пор… до тех пор я обещаю вам новый дом. Не тот, что нам оставили в наследство. А тот, что мы построим сами. Своими руками, своим потом, своей кровью. На краю земли, на берегу великой воды. Дом, который никто не посмеет у нас отнять. Крепость, стены которой будут сложены из нашего упрямства, а крыша – из нашей воли к жизни. Там родятся наши дети, свободные и гордые. И мы дадим им не просто имя и клочок земли. Мы дадим им легенду. Легенду о тех, кто пал, но поднялся. О тех, кто потерял все, но обрел себя.
Он замолчал, тяжело дыша. И в наступившей тишине было слышно, как трещат угли в костре.
Он не смотрел на них, как господин на челядь. Он смотрел на них, как вожак, который только что заставил свою стаю снова оскалить зубы.
"Говорят, слова – это ветер, – думал он, ощущая, как гудит все его тело от напряжения. – Ложь. Слова – это семена. Ты бросаешь их в почву человеческих душ. Что-то упадет на камень и умрет. А что-то прорастет. И если ты посеял семя надежды вперемешку с семенем ненависти, ты получишь страшный урожай. Урожай людей, которые готовы пойти за тобой хоть в пекло, потому что ты показал им, что даже в самом глубоком аду есть выход. И этот выход они должны прорубить своими мечами".
Первым поднялся старый Боривой. Он подошел и молча положил свою тяжелую руку на плечо Ратибора, сжимавшее меч. Затем встал Верен. Потом Горазд. Потом еще один. Встали мужчины, вытирая слезы, поднялись женщины.
Они не кричали "слава". Они не произносили клятв.
Они просто стояли вокруг него.
Молча.
И этого молчания было достаточно.
В этот вечер у костра в глухом лесу умер последний мальчишеский страх Ратибора. И родилась его армия. Изгнанная, израненная, почти мертвая. Но его.
Глава 10. Начало Реки
Рассвет был серым и стылым, как поцелуй мертвеца. Ночь, полная тревожного сна и тихих разговоров, неохотно уступала место новому дню. Люди двигались без суеты, грузили в лодки последние, самые необходимые вещи. После вчерашней речи Ратибора что-то изменилось. Спины выпрямились. Движения стали увереннее. Отчаяние не ушло, нет, оно никуда не девается так быстро. Но оно сжалось, ушло вглубь, уступив место чему-то другому. Мрачной, сосредоточенной решимости. Они больше не были жертвами. Они были выжившими, готовящимися к долгому пути.
Костер затушили, тщательно залив его речной водой. Уничтожили все следы своей стоянки. Словно их здесь никогда и не было. Словно они сами были призраками, скользящими по краю мира.
Когда все было готово, Ратибор подошел к кромке воды. Рядом с ним, словно две тени, стояли Светлана и Рогнеда. Три столпа его рухнувшего мира. Одна – его прошлое, которое он обязан был сберечь. Другая – его настоящее, которое помогало ему стоять на ногах.
Светлана коснулась его руки. Ее пальцы были холодными.
– Река примет нас? – спросила она так тихо, что ее слова почти утонули в утреннем шепоте ветра. Это был не вопрос жрице. Это был вопрос женщине, которая боялась.
Прежде чем Ратибор успел ответить, заговорила Рогнеда, не отрывая взгляда от темной, неторопливой воды.
– Реке все равно. Она просто течет. Она примет и нас, и наши трупы. Важно не то, примет ли она нас. Важно, хватит ли у нас сил грести против ее безразличия.
Слова были жестокими, но в них была та же суровая правда, что и в речи Ратибора. Светлана не вздрогнула. Она лишь крепче сжала его руку и кивнула, будто принимая эту правду как горькое, но необходимое лекарство.
Ратибор посмотрел на реку. На ее темную, маслянистую поверхность. Она была похожа на дорогу. Дорогу без указателей, без постоялых дворов, ведущую в никуда.
"Когда стоишь на берегу, ты хозяин своего шага, – пронеслась в его голове знакомая отстраненная мысль. – Ты можешь пойти вперед, назад, в сторону. Но стоит тебе оттолкнуть лодку от берега, и все меняется. Ты больше не хозяин. Ты отдаешь свою судьбу в руки течения. Ты можешь править, можешь грести, но река все равно будет нести тебя. Куда? Туда, куда она впадает. В великую воду. Или в непроходимое болото. И ты никогда не узнаешь, чем кончится твой путь, пока не пройдешь его до конца. Возможно, это и есть жизнь? Просто иллюзия выбора, пока тебя несет течением".
Он встряхнулся, отгоняя эти мысли. Сейчас нельзя было думать. Сейчас нужно было действовать.
– По лодкам, – скомандовал он. Его голос не был громким, но его услышали все.
Люди начали рассаживаться. Стариков и детей – в середину. Женщин – ближе к ним. Воинов – на весла и по бортам, с оружием наготове. Все происходило слаженно, без лишних слов. Они уже становились одним организмом.
Ратибор занял свое место на корме головной ладьи. Он кивнул Боривою, стоявшему по пояс в воде и державшему нос. Старый дружинник с усилием толкнул тяжелую лодку. Она скользнула с отмели и качнулась, поймав течение. За ней отчалили две другие.
Тихий всплеск весел, врезавшихся в воду, стал единственным звуком.
Берег, их последний островок родной земли, начал медленно отдаляться. Деревья, кусты, знакомая излучина – все уплывало назад, в прошлое. Обратного пути не было. Перебраться с лодки на берег легко. Но вернуться назад, против течения, против судьбы, против того, что они только что пережили, было уже невозможно. Невидимый предел был пройден. Теперь их домом была река.
Он обернулся и посмотрел на лица своих людей. На их сосредоточенные, напряженные фигуры. Они не смотрели назад. Почти никто не смотрел. Все взгляды были устремлены вперед, на север, туда, где за следующим поворотом их ждала неизвестность.
В этом было что-то величественное и страшное. Их маленькая флотилия из трех старых рыбацких лодок, уносящая осколки целого рода, входила в темное, неторопливое русло великой реки по имени Будущее. Она могла стать для них дорогой жизни. Могла стать их общей могилой.
Ратибор крепче сжал рукоять правящего весла. Река приняла их. Теперь оставалось лишь одно.
Грести.
Глава 11. Пульс Реки
Время потеряло свой привычный счет. Оно больше не делилось на дни недели или месяцы. Оно измерялось иначе. От рассвета до заката. От одной стоянки до другой. От чувства голода до сытости, которая бывала все реже. Их миром стала река. Широкая, темная, ленивая. Она несла их на север в своих холодных объятиях, и ее неторопливое течение стало биением сердца их маленького, израненного племени.
Днем мир состоял из звуков: ритмичный скрип уключин, гулкий плеск весел о воду, редкие, гортанные команды Боривоя, управлявшего гребцами. Солнце пекло незащищенные головы, а потом сменялось холодным, пронизывающим дождем. Берега медленно проплывали мимо – бесконечная, однообразная стена леса, то подступавшего к самой воде, то отступавшего, обнажая песчаные отмели. Иногда в лесу мелькала тень зверя. Иногда над головой, издав тоскливый крик, пролетала птица. И все. Мир казался пустым. Словно боги, сотворив его, забыли заселить.
Ночью мир сжимался до размеров костра. Они приставали к берегу, выставляли дозорных, и маленький островок света становился их вселенной. За его пределами жила тьма, полная шорохов, треска веток и тревожного уханья совы. Иногда, совсем близко, начинался вой. Протяжный, тоскливый, заставляющий сердце сжиматься в холодный комок. Волки. Они шли за ними по берегу. Чуяли их слабость, их запах страха и крови. Каждую ночь вой становился все ближе.
Ратибор почти не спал. Днем он сидел на носу головной ладьи, вглядываясь в изгибы реки, пытаясь угадать, что ждет их за следующим поворотом – пороги, мель или, может быть, засада. А ночью он обходил дозорных, подбрасывал дрова в костер и подолгу смотрел на спящих людей.
На их лицах, освещенных неровным пламенем, стиралась вся дневная отвага. Они спали беспокойно, вздрагивали, что-то бормотали во сне. Дети прижимались к матерям, а те, даже во сне, крепко обнимали их. Мужчины, сильные воины, спали, положив руку на рукоять меча.
Он смотрел на них, и внутри нарастала гулкая, звенящая пустота.
"Что ты чувствуешь, когда смотришь на них? – спрашивал он сам себя, обращаясь к невидимому собеседнику, сидящему рядом во тьме. – Гордость? Ответственность? Жалость? Нет. Ничего подобного. Ты чувствуешь себя натянутой тетивой. Одна стрела уже выпущена – та, что убила твое прошлое. А другая еще не вложена. И вот ты звенишь от напряжения в этой пустоте между выстрелами. Они думают, что ты их ведешь. Что у тебя есть план. Они смотрят на тебя, и их взгляды, полные надежды и страха, впиваются в тебя, как сотня маленьких крючков. А ты… ты просто смотришь на реку и молишься про себя, чтобы она не привела вас всех в болото, из которого нет выхода. Быть вождем – это величайший обман на свете. Ты обманываешь их, заставляя верить в тебя. А потом обманываешь себя, начиная верить в то, что ты действительно знаешь, что делаешь".
Однажды ночью к нему подошла Заряна. Она принесла ему кружку с горячим отваром из каких-то трав.
– Ты растаешь, как свеча, если не будешь спать, – сказала она тихо, садясь рядом.
– Свеча должна гореть, пока не наступит рассвет, – ответил он, принимая кружку. Его пальцы коснулись ее пальцев. Теплые. Живые.
Они помолчали, глядя на огонь.
– Они верят в тебя, – сказала она. – Как в нового бога.
– Плохой из меня бог, Заряна. Я не умею творить чудеса. Я только умею отнимать жизнь.
– Иногда, чтобы спасти свой народ, нужно отнять чью-то жизнь, – она посмотрела на него в упор. – А иногда… нужно просто не дать им умереть. Отчаяние – это болезнь, Ратибор. Хуже любой лихорадки. А ты – их единственное лекарство. Твоя усталость заразна. Но и твоя сила тоже. Они впитывают ее, даже когда ты просто молчишь.
Он отпил из кружки. Отвар был горьким, но согревающим.
– Ты веришь в то, что говорила? Про холодное солнце и злых духов?
Она кивнула.
– Я не верю. Я знаю. Так же, как ты знаешь, с какой стороны браться за меч. Мир не состоит только из того, что можно потрогать. За каждой корягой, за каждым камнем есть дух. И мы сейчас идем по их владениям.
– И что нам делать? Молиться? Приносить жертвы? – в его голосе прозвучал скепсис.
– Делать то, что делаем, – спокойно ответила она. – Идти вперед. Но идти с уважением. Не как хозяева. А как гости, просящие о приюте. Сила не всегда в громком крике и остром мече, Ратибор. Иногда самая большая сила – в тихом слове, сказанном вовремя.
Он допил отвар. Пустота внутри не ушла, но она перестала быть такой звенящей. Разговор с ней был похож на глоток холодной воды в зной. Не утолял жажду полностью, но давал сил идти дальше.
Он посмотрел на нее. На ее серьезное, сосредоточенное лицо, на отблески огня в темных волосах. Она была так же молода, как и он. И на ее плечах лежал не меньший груз. Она несла души этих людей, пока он нес их тела.
– Спасибо, – сказал он просто.
– Спи, вождь, – ответила она и ушла так же тихо, как и появилась, растворившись в тенях.
Он остался один. Но теперь он чувствовал себя не так одиноко. Вой волков вдалеке все так же наводил тоску. Но сейчас ему казалось, что это просто песня. Песня долгой дороги, у которой обязательно должен быть конец.
Глава 12. Хлеб и Меч
Голод – это не просто пустота в желудке. Это червь, который заводится в душе. Он точит изнутри, съедает твою человечность, оставляя только голую, звериную потребность – жрать. И этот червь начал просыпаться в людях Ратибора.
Они остановились на короткий полуденный привал. Солнце стояло в зените, и даже речная прохлада не спасала от душного марева. Рогнеда делила дневной паек: по куску вяленого мяса, твердого, как дерево, и по краюхе серого, кисловатого хлеба на каждого. Это была не еда. Это было топливо, чтобы заставить мышцы работать, чтобы грести до следующей стоянки.
Горазд, молодой дружинник, пышущий здоровьем и силой, получил свою долю и тут же проглотил ее. Его вечно голодный организм требовал еще. Его взгляд упал на краюху Верена. Верен был не таким могучим, ел медленно, откусывая маленькими кусочками, растягивая скудное удовольствие. А его краюха, как показалось Горазду, была чуть больше. Совсем на малость, на один укус. Но червю голода этого было достаточно.
– А тебе не жирно ли будет? – прорычал Горазд, кивая на хлеб.
Верен вздрогнул и посмотрел на него непонимающе.
– В смысле?
– В том смысле, что гребем мы одинаково, а жратвы тебе отвалили больше, – Горазд ткнул пальцем. – Делись.
Верен прижал краюху к груди, как драгоценность.
– Рогнеда делила. Всем поровну.
– Я говорю, делись, – Горазд шагнул к нему, его глаза сузились. В них уже не было товарищества. Только голодный блеск.
– Не тронь! – взвизгнул Верен, вскакивая.
– А то что? Ударишь меня? Попробуй!
Они стояли друг напротив друга, напряженные, как два пса над одной костью. Еще мгновение, и в ход пошли бы кулаки, а может, и ножи. Люди вокруг замерли, наблюдая за ними с мрачным любопытством. Это была первая трещина. Маленькая, но она могла расколоть их всех. Потому что сегодня они сцепились за хлеб. Завтра – за глоток воды. А послезавтра начнут убивать друг друга за теплый клочок шкуры.
Ратибор подошел к ним. Он двигался тихо, и они не заметили его, пока он не оказался прямо между ними. Он ничего не сказал. Просто протянул руку и забрал у Верена спорный кусок хлеба. Оба дружинника опешили от такой наглости.
Ратибор спокойно, без спешки, разломил краюху. Но не на две части, а на три. Один кусок, побольше, он протянул Верену. Второй, поменьше, – Горазду. Третий, самый маленький, размером с пол-ладони, он оставил себе.
– На, – сказал он Горазду. – Ты хотел больше. Ты получил больше.
Горазд стоял, красный от злости и стыда, не решаясь взять хлеб.
– А теперь слушайте меня оба, – голос Ратибора был тихим, почти вкрадчивым, но от этой тишины по спинам пробежал мороз. – Еще раз… еще один только раз я увижу, что вы готовы пролить кровь товарища за то, что вас кормит… я сам пущу вам кровь.
Он вытащил из-за пояса нож, тот самый, которым так легко делил хлеб.
– Я вскрою тебе вену, Горазд. И тебе, Верен. Не для того, чтобы наказать. А просто чтобы вы оба, глядя, как ваша жизнь утекает в песок, вспомнили ее настоящую цену. Может, тогда вы поймете, что она стоит немного больше, чем лишний кусок хлеба.
Он обвел взглядом всех, кто стоял вокруг.
– Мы кто здесь? Мужики на ярмарке, бабу не поделившие? Или пьяные смерды, в кабаке глотки друг другу рвущие? – он сделал паузу, и его голос налился сталью. – Нет. Мы – стая, у которой отняли лес. Понимаете вы это? Стая! Волки не грызутся из-за куска мяса, когда вокруг охотники. Они жрут молча и быстро, чтобы набраться сил и уйти. Потому что знают: поодиночке их всех перестреляют. Либо мы держимся вместе, одним кулаком, одной глоткой, одним клыком… либо нас поодиночке дорежут падальщики, и наши кости будет обгладывать то воронье, что сейчас кружит над руинами нашего дома. Вы поняли меня?
Горазд и Верен молча, не глядя друг на друга, кивнули.
– Тогда жрите, – бросил Ратибор и отошел.
Он сел поодаль, прислонившись к стволу дерева, и съел свой маленький кусочек. Он чувствовал на себе тяжелый, внимательный взгляд Рогнеды. Она не вмешивалась. Она наблюдала. И он знал, о чем она думает.
"Ты думаешь, власть – это право отдавать приказы? – размышлял он, медленно пережевывая жесткий хлеб. – Нет. Власть – это ремесло. Такое же, как у кузнеца. Ты берешь разнородные куски железа – людей. Их страхи, их жадность, их слабости, их силу. Ты бросаешь их в горн общей беды. Раскаляешь докрасна. А потом бьешь. Раз за разом. Безжалостно. Молотом своей воли. Ты отсекаешь все лишнее, сплющиваешь, вытягиваешь. Снова суешь в огонь. Снова бьешь. И если ты все делаешь правильно, если твой молот точен, а рука тверда, то в конце… В конце у тебя получается не просто куча людей. А клинок. Единый, цельный клинок, способный разить. Сегодня я нанес первый удар. Впереди их будут сотни. И никто не знает, что получится в итоге: острый меч или кусок кривого, ни на что не годного железа".
Он доел свой хлеб. И впервые за долгое время не почувствовал голода. Пустоту в желудке заполнила тяжесть власти. И она была куда сытнее любого хлеба.
Глава 13. Тихий Голос Светланы
Вечер опустился на берег, принеся с собой прохладу и комариный звон. Костер горел уже ярче, отгоняя мрак и тварей, что в нем таились. Люди жались к огню, их тихие разговоры были похожи на шелест сухой листвы. День был тяжелым. Стычка из-за хлеба оставила после себя неприятный осадок – напоминание о том, как тонка грань, отделяющая их от звериного состояния.
Ратибор не сидел у костра. Он ушел к самой воде, туда, где река слизывала песок с берега. Он сидел на вымытом из земли корне старой сосны, положив меч рядом с собой, и смотрел на черную, текучую гладь. Вода отражала первые звезды. Красиво. И безразлично. Эта красота была чужой, и оттого казалась почти оскорбительной.
Он не ел свою вечернюю долю. Кусок мяса лежал рядом, нетронутый. Он не чувствовал голода. Его внутренности скрутило в тугой узел из ярости, горя и тяжести, которая, казалось, весила больше, чем все их лодки вместе взятые.
Он не услышал, как она подошла. Она всегда двигалась тихо, как тень. Светлана. Она опустилась рядом и протянула ему дымящуюся деревянную чашку.
– Выпей. Горячее.
Он посмотрел на чашку, потом на нее. Ее лицо в сумерках казалось бледным и тонким, как береста. Огромные глаза смотрели с тревогой и какой-то несгибаемой нежностью.
– Я не хочу, – ответил он. Его голос прозвучал глухо, как будто шел со дна колодца.
– Ты почти не ешь, – тихо сказала она, не убирая руки. – И я знаю, что ты не спишь по ночам. Я слышу, как ты ходишь между спящими.
– Кто-то должен не спать.
– Не так, – мягко возразила она. – Дозорный не спит, чтобы видеть врага. А ты не спишь, потому что смотришь внутрь себя. И враг, которого ты там видишь, страшнее любого печенега. Он съедает тебя изнутри. Твоя боль не накормит наших детей, Ратибор. А твоя усталость не станет для них щитом.
Он отвернулся, снова уставившись на воду.
– Мой голод – это мой голод, Света. Моя боль – это моя плата. За отца. За всех, кто погиб. За то, что я жив, а они – нет. Это справедливо.
Она помолчала, а потом села совсем рядом, так, что ее плечо коснулось его плеча. Легкое, почти невесомое прикосновение. Но в нем было больше тепла, чем во всем их костре.
– Нет, – ее голос был тихим, но в нем не было ни капли сомнения. – Ты ошибаешься. Ты думаешь, что твоя боль принадлежит только тебе. Но ты уже не принадлежишь себе, Ратибор. Ни одна твоя частица. Твоя боль – это наша общая рана, которая кровоточит и не дает нам покоя. Твой голод – это наш страх, потому что они смотрят на тебя.
Она обвела взглядом темные силуэты людей у костра.
– Ты думаешь, они слепы? Они видят все. Они видят, как ты не ешь, и их собственная еда становится горькой во рту. Они видят твои ввалившиеся глаза, и их собственный сон становится тревожным. Ты их знамя, Ратибор. Их стяг. И если стяг опущен, войско теряет волю к битве. Если ты упадешь, они не поднимутся. Они просто лягут рядом и будут ждать смерти.
Он молчал. Ее слова были простыми, но они попадали точно в цель. Туда, куда не доставала ни прямолинейная жесткость Рогнеды, ни мистическая мудрость Заряны. Она говорила не с вождем. Она говорила с человеком.
"Ведь в этом и заключается самая изощренная пытка власти, не так ли? – думал он, чувствуя, как узел внутри начинает медленно развязываться. – Тебе даже не принадлежит твое собственное горе. Ты не имеешь права на слабость, потому что твоя слабость становится слабостью сотен. Ты должен быть сильным не для себя. Ты должен быть скалой, в которую они могут вцепиться, когда их уносит течением. И никого не волнует, что эта скала тоже состоит из песка и боли, и что она сама едва держится, чтобы не рассыпаться".
– Пожалуйста… – прошептала Светлана. – Выпей. Не ради себя. Ради них. Ради той надежды, которую ты сам же в них зажег вчера.
Он медленно повернул голову и посмотрел на нее. В ее глазах блестели непролитые слезы. Не по себе. По нему. И эта молчаливая жалость была сильнее любого приказа.
Он протянул руку и взял чашку. Она была теплой, живой. Он поднес ее к губам.
Отвар пах домом.
Не тем пепелищем, которое они оставили позади. А настоящим домом. Чабрецом, мятой, дымком очага. Тем миром, где не было ни крови, ни предательства. Миром, которого больше никогда не будет.
Он сделал глоток. Горячая, горьковатая жидкость обожгла горло и потекла вниз, согревая его изнутри. Он сделал еще глоток. И еще. И с каждым глотком ледяной панцирь, сковавший его душу, давал еще одну трещинку. Боль не ушла. Но она перестала быть удушающей.
Он допил отвар до дна и протянул ей пустую чашку.
– Спасибо.
Больше он ничего не сказал. Но она все поняла. Она забрала чашку, легко коснулась его руки на прощание и ушла обратно к костру, оставив его одного.
Он еще немного посидел у воды. А потом встал, подобрал нетронутый кусок мяса и пошел к огню. Он сел в круг, среди своих людей. И начал есть. Медленно, заставляя себя.
И люди, видевшие это, незаметно выпрямили спины. Их вождь был с ними. А значит, завтра снова будет рассвет.
Глава 14. Шрамы
Ночь была глубокой и чернильной. Луны не было, и только россыпь холодных, безразличных звезд глядела с высоты на их маленький костер, затерянный в бесконечном лесу. Большинство людей спали, сгрудившись вместе для тепла и покоя, которого почти не было. Сон был не отдыхом, а лишь короткой передышкой в долгой битве за выживание.
Ратибор сидел чуть поодаль, у самого края круга света. Он снял пропахшую дымом и потом рубаху, обнажив торс. Воздух был прохладным и влажным, по коже пробежали мурашки. Он осторожно, морщась, отлепил старую повязку с плеча. Тряпка, пропитанная травяным отваром Светланы, присохла к ране. Под ней, на месте глубокого пореза от печенежской сабли, кожа начала стягиваться, образуя уродливый, багровый рубец.
Рана заживала. Плоть, какой бы израненной она ни была, обладает удивительным упрямством. Она стремится к целостности, затягивает сама себя, срастается, пусть и криво, и неумело. Светлана каждый вечер промывала ее и прикладывала свежие листья подорожника, что-то шепча себе под нос. Ее забота и целительная сила земли делали свое дело. Боль становилась тупее, превращаясь из острого, режущего крика в постоянное, ноющее напоминание.
Он коснулся рубца пальцами. Кожа здесь была другой – твердой, нечувствительной, мертвой. Но под ней, в глубине мышц, продолжало жить эхо того удара. Каждое резкое движение веслом, каждый раз, когда он неловко поворачивался во сне, рана отзывалась вспышкой боли. Не такой, как в первую ночь. Другой. Она будто говорила: «Я здесь. Я часть тебя. Не забывай».
Он смотрел на этот рваный узор на своей коже, и мысли текли медленно, как река, на берегу которой они сидели.
"Странно, – подумал он, и этот внутренний диалог с невидимым собеседником стал уже привычкой, единственным способом не сойти с ума от молчания и ответственности. – Как по-разному заживают раны. Вот эта, на плече, – он снова провел по шраму, – она поболит еще неделю, может, месяц. А потом? Потом она станет просто узором на коже. Просто отметиной. Я буду знать, что она есть. Буду помнить, как получил ее, буду помнить лязг стали и крик того кочевника, которого я убил секундой позже. Я буду помнить боль, но я перестану ее чувствовать. Она превратится в историю, в сказку, которую можно будет когда-нибудь рассказать сыну у костра. Шрамы на теле со временем становятся просто картой твоих битв. И ты смотришь на эту карту без содрогания. Иногда даже с какой-то извращенной гордостью".
Он опустил руку и невольно коснулся груди, там, где под кожей билось сердце.
"А вот раны, которые внутри… те, что оставляют не кривые сабли, а глаза предателя, что наносят не сталью, а словами или их отсутствием… Они совсем другие. Они не затягиваются. У них нет кожи, которая могла бы стянуться и загрубеть. Они не превращаются в шрамы. Они кровоточат всегда. Поначалу – сильно, заливая все твое нутро горячей, липкой болью. Ты задыхаешься в ней. А потом… потом кровь густеет. Рана не закрывается. Она просто перестает сочиться наружу".
Он прикрыл глаза. И увидел лицо отца. Его удивленно-страдальческий взгляд в тот момент, когда копья вошли ему в спину. Увидел ухмылку Всеслава. Увидел лица мертвых детей на капище. Эти образы не тускнели. Они не становились просто «историей».
"Эти внутренние раны, – продолжил он свой беззвучный разговор, – они не заживают. Они врастают в тебя. Они становятся частью твоей крови, частью твоего дыхания. Они меняют твой взгляд, делают твой голос тверже, а сердце – холоднее. Они не затягиваются. Они просто становятся тобой. И в один день ты просыпаешься и понимаешь, что больше не помнишь себя прежнего. Того парня, что смеялся на празднике Купалы. Он умер. И на его месте стоишь ты. Человек, слепленный из шрамов. Внешних и внутренних. И весь остаток твоей жизни – это просто попытка удержать эту израненную, кое-как сшитую оболочку от того, чтобы она не расползлась по швам при первом же неосторожном движении".
Он вздохнул, открыл глаза и снова посмотрел на реку. Светлана подошла и молча протянула ему чистую тряпицу и плошку с заживляющей мазью. Он кивнул в знак благодарности и начал осторожно наносить пахучую зеленую массу на рубец.
Нужно было лечить рану на теле.
Потому что только сильное тело могло вынести вес души, которая никогда уже не заживет.
Глава 15. Последний Выдох Старого Мира
Это началось тихо. Незаметно. С сухого, надсадного кашля.
Старик Миролюб, бывший некогда знатным гончаром, чьими корчагами гордилось все городище, кашлял уже несколько дней. Поначалу никто не обращал внимания. Сырость ночей, холодная речная вода – мало ли причин для кашля. Но потом кашель стал глубже, будто шел из самых корней его высохшего тела. К нему прибавилась лихорадка.
Ночью у костра его трясло, несмотря на то, что он кутался в овчинный тулуп. Его глаза, обычно ясные и лукавые, затянуло мутной пленкой, он начал заговариваться. Бормотал что-то о своей гончарной печи, о глине, о внуке, который погиб на празднике Купалы. Он возвращался в свой мир, в тот, которого больше не было.
Заряна не отходила от него. Она поила его горячими отварами, которые горько пахли корой и болотом, обтирала его горячий лоб мокрой тряпкой. Она делала все, что могла. Но с каждым часом ее лицо становилось все мрачнее. Она боролась не с болезнью. Она боролась со слабостью, которая пустила корни в измученном теле старика. А эта битва почти всегда проиграна заранее.
В последнюю ночь он затих. Перестал метаться и бредить. Он просто лежал, глядя невидящими глазами на звезды. Его дыхание стало тихим, поверхностным, как рябь на воде перед штилем. Ратибор сидел поодаль, наблюдая за этой молчаливой борьбой. Он видел смерть в бою. Внезапную, яростную, кровавую. Такую смерть можно было понять. Уважать. Но эта… эта была другой. Тихой. Ползучей. Не героической. Она не приходила с врагом. Она рождалась внутри. От усталости. От горя. От нежелания жить дальше.
"Можно выстоять против меча, – думал Ратибор, глядя на пергаментное лицо старика. – Можно укрыться от стрелы за щитом. Но как защититься от врага, который сидит в твоей собственной крови? От тоски, которая высасывает из тебя волю к жизни медленнее и вернее любого яда? Мы сражаемся не с Всеславом. Мы сражаемся с прошлым. И оно убивает нас. Одного за другим. Без единого удара".
Когда первые робкие лучи рассвета окрасили небо в цвет разбавленной крови, Миролюб сделал свой последний, едва слышный выдох. Он не умер. Он просто… кончился. Как догорает лучина. Его старое сердце, измученное бегством и горем, устало биться.
Заряна коснулась его век и закрыла ему глаза. Потом выпрямилась и посмотрела на Ратибора. В ее взгляде не было ни жалости, ни скорби. Только тяжелое, глухое знание.
– Его душа ушла, – сказала она.
Ратибор подошел и встал над телом. Оно казалось невероятно маленьким и легким, будто из него ушло нечто большее, чем просто жизнь. Лицо старика стало спокойным. Морщины, вырезанные годами и последними днями страданий, разгладились. Теперь оно походило на высохшую, потрескавшуюся кору старого дерева.
Все звуки утреннего лагеря – потрескивание костра, тихий плеск реки, сонный гомон просыпающихся людей – внезапно смолкли. Все смотрели на мертвого старика.
Их первая потеря.
Не от вражеского меча. Не от дикого зверя. А от дороги. От самой жизни, которая стала непосильной ношей. И эта смерть была страшнее. Потому что она показывала им не силу врага, а их собственную уязвимость. Она была зеркалом, в котором каждый увидел свою возможную судьбу. Умереть вот так, в глуши, на чужом берегу, не оставив после себя даже могильного холмика.
Дочь Миролюба, уже немолодая женщина с лицом, изрезанным морщинами скорби, хотела было заголосить, завести погребальный плач. Но Заряна мягко взяла ее за руку.
– Не надо, – прошептала она. – Не тревожь духов этого места. Он уже на пути в Навь. Наши крики не помогут, а лишь привлекут беду.
Ратибор смотрел на старика. На его скрюченные, мозолистые пальцы, которые еще неделю назад могли сотворить из бесформенного куска глины чудо. На его впалые щеки. И одна простая, оглушающая мысль ударила ему в голову.
"Он не увидит нового дома".
Он, Ратибор, обещал им новый дом. Обещал месть. Обещал будущее. Он зажег в них огонь, заставил идти за собой в эту безнадежную даль. А этот старик просто не дошел. Его огонь погас.
И эта простая мысль была тяжелее любого валуна. Тяжелее ответственности. Тяжелее мести. Потому что она была окончательной.
Он впервые по-настоящему осознал цену своей клятвы. Ценой были не его собственные страдания. Ценой были вот такие тихие смерти. Жизни, оборвавшиеся в пути. Души, которые он повел за собой, но не смог довести.
Каждая такая смерть, понял он в ту минуту, будет ложиться камнем на его собственную душу. И к концу пути, если он вообще будет, он придет, неся на себе целое кладбище.
Он отвернулся от мертвеца и посмотрел на своих людей. На их испуганные, подавленные лица.
– Соберите все сухое дерево, какое найдете, – приказал он. Голос его прозвучал глухо и ровно, без единой нотки скорби. Он не имел на нее права. – Мы должны проводить его с честью. Как воина. Потому что до последнего дня он шел вместе с нами.
Миролюб не был воином. Но его последняя битва была тяжелее многих. Битва, которую он проиграл.
И его смерть стала первым камнем, который Ратибору пришлось взвалить на свои плечи.
Глава 16. Плот для Души
Они не могли вырыть могилу. Земля здесь была чужая, недружелюбная. Предать ей тело – значило отдать его на поругание чужим духам, оставить душу неприкаянно скитаться вдали от предков. Оставалось два пути, которыми уходили их пращуры: огонь и вода. Ратибор решил соединить их.
Пока женщины обмывали тело Миролюба речной водой и заворачивали его в единственную чистую холстину, что нашлась у них, мужчины сколачивали плот. Небольшой, из нескольких связанных вместе бревен, которые выбросило на берег. Работа шла в тишине. Стук топора звучал глухо, будто сама река и лес приглушали его, отдавая дань уважения усопшему. Никто не поторапливал друг друга. Этот труд был не обязанностью, а ритуалом. Последней данью, которую они могли отдать товарищу по несчастью.
Когда плот был готов, тело старика бережно перенесли на него. Дочь его, уже выплакавшая все слезы и теперь окаменевшая в своем горе, положила ему на грудь маленький глиняный оберег – все, что осталось от его ремесла. Другие клали рядом скромные дары для долгого пути души: сушеную рыбу, краюху хлеба. Эти жесты были так же необходимы живым, как и мертвым. Они утверждали порядок вещей в мире, где всякий порядок, казалось, рухнул.
Плот укрыли лапником – зелеными, пахучими ветвями ели. Это была его последняя ладья и его последнее одеяло.
Заряна подошла к воде. Она сняла свои немногочисленные украшения, распустила длинные темные волосы по плечам. Ее лицо было отрешенным, строгим. Она смотрела не на людей, не на плот. Она смотрела сквозь все это, в суть вещей, туда, где мир живых соприкасается с миром мертвых.
– Великая Река, Матушка Вода, – начала она свой тихий, нараспев, речитатив. Ее голос тек, как само речное течение. – Ты, что поишь живых и принимаешь мертвых. Ты, что течешь из Яви в Навь, связуя миры. Прими раба божьего Миролюба, сына Радима. Он окончил свой земной путь. Был он добрым мужем, отцом и мастером.
Она зачерпнула пригоршню воды и окропила плот.
– Отнеси его душу в луга Велесовы, где нет ни скорби, ни печали. Не дай ей заплутать в темных омутах, не дай русалкам утянуть ее в свое царство. Пусть плывет он легко, как лебяжий пух по ветру. От нашего мира – в мир отцов. От нашего огня – к вечному огню Сварога.
Она сделала знак Ратибору. Тот подошел, держа в руке зажженный факел. Огонь плясал на ветру, бросая трепещущие отсветы на окаменевшие лица людей. Ратибор на мгновение замер, глядя на спокойное, умиротворенное лицо старика.
"Что мы делаем сейчас? – спросил он своего невидимого собеседника, пока его рука с факелом оставалась неподвижной. – Мы сжигаем тело, чтобы душа освободилась. Так нас учили. А что, если души нет? Что, если все, что есть, – это плоть, которая гниет, и память, которая со временем тускнеет и умирает вместе с последним, кто тебя помнил? Что, если весь этот обряд – это просто сказка, которую мы рассказываем самим себе, чтобы не сойти с ума от ужаса небытия? Может, мы сжигаем его не для него. А для себя. Чтобы превратить уродливый факт смерти во что-то… осмысленное. Чтобы поверить, что его путешествие не закончилось. Оно просто перешло на другую реку".
Он решительно шагнул вперед и коснулся факелом сухого лапника.
Огонь занялся нехотя. Сырые ветки дымили, шипели, сопротивлялись. Казалось, плоть мира не хотела отпускать своего собрата. Пламя было слабым, трепещущим, будто сама жизнь старика, до последнего цеплявшаяся за ускользающее тепло. Но потом огонь нашел сухое дерево, набрал силу и взметнулся вверх с низким гулом.
Двое дружинников осторожно столкнули погребальный плот на воду. Течение подхватило его и медленно понесло прочь от берега.
Все молчали. Стояли на берегу – маленькая горстка людей в чужой земле, провожающая в последнее плавание первый осколок своего мира. Они смотрели, как маленький костер плывет по черной воде, как огненные блики пляшут на волнах, как темный дым уходит в серое, безразличное небо.
– Мы не можем их хоронить, – тихо сказала Заряна, встав рядом с Ратибором. Ее голос был полон не скорби, а древней, непреложной мудрости. – У этой земли еще нет наших могил. Она чужая. Она не примет наших мертвецов, как не примет чужое семя. Пусть река несет его туда, на юг. Пусть несет его к истокам, где земля наша, где лежат его предки. Пусть он будет среди своих.
Ратибор кивнул, не отрывая взгляда от удаляющегося огня. Он понимал. Похоронить его здесь – значило бы признать это место своим последним пристанищем, признать поражение. А отправив его по реке, они словно давали обещание. И ему, и самим себе. Что его путешествие домой началось. И однажды они тоже вернутся.
Они долго стояли и смотрели. Смотрели, как их маленький погребальный костер, их первая потеря, их горькая жертва этой реке, огибает поворот и исчезает. И после этого на реке не осталось ничего. Только черная вода. И тяжелая, вязкая тишина.
Глава 17. Тяжесть Молчания
Пылающий плот скрылся за поворотом реки, но его невидимое присутствие осталось с ними. Что-то изменилось. Воздух стал плотнее, тяжелее. Слова, которые еще вчера были спасением, утешением, теперь казались пустыми и неуместными. Смерть Миролюба повесила на их маленькую флотилию замок молчания.
Люди снова заняли свои места в лодках и налегли на весла, но это было уже другое движение. Механическое, лишенное той упрямой злости, что двигала ими раньше. Смех, даже самый горький, исчез. Мужчины не перебрасывались шутками, женщины не перешептывались. Даже дети, казалось, поняли всю тяжесть момента и притихли, жаясь к матерям. Единственными звуками были скрип уключин, плеск весел и монотонный шелест воды под днищем лодок.
Молчание – странная штука. Бывает молчание уютное, когда близким людям не нужны слова. Бывает молчание почтительное, как в святом месте. А бывает – вот такое. Вязкое. Липкое. Молчание, в котором громче любого крика звучат невысказанные мысли. И эти мысли были у всех одни и те же.
Каждый теперь смотрел на своих спутников иначе. Не как на товарищей по несчастью, а как… на будущих покойников. Незаметный, украдкой брошенный взгляд на соседа: не слишком ли он бледен? Не кашляет ли? Каждый прислушивался к собственному телу, ища признаки неведомой хвори, которая сгубила старика. Малейшее першение в горле, внезапный озноб – все это приобретало зловещий смысл.
Страх. Вот что стало их новым, невидимым пассажиром. Он сидел в каждой лодке, холодный и неотступный. Не тот яростный страх боя, который заставляет кровь быстрее бежать по жилам. А другой, тихий, ползучий. Страх собственной слабости. Страх перед тем, что твое тело может предать тебя в любой момент, просто устав жить. Страх умереть вот так же – тихо, безвестно, на чужбине.
"Забавно, – Ратибор сидел на своем обычном месте, и тяжесть этого молчания давила на него, кажется, сильнее, чем на всех остальных. – Когда враг стоит перед тобой, ты можешь с ним драться. Ты видишь его глаза, ты слышишь его крик. Он реален. И твой страх перед ним тоже реален, он делает твою руку тверже, а удар – быстрее. Но как драться с призраком? С тем, чего нет? С болезнью, что прячется в крови, с усталостью, что гнездится в костях? Как драться со страхом, который сидит в голове у каждого твоего человека? Он смотрит на тебя их глазами. Он говорит их молчанием".
Он перехватил взгляд Горазда. Молодой дружинник, который еще вчера был готов драться за лишнюю краюху хлеба, теперь выглядел подавленным. Он греб молча, опустив голову. В нем больше не было огня. Смерть старика испугала его больше, чем любая битва. Он увидел в ней не доблесть и не славу, а просто унизительный конец. Бессмысленный.
К Ратибору подошла Рогнеда, села рядом. Ее лицо, как всегда, было непроницаемым, но в глазах плескалась тревога.
– Они сломаются, – сказала она почти беззвучно, так, чтобы слышал только он. – Еще одна такая смерть, еще неделя такой дороги, и они просто перестанут грести. Сядут и будут ждать, пока река не вынесет их в болото или пока их не найдут волки. Я вижу это в их глазах. Веревка натянута до предела.
Ратибор посмотрел на нее. На ее крепко сжатые губы, на напряженную линию плеч.
– А ты? – спросил он так же тихо. – Ты не сломаешься?
Она на мгновение прикрыла глаза, и на ее лице промелькнула тень смертельной усталости. Но это было лишь мгновение.
– Я сломаюсь последней, – отрезала она. – Сразу после тебя.
Он понял. Она держалась, потому что держался он. А он держался, потому что должен был. Замкнутый круг.
– Слова здесь не помогут, – продолжила она, будто прочитав его мысли. – Ты не сможешь их заговорить, как вчера. Смерть – это не голод. Ее не обманешь обещаниями.
Он кивнул, соглашаясь.
– Нет. Слова бессильны. Поможет только дорога.
– Дорога? – она не поняла. – Она их и убивает.
– Она их и спасет, – возразил Ратибор, глядя вперед, на бесконечную серую ленту реки. – Пока они гребут, пока они двигаются, они живы. Движение – это жизнь. Каждое утро, просыпаясь, они должны видеть не безнадежность, а новый поворот реки. Каждую ночь, засыпая, они должны чувствовать усталость в мышцах, а не холод отчаяния в душе. Я не могу забрать у них страх смерти. Но я могу дать им цель. Простую и понятную. Добраться до следующей стоянки. Пережить еще один день. А потом еще один.
Он посмотрел на свои руки. На мозоли, которые уже начали появляться от весла.
"Ты не можешь вести их в светлое будущее, когда вокруг непроглядная тьма, – сказал он себе. – Это ложь, и они это почувствуют. Но ты можешь стать для них фонарем. Маленьким, тусклым. Таким, что освещает лишь два шага впереди. И они пойдут за этим маленьким пятном света. Шаг за шагом. Не видя, что впереди – пропасть или равнина. Но они будут идти. Потому что даже самый слабый свет лучше, чем полная тьма".
Он не стал никого подгонять, не стал произносить речей. Он просто греб. Ровно, мощно, неустанно. Задавая ритм. И люди, глядя на его напряженную спину, на его уверенные, отмеренные движения, тоже гребли. Они не знали, куда и зачем. Они просто доверяли ритму, который задавал их вождь.
Их молчание не прервалось. Но оно изменило свой оттенок. Это больше не была тишина отчаяния.
Это стала тяжелая, сосредоточенная тишина долгой, трудной работы.
И это было все, на что он мог сейчас надеяться.
Глава 18. Каменный Голос Реки
Они услышали этот звук задолго до того, как увидели его причину. Сначала это был лишь далекий, едва различимый гул, похожий на дыхание спящего гиганта. Но с каждым ударом весел он становился громче, настойчивее. Он перерастал в низкий, утробный рев, от которого, казалось, вибрировал сам воздух. Вода под их лодками стала быстрее, появились завихрения и водовороты, тянувшие весла в стороны.
А потом они увидели.
Река, до этого широкая и ленивая, внезапно взбесилась. Ее русло сузилось, зажатое с обеих сторон высокими, поросшими мхом скалами. Она превратилась в бурлящий, пенящийся поток. Впереди, насколько хватало глаз, вода кипела на камнях. Огромные, скользкие, мокрые валуны торчали из потока, как зубы чудовищного зверя. Вода с ревом билась о них, вздымаясь белыми гребнями пены, и устремлялась дальше, в узкое, опасное ущелье. Пороги.
Гребцы инстинктивно замедлили ход. Даже самые опытные воины, не раз ходившие по рекам, смотрели на это зрелище с суеверным ужасом. Пройти здесь на их груженых, неповоротливых лодках казалось чистым безумием.
Ратибор вглядывался вперед, прищурив глаза. Его разум воина уже просчитывал варианты. Пройти по главному руслу? Смерть. Попытаться провести лодки у самого берега? Там камней было меньше, но течение сильнее прижимало к скалам. Разбить одну лодку здесь – значило потерять не только треть припасов, но и людей, которые не смогли бы выплыть в этом кипящем котле. Оставалось одно. Вытаскивать лодки на берег и тащить их волоком.
– К берегу! – скомандовал он. – Будем обносить.
Лодки медленно пошли к левому берегу, где склон был более пологим.
Но Заряна вдруг поднялась со своего места. Она подошла к Ратибору и положила ему руку на плечо, заставляя обернуться. Ее лицо было бледным, глаза – темными и очень серьезными.
– Не пойдем, – сказала она. Голос ее был тихим, но в нем звучала непреклонная уверенность.
Ратибор посмотрел на нее непонимающе.
– Что значит "не пойдем"? Ты видишь, что впереди? Мы не пройдем здесь, Заряна. Будем тащить по берегу.
– Не пойдем, – повторила она. – Ни по воде, ни по берегу. Не сейчас. Она гневается.
В ее словах было что-то, от чего по спине пробежал холодок. Она говорила о реке не как о воде, а как о живом, разгневанном существе.
Тут вмешался старый Боривой, чьи руки были покрыты мозолями от сотен таких вот переправ.
– У нас нет времени на сказки, жрица! – прорычал он. Он был хорошим воином, но человеком простым и не верил ни во что, чего нельзя было потрогать или ударить мечом. – Река – она и есть река. А камни – камни. Обносить по этому берегу будем неделю! Лес густой, бурелом. А у нас ни сил, ни еды на неделю лишнюю! Нужно идти сейчас!
Заряна медленно повернула голову и посмотрела на старого воина. И этот взгляд был тяжелее удара. В нем не было злости. В нем было знание и ледяное сожаление.
– Тогда вы будете тащить лодки по костям тех, кто ослушается, – ее голос оставался тихим, но каждое слово падало, как камень в воду. – И по своим собственным, Боривой. Хозяин этого места не в настроении принимать гостей. Ни на своей спине, ни на своем пороге.
"И вот оно, – подумал Ратибор, глядя то на упрямое, покрытое шрамами лицо воина, то на отрешенное лицо жрицы. – Вот он, вечный спор. Спор меча и молитвы. Спор разума, который видит лишь камни и воду, и споp духа, который видит за ними гнев и волю. И кому верить, когда на кону стоят жизни твоих людей? Здравому смыслу, который говорит, что нужно идти, превозмогая трудности? Или этому тихому, иррациональному голосу, который предупреждает о невидимой опасности?"
Он смотрел в глаза Заряны. И он видел в них не фанатизм. Он видел там абсолютную, пугающую уверенность. Она не верила. Она знала.
– Ратибор, остановись. Прошу, – сказала она, уже обращаясь только к нему. И в ее голосе прозвучала почти человеческая мольба.
Он оглядел своих людей. Они смотрели на него. Ждали. Его слово было решающим. Слово вождя.
Он посмотрел на кипящую воду. На темную, недружелюбную стену леса. Вспомнил тихую смерть Миролюба. Он уже один раз пошел против невидимой силы и проиграл. Может, стоит хотя бы раз прислушаться?
– Пристаем к берегу, – громко сказал он. – Здесь. Разобьем лагерь. Переждем.
Боривой сплюнул в воду, но промолчал. Другие воины недовольно заворчали. Они не понимали. Ждать? Чего ждать? Пока река "успокоится"? Это казалось им бабьими предрассудками, пустой тратой драгоценного времени.
Но они подчинились.
Они вытащили лодки на берег, прямо перед началом порогов. Разбили лагерь. Недовольство висело в воздухе, густое, как дым от сырых дров. Люди не понимали этого решения.
Ратибор и сам не до конца его понимал. Он просто сделал ставку. Не на разум. А на то непонятное, древнее знание, что светилось в глазах молодой жрицы. И он молился про себя всем богам, которых почти перестал признавать, чтобы эта ставка не оказалась проигрышной. Потому что ценой проигрыша были они все.
Глава 19. Разговор с Водой
Лагерь разбили в тягостном молчании. Мужики хмуро рубили дрова, женщины раскладывали скудные пожитки, бросая косые, испуганные взгляды то на ревущую воду, то на Заряну. Она сидела у самого берега, спиной к ним, отрешенная, погруженная в свои мысли. Она не принимала участия в общих делах. Она готовилась.
Ратибор видел недовольство, висевшее в воздухе. Боривой и еще несколько дружинников собрались в кружок и что-то тихо, зло обсуждали. Они подчинились его приказу, но не его воле. Они считали его решение слабостью, уступкой бабьим страхам. Он понимал их. Как воин, он и сам думал так же. Но что-то в ледяном спокойствии Заряны заставило его подавить в себе этот прагматичный, воинский голос.
Когда первые вечерние тени начали удлиняться, Заряна встала. Она неторопливо сняла с себя все, что звенело, блестело или было сделано руками человека. Костяной гребень, удерживавший ее волосы, несколько простых медных колечек с пальцев, вышитый пояс. Остался только один, почерневший от времени оберег на кожаном шнурке, спрятанный под рубахой. Она распустила волосы, и они темной, тяжелой волной упали ей на плечи. Босая, в одной длинной холщовой рубахе, она была похожа на лесного духа, а не на девушку из плоти и крови.
И она пошла. Прямо в реку.
Вода была ледяной. Даже стоя на берегу, можно было почувствовать ее студеный холод. Но Заряна вошла в нее без колебаний. Камни под ногами были скользкими, течение сразу же попыталось сбить ее с ног. Но она шла упрямо, шаг за шагом, пока бурлящий, пенящийся поток не дошел ей до пояса. Ее рубаха намокла и облепила тело, делая ее похожей на изваяние, вырезанное из белого камня.
Люди у костра замерли. Даже Боривой прекратил свой ропот. Они смотрели на нее с суеверным ужасом и каким-то первобытным восторгом. Это было безумие. Священное, пугающее безумие.
– Ты что творишь, девка? Замерзнешь! – не выдержал Ратибор. Его крик прозвучал резко и неуместно на фоне рева воды. – Возвращайся!
Она не обернулась. Она даже не вздрогнула, будто его голоса не было. Словно она была одна во всей вселенной, и существовали только она и река.
Она опустила руки в воду, погрузив их по самые локти. Поток с яростью бился о ее тело, но она стояла неподвижно, как скала. Она закрыла глаза. И начала говорить.
Нет, не говорить. Шептать.
Слова были странными, гортанными, чужими. Они не были похожи на язык их племени. Это были древние, первобытные звуки, больше похожие на шум ветра в скалах, на журчание ручья, на треск ломающегося льда. Она не обращалась к богам, которых знали люди. Она говорила напрямую. С водой. С камнями. С тем могучим и древним духом, что обитал в этом месте.
Потом она достала из маленького мешочка, который был у нее на шее, две вещи. Краюху черного хлеба – часть их общего, скудного пайка. И кусок темных, душистых медовых сот, который она, видимо, берегла все это время именно для такого случая. Она не бросила их в воду. Она осторожно, как будто передавая дар живому существу, опустила их в поток и отпустила. Хлеб и мед тут же подхватило течением и унесло в бурлящую пену. Это была треба. Плата за проход.
Она постояла еще немного, опустив голову, будто прислушиваясь к ответу. Затем медленно, осторожно, повернулась и пошла обратно к берегу.
Когда она вышла из воды, ее била крупная дрожь. Зубы стучали. Губы посинели. Но глаза… ее глаза горели странным, лихорадочным огнем. К ней тут же подбежали женщины, закутали ее в сухие шкуры.
Ратибор подошел к ней. Он был зол, напуган, и в то же время им овладело какое-то непонятное чувство, похожее на благоговение.
– Это было безумие, – сказал он хрипло. – Ты могла погибнуть.
Она подняла на него свой горящий взгляд.
– Иногда, чтобы твой народ не погиб, вождю или жрецу нужно поставить на кон свою собственную жизнь. Это тоже плата.
Она глубоко вздохнула, пытаясь унять дрожь.
– Они не злые, Ратибор, – сказала она. В ее голосе звучала огромная усталость и странное умиротворение. – Они просто… другие. Древние. Могучие. Им нет дела до наших бед. И они не любят, когда по их спине ходят без спроса. Как по своей собственной дороге.
Она посмотрела на ревущие пороги.
– Я не приказывала им. Я просила. Сказала, кто мы. Сказала, что идем не с войной, а с горем. Что ищем новый дом, потому что старый сожжен. Попросила пропустить нас. Не как хозяев, а как уставших путников. Думаю, они услышали.
Он молчал, глядя на ее посиневшие губы, на мокрые, прилипшие ко лбу волосы. Затем перевел взгляд на яростную, кипящую воду. Ничего не изменилось. Река все так же ревела, все так же билась о камни. И все же…
Что-то изменилось в нем самом.
В его душе, где после гибели отца остался только холодный пепел безверия, шевельнулся какой-то крошечный, почти неощутимый уголек. Уголек сомнения.
"Что есть мир? – думал он, глядя, как женщины уводят дрожащую Заряну к костру. – Только то, что ты можешь разрубить мечом и взвесить на руке? Или в нем есть что-то еще? Что-то невидимое, но реальное. Сила, с которой можно говорить не на языке стали, а на языке хлеба, меда и собственного страха. Я веду их тела. А она, эта хрупкая девчонка, что сейчас стучит зубами от холода, она ведет их души. И я не знаю, чей путь сейчас важнее. И страшнее".
Впервые за долгое время он усомнился в своем безверии. И это сомнение пугало его едва ли не больше, чем ревущие пороги.
Глава 20. Спор у Костра
Вечер полностью вступил в свои права, укрыв лагерь бархатной тьмой. Единственным живым пятном в этой первобытной ночи был костер. Люди сидели вокруг него, но напряжение, висевшее в воздухе, можно было резать ножом. Заряна, закутанная в шкуры, лежала у самого огня. Ее лихорадило после ледяной речной купели, но она ни на что не жаловалась, лишь отрешенно смотрела на языки пламени.
Настроение в лагере было раздвоенным. Женщины и старики смотрели на жрицу со страхом и благоговением. В их глазах она была той, что посмела говорить с невидимыми силами и осталась жива. Она была их хрупким щитом от мира духов. Мужчины же, особенно дружинники, были настроены скептически. Их мир состоял из мозолей, стали и видимых опасностей. Ритуал Заряны казался им красивым, но бесполезным представлением на фоне вполне реальной проблемы – порогов.
Рогнеда подошла к Ратибору, который сидел чуть поодаль, настраивая тетиву на своем луке. Она не садилась, осталась стоять над ним – фигура, высеченная из камня, в отсветах пламени.
– Молитвы – это хорошо, – начала она без предисловий. Ее голос, как всегда, был резок, как удар топора. Чистый, без трещин сомнения. – Людям нужно во что-то верить, особенно когда они напуганы. Это успокаивает их, как сказка ребенка.
Она сделала паузу, давая ему возможность ответить, но он молчал, продолжая свое дело.
– Но пока Заряна шепталась с водой, – продолжила Рогнеда, и в ее голосе прозвучало плохо скрываемое пренебрежение, – я не сидела сложа руки. Я прошла вдоль берега туда, куда смогла.
Она указала в темноту, в сторону ревущих порогов.
– Лес густой, но проходимый. Бурелом, овраги. Но здесь, – она ткнула ногой в землю, – можно проложить волок. Вырубить просеку. Если все возьмутся за топоры, и женщины, и мужики, мы протащим лодки. Два дня. Может, три. Три дня тяжелой, каторжной работы. Но это надежно. Надежнее, чем сидеть и верить в доброту речного духа, у которого сегодня, может быть, просто дурное настроение.
Она говорила то, что думал и он сам еще несколько часов назад. Логично. Прагматично. Правильно. Так поступил бы любой воевода. Так поступил бы его отец.
Ратибор медленно поднял на нее глаза. Его взгляд был спокойным и очень усталым.
– Ты права, Рогнеда. Твои глаза видят то, что есть. Путь по земле тяжел, но понятен.
Она удовлетворенно кивнула, ожидая приказа начинать готовиться к работе с утра. Но он продолжил, глядя не на нее, а в самое сердце костра, будто видел там что-то еще, недоступное ее взгляду.
– Но и она права. Ее глаза видят то, чего не видим мы. То, что прячется за шумом воды и густотой леса.
– Что она видит? Бабьи страхи! – фыркнула Рогнеда. – Ратибор, мы воины. Мы полагаемся на сталь и силу, а не на шепот и предзнаменования.
И вот тогда он посмотрел на нее. Взгляд был прямой, и в нем была новая, непривычная для нее глубина.
– Нам нужно и то, и другое, Рогнеда. Понимаешь? И то, и другое.
Он отложил лук и поднялся, встав с ней наравне.
– Нам нужно железо твоих воинов, чтобы защитить наши тела от клыков и мечей. Нам нужны твои острые глаза, чтобы видеть путь по земле. Это наша оболочка. Наш панцирь.
Он сделал шаг к огню, протянув к нему руки, будто грея их.
– Но нам нужна и вера Заряны. Чтобы наши души не сгнили от страха в этом панцире. Чтобы в нем было что защищать.
Он повернулся к ней, и его голос стал тише, доверительнее.
– Ты видишь человека? Что ты в нем видишь? Мышцы, кости, кровь. Цель для стрелы. А я за последние дни научился видеть другое. Человек, у которого есть только меч, но нет надежды… он не воин. Он просто кусок мяса, идущий на убой. Он будет драться, да. Но он уже проиграл, потому что не верит в свою победу. А человек, у которого есть только надежда, но нет меча, – он жертва. Беззащитная и глупая. Его надежду растопчут первым же сапогом.
Он подошел к ней совсем близко.
– Мы не можем быть только мясом или только жертвами. Мы должны быть и теми, и другими. Мы будем рубить просеку, как ты и сказала. Будем полагаться на свои топоры и свои мозоли. Но мы сделаем это завтра. Когда река… – он усмехнулся своим словам, – …будет в лучшем настроении. Мы дадим людям эту ночь. Ночь веры в то, что их услышали невидимые силы. Эта вера даст им завтра больше сил, чем лишняя порция еды.
Рогнеда молчала, глядя на него. Она впервые видела его таким. Это был не вспыльчивый юнец, рвущийся в бой. Это не был вождь, отдающий приказы. Это был… кто-то другой. Кто-то, кто научился видеть обе стороны мира одновременно. Видимую и невидимую.
"Ты думаешь, мир прост, – размышлял Ратибор, глядя в ее честные, прямые глаза, в которых отражалось пламя. – Ты делишь его на черное и белое. На врага и друга. На опасность и безопасность. И это делает тебя лучшей из воинов. Но мир не такой. Он как эта река. На поверхности – течение, которое можно просчитать, пороги, которые можно обойти. А в глубине – темные омуты, подводные ключи, своя тайная жизнь. И если ты не будешь чувствовать эту глубину, однажды она утянет тебя на дно, как бы хорошо ты ни владел веслом".
– Хорошо, – сказала наконец Рогнеда. В ее голосе не было согласия, но было уважение. – До завтра. Но если ее духи не помогут, мы будем полагаться только на сталь.
– Договорились, – кивнул Ратибор.
Она ушла. А он остался стоять у огня. Он принял свое самое рискованное решение. Он поставил не на силу и не на веру. Он поставил на их хрупкое, почти невозможное единство. И ждал утра, чтобы узнать, был ли он прав.
Глава 21. Тихая Вода
Ратибор проснулся до рассвета от странного ощущения. Что-то изменилось. Он прислушался. Рев порогов. Он все еще был там, глухой, рокочущий. Но в нем пропала та яростная, истеричная нота, что была вчера. Он стал ниже, спокойнее. Словно разгневанный зверь утомился и теперь просто ворчал в полусне.
Он вышел из своего шалаша. Небо на востоке только начинало светлеть, окрашиваясь в нежные, перламутровые тона. Он подошел к берегу.
Пороги не исчезли. Камни, острые и скользкие, все так же торчали из воды. Но сама вода… она изменилась. Ее уровень, казалось, спал на пол-ладони. Главное русло все еще было бурным, но у самого берега течение стало заметно тише. Вода уже не кипела, а лишь быстро струилась, образуя понятную, читаемую дорожку между самых крупных валунов. Это было все так же опасно. Но теперь это уже не выглядело как верная смерть. Теперь в этом появился шанс.
К нему подошла Рогнеда. Она тоже заметила перемену.
– Ночью в верховьях, видимо, дождей не было, – сказала она, пытаясь найти прагматичное, земное объяснение. – Вода спала. Нам повезло.
– Да, – тихо ответил Ратибор. – Повезло.
Но он смотрел не на воду. Он смотрел на Заряну, которая сидела у догорающего костра, завернувшись в шкуры. Она выглядела измученной, бледной после ночной лихорадки, но в ее глазах было спокойствие. Она ничему не удивлялась. Она просто знала.
Было ли это простым совпадением? Счастливой случайностью? Или вчерашний ритуал действительно что-то изменил? Ответов не было. И это было самое тревожное.
"Ты хочешь верить в то, что мир можно объяснить, не так ли? – говорил он своему внутреннему собеседнику, пока Рогнеда отдавала приказы готовить лодки. – Ты хочешь, чтобы у всего была причина и следствие. Вода спала, потому что не было дождя. Все просто и понятно. Но что, если причина и следствие сложнее? Что, если молитва девушки на берегу может остановить дождь за сто верст отсюда, в верховьях реки? Что тогда? Тогда весь твой понятный мир, построенный на силе мышц и остроте стали, рушится. И ты остаешься один на один с силами, которые ты не можешь ни понять, ни победить. Только… договориться. А это страшно. Это страшнее любой битвы".
– Первую лодку поведу я, – сказал Ратибор. – Боривой, Рогнеда, со мной. Остальные – смотрите. Пойдете по нашему следу.
Это было необходимо. Показать личный пример. И в случае неудачи – погибнуть первым, не увлекая за собой всех остальных.
Первую лодку разгрузили почти полностью. В ней остались только самые опытные гребцы. Они оттолкнулись от берега.
Это был тяжелый путь. Лодку швыряло, разворачивало, било о камни. Вода заливала борта. Мышцы на руках и спинах гребцов вздулись от напряжения. Они не гребли – они боролись. Боролись с течением, выправляя курс, обходя самые опасные валуны. Ратибор на корме работал правящим веслом, и пот заливал ему глаза. Каждая секунда казалась вечностью. Но они прошли. Прошли первый, самый опасный участок.
Когда их лодка вошла в спокойную воду за порогами, с берега, где остались остальные, донесся вздох облегчения, перешедший в радостный, нестройный крик.
За день они переправили всех. Одну за другой, разгружая лодки и перенося поклажу по берегу. Это была адская, изматывающая работа. К вечеру все были без сил, с сорванными руками, но живы. Ни одна лодка не была потеряна. Ни один человек не пострадал. Они победили.
Тем же вечером, когда они разбили лагерь уже на спокойном берегу, к Заряне, сидевшей в стороне, начали подходить люди. Сначала женщины, потом и некоторые из мужиков. Они ничего не говорили. Просто клали перед ней скромные дары – кто-то печеную рыбину, кто-то горсть лесных ягод, кто-то вырезанную из дерева фигурку. Они благодарили ее. Своими нехитрыми способами.
Она принимала все с тем же спокойным, отрешенным видом. Но ее власть в их маленьком племени выросла неизмеримо. Теперь она была не просто жрицей. Она была их заступницей.
Ратибор смотрел на эту сцену со стороны, и его раздирали сложные, противоречивые чувства. Радость от победы. Уважение к мужеству этой девушки. И… тревога. Глубокая, холодная тревога.
Он получил то, что хотел. Его люди обрели веру. Они снова были полны надежды. Но эта вера принадлежала не ему. Они верили не в его меч и его волю. Они верили в ее шепот, обращенный к воде.
И он понял, что отныне в их племени было два вождя.
Он, который вел их тела.
И она, которая вела их души.
И пока их пути совпадали, они были непобедимы.
Но Ратибор был достаточно умен, чтобы понимать: так не будет всегда. И он с тревогой думал о том дне, когда их пути могут разойтись. Потому что тогда его народу придется выбирать. Между мечом и молитвой. И этот выбор мог разорвать их на части вернее любых порогов.
Глава 22. Пустой Лес
Победа над порогами была позади, но она оставила после себя не столько радость, сколько опустошающую усталость. Несколько дней они плыли дальше, входя все глубже в сердце неведомых земель. Леса по берегам становились гуще, темнее. Деревья стояли стеной, казались древними и нелюдимыми. Река была спокойна, но это спокойствие было обманчивым, как затишье перед грозой.
Проблема была простой и жестокой, как удар обухом по голове. У них заканчивалась еда.
Последний бочонок с солониной опустел. Зерно, которое они везли, берегли для будущего посева, как величайшую драгоценность. Ежедневный паек свелся к горстке сушеных грибов да жидкой похлебке из речной рыбы, которая ловилась все хуже. Голод снова начал заглядывать в глаза. Он был знаком с каждым, как старый, надоедливый сосед.
– Нужно остановиться, – сказал Ратибору Боривой тем же утром. Лицо старого воина осунулось, кожа обтянула скулы. – Сделать дневку. Послать охотников. Может, хоть какого зверя подстрелим. На одной рыбе да траве ноги протянем.
Ратибор согласился. Они пристали к берегу в месте, где лес казался не таким непроходимым. Отобрали лучших охотников, пятерых самых зорких и выносливых. Возглавил их, разумеется, Боривой. Он был стар, но в лесу чувствовал себя лучше, чем в любом доме. Знал повадки любого зверя, мог часами сидеть в засаде, почти не дыша. Если кто и мог принести им мясо, то только он.
Они ушли на рассвете, растворившись в утреннем тумане. Легкие, без тяжелой брони, только с луками и копьями. Оставшиеся в лагере ждали. Ждали с надеждой. Дети то и дело спрашивали у матерей, будет ли сегодня мясо. И женщины отвечали "да", хотя в их собственных глазах плескалась тревога.
"Что такое надежда? – размышлял Ратибор, глядя, как медленно ползет по небу солнце. – Это самый сладкий и самый жестокий яд. Она дает тебе силы пережить сегодняшний день, рисуя в твоем воображении прекрасное завтра. Ты готов терпеть голод, потому что веришь, что вечером будет сытный ужин. Ты готов мерзнуть, потому что веришь, что однажды построишь теплый дом. Но что происходит, когда надежда обманывает тебя? Раз, другой, третий. Она перестает быть лекарством. Она становится мукой. Ты перестаешь верить. И тогда… тогда ты остаешься один на один с реальностью. А реальность – это почти всегда просто голод, холод и страх. И никакой надежды".
День тянулся мучительно долго. Оставшиеся в лагере занимались своими делами: чинили одежду, осматривали лодки, собирали ягоды у самой кромки леса. Но все это было лишь видимостью. На самом деле они просто ждали. Вслушивались. Не раздастся ли вдали победный крик? Не появится ли на тропе фигура охотника, несущего на плечах добычу? Но лес молчал.
Солнце коснулось верхушек деревьев, окрасив их в багровые тона. Сумерки начали сгущаться. Тревога в лагере нарастала. Неужели что-то случилось? Напал зверь? Или люди?
И вот они появились. Пять темных силуэтов, выходящих из лесного сумрака. Они шли тяжело, опустив плечи. С пустыми руками.
Надежда, весь день парившая над лагерем, лопнула, как мыльный пузырь.
Боривой подошел прямо к костру и с силой бросил на землю свой лук. Лицо его было серым от усталости и злым от разочарования. Он тяжело опустился на бревно и протянул руки к огню, будто пытаясь согреть не только тело, но и душу.
– Ну что? – спросил Ратибор, хотя и так все было ясно.
Боривой медленно поднял на него свои выцветшие, усталые глаза.
– Пусто, вождь, – сказал он хрипло. – Как вымели.
Он облизал пересохшие губы.
– Мы прошли верст двадцать, не меньше. По всем тропам, по всем приметам. Ни белки, ни зайца, ни кабаньего следа. Даже птицы молчат. Как будто мы тут одни. – Он помолчал, глядя в огонь. – Нет. Не одни. Такое чувство… что лес живой, но он затаился. Смотрит на нас из-за каждого дерева. Но не показывает себя. Словно мы ему не по нутру. Словно он спрятал от нас всю свою живность, как мать прячет детей от чужого, злого человека.
Он снова замолчал, и его слова повисли над костром. В них было что-то по-настоящему жуткое. Одно дело – неудачная охота. Совсем другое – когда сам лес, сама земля отказывают тебе в пропитании.
– Лес… он как вымер, – повторил Боривой, и теперь в его голосе слышался не просто гнев, а настоящий, первобытный страх. – Будто он неживой.
Ратибор посмотрел на Заряну. Она сидела, как всегда, немного в стороне. Она слышала все. И она не была удивлена. Она просто смотрела на темную стену леса со спокойной, печальной уверенностью. Будто она заранее знала, чем все закончится.
И ее молчаливое знание пугало Ратибора больше, чем пустые руки охотников. Они могли бороться с голодом. Но как бороться с лесом, который решил их уморить? С землей, которая не хотела их принимать? Это был враг, против которого бессильны любые мечи.
Глава 23. Глаза Голода
В тот вечер ужин был молчаливым и почти ритуальным. Едой это назвать было сложно. Похлебка из воды, щавеля и пары жалких рыбешек, которых удалось выловить с лодки. Она почти не имела ни вкуса, ни запаха. Она не насыщала. Она лишь дразнила пустой желудок, напоминала ему о настоящей еде – о жирном мясе, о теплом хлебе, о той жизни, которой больше не было.
Люди ели медленно, растягивая каждую ложку. Но даже эта скудная трапеза закончилась слишком быстро. Деревянные миски были выскребены до блеска. Дети, не понимая, почему так мало, капризничали и просили еще. И тогда началось самое страшное.
Ратибор сидел у своего места, лишь притронувшись к похлебке. Он видел все. Он видел, как Любава, молодая женщина, потерявшая сестру, отдала свою долю мальчику-сироте, которого взяла под опеку. Сама же она отошла в сторону и незаметно сунула в рот какой-то корень, который нашла в лесу, и начала жевать его с сосредоточенным, почти животным видом.
Он видел, как старая Милолица, отдав свой кусок хлеба – последний, который у них был, – внучке, отошла к реке и просто пила воду, наполняя желудок, чтобы обмануть голод.
Это была тихая, отчаянная жертвенность, от которой у Ратибора сводило скулы. Никто не жаловался. Никто не роптал. Они просто молча делились последним с теми, кто был слабее. И эта молчаливая стойкость была страшнее любых криков и упреков. Потому что она была на пределе.
Он чувствовал на себе взгляды.
Люди, сидя у костра, старались не смотреть на него прямо. Но он ощущал их взгляды кожей, затылком. Тяжелые, вопрошающие. В них еще не было открытого упрека. Еще не было ненависти. Пока. Но в них уже плескался страшный, немой вопрос, который сверлил его мозг.
"Куда ты нас привел, Ратибор?"
Этот вопрос был в потухших глазах Боривоя, который потерял свою уверенность вместе со следами зверя в лесу.
Этот вопрос был в усталом взгляде Светланы, которая баюкала чужого ребенка, чей отец никогда уже не споет ему колыбельную.
Этот вопрос был даже во взгляде Рогнеды, которая сидела, проверяя остроту своего меча с таким видом, будто этот кусок железа – единственное, чему в этом мире еще можно доверять.
Они все спрашивали его. Без слов.
"Ты обещал нам новый дом. Ты обещал нам месть. Ты зажег в нас огонь. И вот мы здесь. В пустом лесу. С пустыми желудками. На берегу реки, которая ведет в никуда. Что дальше, вождь? Какой твой следующий приказ? Умирать от голода? Ждать, пока лесные духи сжалятся над нами? Куда ты нас привел?"
"Есть разные виды тяжести, – думал он, ощущая, как эти взгляды давят на него, словно каменная плита. – Есть тяжесть меча в руке. Есть тяжесть щита. Есть тяжесть тела убитого тобой врага. К этой тяжести привыкаешь, она делает твои мышцы крепче. Но есть другая тяжесть. Тяжесть человеческой веры. Сотня душ, которые ты взвалил на свои плечи. И каждая из них весит больше, чем самый огромный валун. Они отдали тебе свои жизни. Не на поле боя. А просто так. Отдали в руки, поверив твоему слову. И когда ты ведешь их в никуда, когда не можешь дать им даже куска мяса, эта тяжесть… она ломает тебе хребет. Не сразу. Медленно. Позвонок за позвонком".
Он встал. Он больше не мог выносить этих взглядов, этого молчания. Он отошел от костра и пошел в темноту, на самый край их маленького островка света. Он посмотрел в черную, непроницаемую стену леса. Лес молчал. Он смотрел на него так же, как и его люди. Равнодушно и вопрошающе.
"И что ты им ответишь, вождь? – шептал он сам себе. – Что у тебя нет ответов? Что ты такой же потерянный и голодный, как они? Что ты впервые в жизни не знаешь, что делать дальше?"
Нет. Этого сказать было нельзя.
Он мог разделить с ними последнюю краюху хлеба. Но он никогда не сможет разделить с ними свою собственную растерянность. Потому что вождь, который признался в своем бессилии, – это уже не вождь. Это просто человек.
А просто человек не сможет их спасти.
Впервые за все это время они легли спать почти голодными. Дети плакали, пока не уснули. Взрослые долго ворочались, пытаясь усмирить сосущую пустоту в животах. И Ратибор долго сидел один в темноте, чувствуя, как холодок настоящего, липкого страха – страха не за себя, а за них, – впервые пробирается под кожу и добирается до самого сердца.
Глава 24. Веретено Судьбы
Ночь была холодной и ясной. После душного, тяжелого дня воздух стал чистым и прозрачным, как родниковая вода. Лагерь спал тревожным, голодным сном. Тишину нарушали лишь редкий треск углей в догорающем костре да далекий, почти призрачный крик ночной птицы.
Ратибор не мог уснуть. Он сидел, прислонившись спиной к шершавому стволу сосны, и смотрел в небо. Оно здесь, на севере, было другим. Темнее, глубже. И звезды… их было несметное, пугающее множество. Не такие, как дома – уютные, знакомые. Эти были яркими, колкими, как осколки льда, рассыпанные по черному бархату. Они не подмигивали. Они просто смотрели. Древние, холодные, безразличные глаза вечности.
Он смотрел на них, и ему казалось, что он видит не просто звезды. Он видит нити. Мириады серебряных нитей, сплетающихся в гигантский, непостижимый узором. И каждая звезда – это узелок на одной из нитей. Узелок судьбы. Чьей-то жизни. Чьей-то смерти.
Его внутренний голос, этот безмолвный собеседник, который стал его единственным настоящим доверенным лицом, заговорил с ним. Он не звучал в ушах. Он рождался где-то в глубине его черепа, в самой сердцевине его усталого сознания.
"Ты смотришь на них, и тебе хочется верить, что твоя звезда – самая яркая. Та, что указывает путь. Ты думаешь, что ведешь их, этих спящих, доверчивых людей. Думаешь, что это ты решаешь, куда повернуть, где остановиться, когда идти в бой, а когда отступить. Ты носишь на себе их взгляды, их надежды. Ты – Вождь. Ты – их Судьба".
Он горько усмехнулся в темноту. Усмешка получилась беззвучной, простое подергивание уголка губ.
"Какая самонадеянная ложь.
Ты не ведешь. Тебя ведут.
Ты не решаешь. За тебя уже все решено.
Посмотри внимательно. Ты не звезда. Ты даже не нить. Ты всего лишь крошечная, почти невидимая щепка в огромной реке времени. Она несет тебя. У нее свое течение, свои омуты, свои пороги. И все, что ты можешь, – это отчаянно работать веслом. Не для того, чтобы выбрать путь. Нет. А просто для того, чтобы не перевернуться. Чтобы тебя не закрутило в водовороте, не вынесло на камни".
Он провел рукой по лицу. Щетина, отросшая за последние дни, неприятно царапнула ладонь. Он чувствовал себя старым. Не на девятнадцать лет. А на все сто.
"Вся твоя хваленая власть… вся твоя воля, которой ты так гордишься… это всего лишь напряжение мышц на весле. Ты видишь перед собой камень и думаешь: "Я решил его обойти". Какая глупость. Это течение помогло тебе его обойти. А через мгновение оно же швырнет тебя на другой камень, которого ты даже не заметил. И все, что останется от твоей воли и твоей власти, – это обломки, кружащиеся в воде".
Он поднял взгляд обратно к небу. К этому гигантскому, безмолвному веретену судьбы.
"Может быть, в этом и есть вся суть? Вся жестокая ирония власти? Она дается не тем, кто выбирает путь. Она дается тем, кто оказывается достаточно сильным и упрямым, чтобы просто удержать свою маленькую, хрупкую лодку на плаву, пока река несет ее сквозь мрак и хаос. Твоя задача – не проложить маршрут. Твоя задача – не дать им всем утонуть по дороге. Не дать им сожрать друг друга от голода и страха. Залатать очередную пробоину. Отчерпнуть воду. Подставить свою спину под очередной удар волны. И просто грести. Грести, стиснув зубы".
Мысль была страшной в своей простоте. Она лишала его гордости. Лишала его ощущения собственной значимости. Но вместе с этим… она приносила странное, горькое облегчение.
Если он просто щепка в реке, значит, он не несет ответственности за само течение. За то, что оно привело их в этот пустой, голодный лес. За то, что старик Миролюб умер. Это просто река. Она не бывает доброй или злой. Она просто есть.
Его задача была меньше и одновременно во сто крат больше, чем он думал.
Не быть богом для своего народа.
А просто быть самым упрямым гребцом в их лодке.
Он посмотрел на спящих людей. На их измученные, беззащитные во сне лица.
Река несла их всех. Но он сидел на корме. И пока в его руках было правящее весло, он будет бороться за каждый дюйм, за каждый поворот. Не для того, чтобы обмануть судьбу.
А для того, чтобы посмотреть ей в лицо без стыда, когда она наконец вынесет их к морю.
Или разобьет о камни.
Глава 25. Запах Соли
Еще два дня река испытывала их на прочность. Она стала шире, течение замедлилось, превратившись в вязкую, почти стоячую воду, которая неохотно несла их лодки. Берега стали низкими, заболоченными. Воздух наполнился тяжелым запахом гниющей растительности и тучами злого, ненасытного гнуса.
Надежда, тот хрупкий огонек, что Ратибор сумел зажечь в людях, почти иссякла. Она утонула в этом однообразии, в этой серой, бескрайней тоске. Люди гребли молча, автоматически. Их движения стали вялыми, а глаза – тусклыми. Они больше не ждали ничего хорошего. Они просто существовали, подчиняясь инерции. Их топливом была последняя горсть вяленого мяса, которое уже начало портиться, отдавая горечью, да упрямство, которое почти кончилось.
Ратибор смотрел на своих людей и видел, что предел близок. Еще день, два такой дороги – и они начнут ломаться. По-настоящему. Болезни, которые до этого дремали в их измученных телах, поднимут голову. Начнутся ссоры. Отчаяние поглотит их.
"Что самое страшное в долгом пути? – думал он, механически работая веслом. – Не внезапные опасности. Не пороги и не враги. К ним ты готовишься, собираешь волю в кулак. Самое страшное – это монотонность. Эта серая, бесконечная паутина однообразных дней. Она усыпляет твою волю. Она нашёптывает тебе, что конца нет и не будет. Что ты будешь вот так грести вечно, по этой унылой воде, пока не сгниешь заживо. И ты начинаешь в это верить. Ты перестаешь бороться. Ты просто плывешь. А это – начало конца".
Он и сам чувствовал, как эта серая пыль безнадеги оседает на его душе. Но он гнал ее. Он заставлял себя думать о лице Всеслава, о клятве на пепелище. Ненависть была единственным, что не тускнело в этом сером мире.
И вдруг, на исходе третьего дня, когда казалось, что этот унылый пейзаж будет длиться вечно, случилось нечто.
Горазд, молодой и сильный дружинник, сидевший на веслах впереди, вдруг замер. Он перестал грести и поднял голову, как гончая, прихватившая след. Его ноздри раздувались.
– Тихо, – пробормотал он.
Верен, сидевший рядом, толкнул его.
– Чего встал? Греби, медведь.
– Да тихо, говорю! – огрызнулся Горазд. Он закрыл глаза и глубоко, шумно втянул воздух. – Чуете?
Все замерли. Скрип уключин прекратился. И в наступившей тишине они почувствовали это.
Ветер, который лениво дул им в спину, изменился. Он стал свежее, влажнее. И он принес с собой новый, абсолютно незнакомый им запах.
Он не был похож ни на запах леса, ни на запах речной сырости. Он был резким, острым, будоражащим. В нем была горечь и чистота. Запах огромной, живой воды, простора и чего-то еще… чего-то, чему они не знали названия. Соль.
– Что это? – прошептала Любава, прижимая к себе ребенка.
Никто не ответил. Все вслушивались, вдыхали этот новый воздух, пытаясь понять. А Ратибор уже знал. Он слышал рассказы купцов. Варягов. Он знал, чем пахнет Варяжское море.
– Гребите, – сказал он, и его голос, хриплый от усталости, дрогнул. – Гребите! Все!
И они налегли на весла. Не как раньше – вяло и безвольно. А с новой, отчаянной силой. Забыв про голод, про усталость. Их гнал вперед этот запах. Запах надежды. Запах конца их мучительного речного пути.
Река сделала последний, широкий, ленивый изгиб. Лес по берегам внезапно поредел, уступив место низкому кустарнику и песчаным дюнам.
И они увидели.
Впереди, насколько хватало глаз, не было другого берега. Не было привычной стены леса.
Было только небо, огромное, свинцово-серое. И вода. Уходящая до самого горизонта, сливающаяся с этим небом в одну бесконечную, серую линию.
Они пришли.
В тот момент, когда нос их головной лодки выскользнул из тесного речного устья и качнулся на первой, ленивой, соленой волне, время для них остановилось. Они сидели, оглушенные, ошеломленные.
За спиной осталась река, их тюрьма и дорога. Их прошлое.
А впереди лежала Великая Вода.
Их неизвестность.
Их судьба.
Их будущее.
Глава 26. Бездна
Есть вещи, к которым человеческий разум не готов. Можно представить себе большое поле, высокий холм, даже очень широкую реку. Но то, что открылось их взорам, не укладывалось ни в какие мерки. Это было за гранью. За гранью опыта, за гранью слов.
Их утлые лодчонки вынесло из речного устья, и они замерли, покачиваясь на плавной, ленивой зыби. Ветер, тот самый, что нес запах соли, теперь ударил им в лица – свободный, сильный, ничем не сдерживаемый. Он пах так густо, что, казалось, его можно пить. Пах водорослями, сырым песком, рыбой и чем-то еще, первобытным и могучим. Свободой. И смертью.
Никто не греб. Никто не говорил. Они просто смотрели.
Впереди была Она. Великая Вода. Море.
Для людей, чьим миром всегда были лес и река, чья вселенная ограничивалась деревьями на том берегу, это была не просто вода. Это была Бездна. Перевернутое небо. Край мира, за которым, как говорили старики, нет ничего, только туман и чертоги морского змея.
Оно дышало. Не метафорически. По-настоящему. Водная гладь медленно, ритмично вздымалась и опадала, словно грудь спящего чудовища исполинских размеров. Длинные, пологие волны рождались где-то там, на невидимом горизонте, и неторопливо, с несокрушимой силой катились к берегу, чтобы с ленивым, протяжным шипением умереть на мокром песке. Этот звук – вздох и шипение – был похож на дыхание. Он был древнее любого языка, он говорил напрямую с той частью души, что еще помнила, как ее предки были рыбами.
Вода до горизонта. Небо до горизонта. Ничего больше. Ни клочка земли, ни островка, ни единого деревца на той стороне, потому что "той стороны" просто не существовало. Это было страшнее любой бури, любого порога. Потому что там была ярость, с которой можно было бороться. А здесь была лишь бесконечность. Спокойная, могучая, абсолютно безразличная к их крошечным лодкам, к их еще более крошечным жизням.
Первыми не выдержали дети. Маленькая девочка, до этого молча сидевшая всю дорогу, вдруг посмотрела на это бескрайнее пространство, и ее личико исказилось от ужаса. Она заплакала – тонко, пронзительно, как плачут от первобытного страха перед темнотой. Ее плач подхватили другие дети. Этот звук, полный животного ужаса, нарушил благоговейную тишину.
Женщины начали креститься. Не тем крестом, что приносили редкие купцы с юга. А старым, языческим знаком, проводя рукой ото лба к сердцу, а потом к плечам, очерчивая обережный круг. Они шептали молитвы – не громкие, а тихие, испуганные, обращенные к Макоши, к Роду, к любым богам, которые могли бы защитить их от этого водяного хаоса.
Мужчины молчали. Суровые, бородатые воины, которые смотрели в лицо смерти, не моргнув, сейчас были похожи на растерянных мальчишек. Они просто сидели, вцепившись в борта своих лодок, и их глаза были широко раскрыты. Взгляд человека, который вдруг понял, насколько он мал и ничтожен. Вся их сила, все их мечи, вся их ярость – что они значили перед лицом этой равнодушной, дышащей Бездны? Пыль. Капля пресной воды в соленом океане.
"Что чувствует муравей, впервые выползший из своего муравейника на дорогу, по которой ходят великаны? – Ратибор тоже был придавлен этим величием, этой нечеловеческой мощью. – Наверное, то же самое. Всю жизнь ты думаешь, что твой мир – это хвоя, веточки и другие муравьи. Ты знаешь его правила, его опасности. А потом ты видишь другое. То, что не укладывается в твою муравьиную голову. И ты понимаешь, что ты не просто мал. Тебя, по сути, нет. Один шаг великана, один удар волны – и все твои войны, вся твоя любовь, вся твоя ненависть исчезнут без следа. Никто и не заметит".
Он видел, как на лице Боривоя отражается не просто страх. А настоящий религиозный ужас. Старый воин верил в землю. Твердую, понятную. А это было ее отрицание. Это была стихия хаоса, из которой, по преданиям, был сотворен мир. И они заглянули в эту самую колыбель. И эта колыбель могла стать их могилой.
– Это и есть то место, куда ты нас вел? – прохрипел рядом Горазд. Его голос был полон трепета. – Край света?
Ратибор медленно повернул голову. Он посмотрел на перепуганные, восторженные, потрясенные лица своих людей.
И, несмотря на собственный страх, он почувствовал, как внутри него зарождается что-то новое. Не восторг. А предчувствие.
Здесь не было границ. Не было соседей. Не было чужих межевых дубов.
Только простор. Бесконечный простор, который давал либо смерть, либо безграничные возможности.
– Нет, – ответил он Горазду, и его голос прозвучал на удивление твердо и спокойно, перекрывая детский плач и шум волн. – Это не край света.
Он обвел взглядом бесконечную воду.
– Это его начало.
Глава 27. Восторг и Ужас
Первый шок прошел, схлынул, как волна, обнажив то, что было под ним. Ратибор увидел, как начали меняться лица его людей.
Детский плач постепенно стих, сменившись испуганным любопытством. Женщины перестали шептать молитвы и начали с опаской, но уже без ужаса, разглядывать невиданный простор. А в глазах мужчин… в глазах мужчин страх начал уступать место чему-то совершенно другому. Чему-то дикому, жадному, первобытному.
Верен, молодой дружинник, вдруг рассмеялся. Не весело. А громко, отчаянно, почти истерично.
– Так вот ты какое, Варяжское море, – выкрикнул он, обращаясь к волнам. – Ну, здравствуй, стерва!
Горазд, оправившись от оцепенения, подхватил его настроение. Он встал в лодке во весь рост, раскинул руки, словно пытаясь обнять эту бесконечность.
– Слышишь, Всеслав, тварь! – заорал он в сторону юга, откуда они приплыли. – Смотри! Мы на краю света! А ты сидишь в своей норе и трясешься за свой клочок земли! Подавись им!
Это было безумие. Радостное, пьянящее безумие людей, вырвавшихся из тюрьмы. Их тюрьмой была не только земля Всеслава. Их тюрьмой была река, ее узкие, однообразные берега, ее монотонное течение. Они были заперты в ней, как в кишке. И вот их выплюнуло на свободу.
На смену подавляющему ужасу пришел дикий восторг. Это было оно! Конец пути. Цель, к которой они шли через голод, страх и смерть. Это место не было похоже на рай. Оно было суровым, холодным, пахнущим солью и тленом. Но оно было другим. Это была черта, перейдя которую они перестали быть беглецами и стали… кем-то новым. Первопроходцами. Основателями.
– К берегу! – скомандовал Ратибор, и его голос подхватил это общее, лихорадочное настроение.
Они налегли на весла, и их утлые лодчонки ткнулись носами в широкий песчаный берег. Люди начали выпрыгивать в холодную, по щиколотку, воду, не обращая внимания на холод. Они вытаскивали лодки выше, подальше от ленивого прибоя.
А потом они просто стояли.
Стояли на этом бескрайнем берегу, задрав головы, и дышали.
Ратибор чувствовал то же самое. Он сделал глубокий вдох. Воздух был чистым, соленым и пьянящим. Он наполнял легкие, казалось, до самого дна, вымывая всю усталость, всю речную сырость и тоску. Здесь, на этом берегу, можно было дышать полной грудью.
Здесь не было стен. Не было чужих частоколов, враждебных взглядов, дозорных вышек. За спиной не стоял враг. Ты был виден со всех сторон. И одновременно был защищен этой открытостью.
Только простор.
"Ты всю жизнь растешь в лесу, – думал он, глядя, как волна накатывает на его сапоги. – Твой мир состоит из деревьев. Они – твои стены, твое укрытие, твоя тюрьма. Ты привыкаешь смотреть не дальше следующего ствола. Твой взгляд становится коротким, осторожным. А потом ты выходишь в чистое поле. Или вот сюда. На берег. И твой взгляд, не встречая преград, летит. Летит до самого горизонта. И твоя душа, запертая до этого в тесной клетке твоего лесного мира, расправляет крылья вслед за ним. И это чувство… оно одновременно и страшное, и пьянящее. Ты вдруг понимаешь, как огромен мир. И как ничтожны были твои лесные проблемы".
Рядом с ним стояла Рогнеда. Она смотрела не на море. Она смотрела на него.
– Так вот куда ты нас привел, – сказала она. В ее голосе не было ни вопроса, ни упрека. Только констатация факта.
– Я сам не знал, что мы придем сюда, – честно ответил он. – Нас вела река.
– Река приводит туда, куда ей приказывают боги, – вставила Заряна, подойдя к ним. Она выглядела лучше, ее щеки слегка порозовели от свежего ветра. – Или тот, кто говорит от их имени.
– Неважно, кто нас привел, – отрезала Рогнеда, снова поворачиваясь к морю. – Важно, что мы здесь. И что теперь с этим делать. Это место красивое, Ратибор. Но красоты на хлеб не намажешь. И от врага ей не укроешься.
Она была права, как всегда. Прагматична до мозга костей.
Но даже она не могла отрицать этой пьянящей силы места.
Это была свобода.
Абсолютная, почти невыносимая в своей полноте.
Но свобода, как понял в ту минуту Ратибор, всегда имеет обратную сторону. Это была свобода от стен, но и свобода от защиты. Свобода от врагов за спиной, но и свобода для врагов, которые могли прийти оттуда, из-за горизонта.
Это была свобода, холодная и опасная, как лезвие секиры, которую ты только что отточил.
Она может помочь тебе выжить.
А может отрубить тебе руку при первом же неосторожном движении.
И все зависело только от них. От того, сумеют ли они удержать эту опасную бритву в своих руках.
Глава 28. Первый Лагерь
Эйфория постепенно схлынула, уступив место деловитой, почти радостной суете. Люди, еще утром похожие на живых мертвецов, теперь двигались быстро, энергично. Они нашли удобное место для стоянки – лощину между двумя высокими песчаными дюнами, поросшими колючим, пахнущим медом вереском. Дюны защищали от пронизывающего морского ветра, а с вершин открывался хороший вид и на море, и на темную стену леса, оставшуюся за спиной.
Ратибор отдал команду, которая показалась всем настоящим праздником:
– Костер! Большой!
Впервые за все время их бесконечного бегства по реке, где каждый дымок мог стать маяком для погони, им было позволено не прятаться. Они могли заявить о себе. Сказать этому новому, огромному миру: "Мы здесь!"
Мужчины и даже дети с гиканьем бросились собирать топливо. Искать его долго не пришлось. Море щедро делилось своими дарами. Вдоль всей линии прибоя лежали горы плавника – ветки и целые стволы деревьев, отполированные соленой водой и временем до гладкости кости. Дерево было сухим, пропитанным солью.
Когда разожгли костер, он занялся с оглушительным треском. Пламя взметнулось вверх, высокое, жаркое, яростное. Оно было другого цвета, не как обычные лесные костры. От соли языки его были оранжевыми с пронзительно-синими и зелеными всполохами. Люди, соскучившиеся по теплу и свету, сгрудились вокруг него, протягивая озябшие руки, и их лица в этом причудливом, пляшущем свете казались лицами сказочных существ.
Это был пир.
Пусть даже на этом пиру почти не было еды. Женщины выскребли из мешков последние остатки муки и испекли на раскаленных камнях пресные, пахнущие дымом лепешки. Сварили в котелке последнюю рыбу, пойманную еще в реке. Но никто не жаловался. Каждый кусок казался вкуснее самой жирной баранины, съеденной в прошлой жизни. Потому что это была еда на своей, пусть пока и безымянной, земле. Это была трапеза не беглецов, а первопроходцев.
Они ели и разговаривали. Не шепотом, как на реке, а громко, перекрикивая шум прибоя и треск огня. Смеялись. Впервые за много-много дней они по-настоящему смеялись. От облегчения. От почти животной радости простого факта: они дошли. Они выжили.
"Что такое победа? – думал Ратибор, глядя на эти ожившие, разрумянившиеся лица. Он сидел чуть поодаль, на вершине дюны, наблюдая за своим маленьким племенем. – Мы привыкли думать, что победа – это когда ты стоишь на трупе своего врага, а в руках у тебя его знамя. Это простая, понятная победа. Но бывает и другая. Вот такая. Когда ты не победил никого, кроме своей собственной слабости, своего отчаяния. Когда твоим трофеем становится не чужой город, а просто клочок песчаного берега. Когда главная добыча – это не золото, а право разжечь большой костер и не бояться, что тебя за это убьют".
Он смотрел, как Горазд, молодой и сильный, боролся в шутку с Вереном, и никто уже не вспоминал про недавнюю ссору из-за хлеба. Как дети бегали по песку, визжа от восторга и пугаясь набегающих волн. Как Светлана, улыбаясь, раздавала лепешки, и в ее глазах впервые за долгое время не было той смертельной тоски.
Это был их первый мирный вечер. Не передышка. А именно мир. Пусть хрупкий, как песчаный замок. Пусть короткий, как летняя ночь. Но он был.
К нему подошла Рогнеда. Она принесла ему его долю – лепешку и кусок рыбы.
– Почему ты не там? – спросила она, кивая на веселящихся людей у костра. – Ты заслужил это больше, чем кто-либо. Ты их довел.
– Моя работа только начинается, – ответил он, принимая еду. Он посмотрел в сторону моря, на темный, пустынный горизонт. – Они празднуют конец пути. А я вижу только начало нового. Еще более трудного.
– Ты никогда не бываешь доволен, Ратибор. Даже в день победы ты думаешь о следующей войне.
– Потому что если я перестану о ней думать, – он повернулся и посмотрел ей прямо в глаза, – то следующая война придет, а мы будем к ней не готовы. И тогда этот костер станет нашим погребальным.
Она ничего не ответила. Просто села рядом. Они молча ели, глядя на свой маленький, шумный лагерь, на свой островок жизни, затерянный между бесконечным морем и бесконечным лесом.
Она понимала его. Лучше, чем кто-либо. Понимала тяжесть этой вечной бдительности, этого бремени вождя, который не имеет права на отдых, на простое человеческое счастье момента.
Да, это был пир победителей.
Они победили реку. Победили голод. Победили отчаяние.
Они дошли.
И теперь, сидя на этом продуваемом всеми ветрами берегу, они впервые за долгое время чувствовали себя не жертвами.
А хозяевами своей судьбы.
Пусть даже их единственным королевством на эту ночь был лишь круг света от жаркого, соленого костра.
Глава 29. Призрак в Тумане
Ночь, полная пьянящей эйфории и соленого ветра, сменилась утром. Но утро не принесло с собой солнца. Оно пришло закутанным в плотный, тяжелый саван тумана.
Это был не тот речной туман, к которому они привыкли, – клочковатый, цепляющийся за ивы. Этот был другим. Морским. Густым и влажным, как мокрое молоко. Он навалился на их маленький лагерь, съедая все вокруг. Исчезло море. Исчез лес за спиной. Исчезли даже соседние дюны. Мир сузился до пяти шагов в любом направлении. Все, что было дальше, тонуло в этой белой, непроницаемой мгле.
Вместе с миром исчезли и звуки. Ветер стих. Шум прибоя стал глухим, далеким, будто доносился со дна колодца. Туман поглощал звуки, делая их вязкими, нереальными. Даже треск догорающего костра казался приглушенным. Наступила почти абсолютная тишина. Такая глубокая, что, казалось, можно услышать, как кровь стучит в собственных висках.
Люди просыпались, и их веселье прошлой ночи улетучилось без следа. Эта тишина и эта белая пустота пугали. Они были в незнакомом месте, слепые, глухие. Невидимая стена отрезала их от остального мира. Любой враг – зверь или человек – мог подойти вплотную, и они не увидели бы его до самого последнего момента.
Ратибор сразу удвоил дозорных, расставив их по кругу на границе видимости. Сам он стоял у потухшего костра, пытаясь вглядеться в белую пелену, но не видел ничего, кроме колышущихся, призрачных фигур своих людей. Тревога висела в воздухе, густая, как и сам туман.
"Самое страшное оружие – это не меч и не копье, – думал он, и его ладонь сама собой легла на рукоять меча. – Самое страшное оружие – это неизвестность. Она лишает тебя твоего главного преимущества – глаз. Ты не видишь угрозы, и твое воображение начинает рисовать ее само. И те чудовища, что рождаются в твоей голове, всегда страшнее любых реальных врагов. Они питаются твоим страхом. Они растут в тишине".
Внезапно эту ватную тишину разорвал крик.
Короткий, резкий, полный не столько ярости, сколько изумления и страха. Кричал молодой дозорный, Горазд, стоявший со стороны моря.
В одно мгновение весь лагерь вскочил на ноги. Сонливость слетела как шелуха. Мужчины выхватывали мечи и топоры, женщины хватали детей и отступали к центру лагеря. Десятки глаз впились в ту сторону, откуда донесся крик, пытаясь пробить взглядом эту проклятую белую стену.
– Что там?! – крикнул Ратибор, делая шаг вперед.
– Не знаю! – донесся сдавленный голос Горазда. – Идет! Тихо…
И они увидели.
Сначала это была просто тень. Темное, вытянутое пятно в молоке тумана. Оно двигалось. Не плыло, а скользило. Абсолютно бесшумно. Ни всплеска весел, ни скрипа уключин. Будто его вело нечто неживое.
Тень становилась четче, ближе, обретала форму. Длинная, узкая лодка, выдолбленная из цельного ствола могучего дерева. Ее нос был задран вверх, как у какой-то диковинной рыбы.
Она выплыла из тумана, как призрак, как видение из другого мира. И замерла на мелководье, в нескольких десятках шагов от берега.
Напряжение стало почти физически ощутимым. Оно звенело в воздухе, как натянутая до предела тетива. Кто это? Враги? Духи? Люди, пришедшие убить их на этом пустынном берегу?
Люди Ратибора сгрудились, выставив вперед копья и немногочисленные щиты, образовав колючую, ощетинившуюся фалангу. Они были готовы к бою. Но с кем?
Пришельцы в лодке не кричали, не били в щиты. Они просто сидели и смотрели.
Враг, который не издает ни звука, всегда страшнее того, что ревет во всю глотку.
Тишина снова стала главным действующим лицом. Тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием людей и далеким, почти неслышным шепотом моря.
Первый контакт.
На этой новой земле.
И никто не знал, станет ли он последней битвой в их жизни.
Глава 30. Немые Гости
Секунды растягивались, превращаясь в густую, вязкую вечность. Туман колыхался, и лодка-призрак то становилась четче, то снова расплывалась, будто дразня, играя с ними. Наконец, белая пелена на миг поредела, и они смогли рассмотреть тех, кто сидел в лодке.
Их было двое.
Они не были похожи ни на кого, кого люди Ратибора видели прежде. Не славяне, не варяги, не степные кочевники. Эти были другими. Смуглые, с кожей, продубленной ветром и солью до цвета старой меди. Лица – широкие, скуластые, с узким, чуть раскосым разрезом глаз. Черные, прямые волосы были стянуты на затылке кожаными ремешками. Одеты они были в глухие, без единого украшения, куртки и штаны из блестящей, лоснящейся тюленьей шкуры.
Они не были воинами. Рядом с ними не было ни мечей, ни щитов. В лодке лежали лишь сети, сплетенные из жил, и несколько острог с костяными наконечниками. Это были рыбаки. Охотники. Люди моря.
Но отсутствие оружия не делало их менее опасными. Они сидели в своей лодке абсолютно неподвижно, положив руки на колени. Спокойно. И смотрели.
Их взгляды – вот что было самым страшным. В них не было страха. Совершенно. Только глубокое, напряженное любопытство. Так смотрит волк из чащи на незнакомого зверя, что забрел на его территорию. Оценивает. Взвешивает. Решает – опасен ли? Съедобен ли?
И это спокойствие пугало больше, чем любой боевой клич. Эти двое не боялись толпы чужаков, ощетинившихся железом. А раз они не боялись, значит, у них была на то причина. Может, они знали, что их здесь сотни, скрытых в тумане? Может, они владели какой-то неведомой силой?
"Ты смотришь на человека, – подумал Ратибор, не отводя взгляда от незваных гостей, – и твой разум сразу пытается его определить. Друг? Враг? Купец? Воин? Ты ищешь на нем знакомые знаки – одежду, оружие, черты лица. И когда ты их не находишь… когда перед тобой стоит нечто совершенно иное, чуждое… твой разум пасует. А на его место приходит самый древний, самый первобытный инстинкт. Страх перед другим. Перед непонятным. И первая мысль, которую он тебе диктует: убей. Убей, пока оно не убило тебя".
Дружинники Ратибора, ведомые этим самым инстинктом, начали медленно, в полной тишине, расходиться по берегу, беря лодку в полукольцо. Щиты были выставлены вперед. Наконечники копий смотрели прямо на двоих в лодке. Любое резкое движение, любой подозрительный звук – и в них полетят копья и стрелы.
Двое в лодке видели это. Видели, как сжимается вокруг них смертельная петля. Но они даже не шелохнулись. Лишь тот, что был постарше, с лицом, испещренным глубокими морщинами, как карта старых рек, слегка склонил голову набок, продолжая невозмутимо их разглядывать.
Мир сжался до этого клочка песчаного берега. С одной стороны – почти сотня изгнанников, доведенных до предела страхом и усталостью, готовых убивать при малейшей провокации. С другой – двое немых рыбаков в лодке-призраке, чье спокойствие было острее любого копья. А между ними – полоска серой, холодной воды. И туман.
Молчание стало невыносимым. Оно звенело в ушах. И каждый в этом звене слышал свое. Воины – приближение боя. Женщины – возможную смерть своих мужчин. А Ратибор… Ратибор слышал, как на весах судьбы скрипят чаши. На одной – кровь, война и смерть в первый же день на новой земле. А на другой – нечто неизвестное. Возможно, мир. Возможно, торговля. Возможно, жизнь.
И он был тем, кому предстояло бросить на эти весы свою гирьку.
Одно слово. Один жест.
И чаша перевесит.
Глава 31. Железо и Рыба
Тишина больше не звенела. Она загустела до предела, стала твердой, как янтарь, заключив в себе этот напряженный, застывший момент. Палец лучника на тетиве. Рука дружинника, сжимающая древко копья. Затаенное дыхание женщин. И два неподвижных, темных силуэта в лодке. Казалось, мир перестал дышать, ожидая, чья кровь первой окрасит серый песок.
Любое резкое движение, любой громкий крик – и десятки копий и стрел разорвут эту тишину, превратив ее в предсмертный хрип. Ратибор понимал это каждой клеточкой своего тела. Ярость и страх его людей были похожи на натянутый канат. Стоило его отпустить, и он ударит с ужасающей силой, сметая все на своем пути. Но если не отпустить – он может лопнуть сам.
Он должен был сделать первый шаг.
Но какой? Вперед с мечом – и начнется резня, в которой они, возможно, победят, но какой ценой? Отступить? И показать слабость, которая может привлечь за этими двумя целую орду.
Он выбрал третий путь.
– Стоять, – приказал он своим людям. Голос прозвучал ровно, без тени страха или агрессии.
И он вышел вперед. Один. Из кольца щитов и копий. Он сделал несколько шагов по мокрому песку, пока не остановился у самой кромки воды. Между ним и лодкой оставалось не больше десяти шагов. Теперь он был на виду, беззащитный, открытый для любого удара.
Двое в лодке не шелохнулись. Их черные, непроницаемые глаза следили за каждым его движением.
Ратибор медленно, так, чтобы его жесты были видны и понятны, расстегнул тяжелый кожаный пояс. На поясе висел его меч – верный, унаследованный от отца, тот, что пролил немало крови. Он осторожно снял пояс вместе с мечом в ножнах, склонился и положил его на песок. Это был знак. Знак, понятный любому воину, любому мужчине в любом уголке света. «Я пришел не воевать».
Его люди за спиной напряглись еще сильнее, не понимая, что он делает, зачем лишает себя оружия.
Но Ратибор не остановился на этом. Он выпрямился, сунул руку за другой, простой пояс, поддерживавший его штаны, и вытащил нож. Это был не грубый боевой тесак. Это был его лучший нож – из кованого смоленского железа, с рукоятью из полированной кости. Подарок отца на его совершеннолетие. Острый, идеально сбалансированный. Настоящее сокровище в этих диких краях, где железо ценилось дороже золота.
Он не стал им размахивать. Он взял его за лезвие – жест, однозначно показывающий отсутствие угрозы, – и сделал еще один шаг, войдя по щиколотку в ледяную воду. Он протянул нож вперед, рукоятью к лодке.
Предложение. Дар. И проверка.
Тишина стала абсолютной.
Старший из рыбаков, с лицом, похожим на старую, дубленую кожу, перевел взгляд со сверкающего лезвия на лицо Ратибора. Он смотрел долго. Внимательно. Без эмоций. Он не пытался понять его намерения. Он будто заглядывал ему прямо в душу, взвешивая его нутро на каких-то своих, неведомых весах.
"Что он там видит? – думал Ратибор, чувствуя, как холодная вода начинает пробирать до костей. Его рука, державшая нож, была напряжена до предела. – Видит ли он вождя, который хочет мира? Или видит хитрого врага, который пытается усыпить его бдительность? Что есть человек, если отбросить слова? Лишь набор жестов. А как прочесть жест, если ты не знаешь языка, на котором он сделан? Ты можешь лишь довериться. Или не доверяться. Третьего не дано".
Наконец, старик медленно, очень медленно, поднял руку. Его товарищ в лодке даже не шелохнулся, но Ратибор почувствовал, как тот весь подобрался, готовый в любой момент схватить острогу.
Старик перегнулся через борт и взял нож.
Его загрубевшие, темные пальцы сомкнулись на костяной рукояти. Он не отводил взгляда от Ратибора.
Он повертел нож в руке, оценивая вес. Провел большим пальцем по лезвию, слегка нахмурившись, когда на коже выступила капелька крови. Острота железа удовлетворила его. Он коротко хмыкнул – звук, похожий на скрип старого дерева. Это был первый звук, который они издали.
А потом он сделал ответный ход.
Он наклонился, не выпуская ножа из руки, и поднял со дна своей лодки огромную, серебристую рыбину. Она была еще живой и слабо билась в его руках. Не размахиваясь, он точным, выверенным движением бросил ее на берег. Рыба шлепнулась на мокрый песок прямо к ногам Ратибора.
Железо в обмен на рыбу. Технология в обмен на пищу. Мир в обмен на мир.
Договор был заключен. Без единого слова.
Не говоря больше ничего, не делая лишних движений, рыбаки взялись за свои короткие, похожие на лопатки весла. Старший кивнул Ратибору – короткий, почти незаметный кивок. Знак уважения. Или просто признания факта.
Их лодка бесшумно развернулась и снова скользнула в туман, растворившись в нем так же внезапно, как и появилась.
Ратибор остался стоять один, по щиколотку в воде. За его спиной послышался вздох облегчения десятков людей. Напряжение спало. Он наклонился, поднял свой меч, а потом – рыбину. Она была тяжелой, холодной. И пахла морем и жизнью.
Первый хрупкий мост между двумя мирами был построен.
И основанием ему послужили не слова.
А просто кусок железа и дохлая рыба.
Глава 32. Первый Ужин
Когда туман окончательно поглотил лодку пришельцев, напряжение, державшее лагерь в ледяных тисках, лопнуло. Оно не ушло плавно, а именно лопнуло, как лопается перетянутая тетива, с оглушительным внутренним звуком облегчения. Кто-то нервно рассмеялся. Кто-то шумно выдохнул, поняв, что все это время почти не дышал. А кто-то просто опустился на песок, чувствуя, как ноги вдруг стали ватными.
– Живем! – выкрикнул Горазд, и его голос был полон почти мальчишеского восторга. – Живем, братцы!
Ратибор вернулся в круг своих людей. Он держал в одной руке свой меч, а в другой – огромную серебристую рыбину. И в этот момент рыба в его руке казалась не меньшим оружием и символом власти, чем клинок из стали. Он молча протянул ее Боривою.
– Разделывай, – сказал он. – На всех.
И началось движение. Оцепенение спало, уступив место оживленной, почти праздничной суете. Люди снова засмеялись. Снова заговорили. Они обступили Боривоя, который своим большим ножом ловко вспарывал рыбе брюхо, с любопытством разглядывая незнакомую морскую тварь. Развели огонь, и скоро над костром уже висел котелок, в котором варилась уха, а самые большие куски, насаженные на ветки, шипели на углях, распространяя невероятный, сводящий с ума аромат.
Это была не просто еда. Нет. Это было нечто гораздо большее.
Это был знак.
Это был символ. Доказательство того, что этот новый, чужой мир не обязательно враждебен. Что с ним можно говорить. Можно договариваться. Что он может не только отбирать, но и давать. Эта рыба была их первым договором, их первой торговой сделкой, их первым шатким мостиком в будущее.
Когда рыба была готова, ее разделили по-братски. Каждому досталось по куску. И вкус этой белой, нежной, сочной плоти, пропитанной дымом, был вкусом самой жизни. Люди ели медленно, наслаждаясь каждым мгновением. Это была не просто пища для тела. Это был бальзам для их израненных, измученных страхом душ. Они ели и чувствовали, как в них возвращаются силы, как отступает холод безнадеги, который преследовал их так долго.
Ратибор сидел чуть поодаль, на своем месте на дюне, и ел вместе со всеми. Он не чувствовал торжества победителя. Он чувствовал лишь глубокую, бесконечную усталость и легкое, как перышко, облегчение. Ставка сыграла. На этот раз.
К нему подошла Рогнеда. Она села рядом, положив свой меч рядом с его мечом. Они молчали некоторое время, глядя на костер, на смеющихся людей.
– Ты рискнул, – сказала она наконец. Ее голос был ровным, без привычной резкости. В нем не было ни упрека, ни восхищения. Просто констатация факта.
– Сильно рискнул, – добавила она. – Они могли просто проткнуть тебя острогой, пока ты стоял в воде с ножичком наперевес. И забрать твой меч с поясом в придачу.
Ратибор проглотил кусок рыбы и посмотрел туда, где за стеной тумана скрылась лодка.
– Могли, – согласился он.
– Тогда почему ты это сделал?
Он пожал плечами.
– А какой у нас был выбор, Рогнеда? Начать бой? Убить их? Может быть. И что дальше? Мы бы сидели здесь, на этом берегу, съев эту самую рыбу, но зная, что где-то там, в тумане, есть их сородичи, которые теперь наши кровные враги. Мы бы дрожали от каждого шороха, ждали бы мести каждую ночь. Мы были бы в осаде. Не в крепости, а на этом голом песке.
Он перевел на нее взгляд.
"Ты видишь мир как поле боя, – думал он, глядя в ее честные, прямые глаза. – И это делает тебя сильной. Но иногда, чтобы выиграть войну, нужно не начать первую битву. Иногда нужно показать не силу, а… что-то другое. Доверие? Нет, это слишком громкое слово. Скорее, расчетливую уязвимость. Ты показываешь, что готов к миру, но при этом за твоей спиной стоит сотня человек с мечами. Ты предлагаешь торг, но даешь понять, что если они откажутся, торг сменится сталью".
– Я не рискнул, – сказал он вслух, подыскивая правильные слова. – Я поставил.
– В чем разница? – нахмурилась она.
– Рискуют, когда бросаются в омут, не зная, есть ли там дно. А ставку делают, когда у тебя на руках плохие карты, но ты все равно играешь так, будто у тебя самая сильная. Я поставил на то, что они не воины. Что железо им нужнее нашей крови. Поставил на то, что они такие же люди, как мы. Хотят жить, растить детей и спокойно ловить свою рыбу. И пока что… – он усмехнулся, – …пока что я выиграл.
Рогнеда долго молчала, переваривая его слова. Ее мир был проще. Ее мир состоял из ударов и блоков. А его мир становился все сложнее. В нем появлялись полутона, расчеты, ставки.
– Пока что, – повторила она его слова, и в ее голосе прозвучало предупреждение. – Но игра только началась, Ратибор. И в следующий раз ставка может оказаться выше. Гораздо выше, чем просто нож.
– Я знаю, – ответил он, снова поворачиваясь к костру. – Но сегодняшний ужин мы выиграли. А о завтрашнем будем думать завтра.
И на какое-то время они оба замолчали, просто наслаждаясь этим коротким, хрупким моментом мира. Вкусом печеной рыбы. Теплом костра. И тишиной, в которой больше не было страха. Только далекий, убаюкивающий шепот моря.
Глава 33. Шаги по Песку
К полудню туман сдался. Он не ушел сразу, а начал истончаться, рваться на клочья, цепляясь за вершины дюн, и наконец солнце, до этого бывшее лишь тусклым белым пятном, прорвало его оборону. Мир снова обрел краски, объем и звуки. И какой это был мир!
Небо было высоким, пронзительно-синим, вымытым утренней влагой. Море под ним сменило свой утренний серый цвет на глубокий, иссиня-зеленый, с белыми барашками волн. А берег оказался бескрайним, уходящим в обе стороны до самого горизонта, золотисто-белый, усыпанный темными, выброшенными водорослями и разноцветной галькой. Крики чаек, резкие и пронзительные, наполнили воздух.
Пока люди, щурясь от яркого света, приходили в себя после напряженного утра и сытного обеда, Заряна ушла. Она никому ничего не сказала, просто сняла сапоги, оставила их у края лагеря и пошла прочь, вдоль линии прибоя.
Она шла по самой кромке воды, по мокрому, плотному песку, который не проваливался под ногами. Ледяные, шипящие языки волн накатывали на ее босые ступни, омывали щиколотки. Холод был резким, обжигающим, но она, казалось, не замечала его. С каждым шагом она будто смывала с себя остатки речной усталости, человеческих страхов, оставляя их позади, в лагере.
Она не молилась. Не шептала древних слов. Ее разговор с этим местом был другим, безмолвным.
Она слушала.
Слушала, как миллионы песчинок скрипят у нее под ногами – каждая со своей древней историей.
Слушала, как ветер шелестит в жесткой, седой траве, что росла на склонах дюн, и этот шелест был похож на шепот стариков, рассказывающих бесконечные саги.
Слушала ритмичное, вечное дыхание моря – вдох набегающей волны, выдох отступающей. Этот ритм проникал в нее, настраивая биение ее собственного сердца на свой лад.
Она впитывала.
Впитывала ноздрями густой, соленый воздух, в котором смешались запахи йода, гниющих водорослей, сырого песка и чего-то еще – чистого, первозданного, чего не было в их лесных краях.
Впитывала глазами эти бескрайние просторы, это высокое небо, этот горизонт, острый, как лезвие ножа, разделяющий синеву воды и синеву воздуха.
Впитывала кожей прикосновения – холод волн на ногах, тепло солнца на лице, уколы колючего ветра на щеках.
"Ты приходишь на новую землю, как гость в чужой дом, – говорила она со своим внутренним, невидимым миром. – И что ты делаешь? Ты не начинаешь сразу кричать, требовать еды и ночлега. Нет. Ты стоишь на пороге. Молчишь. Смотришь. Слушаешь. Пытаешься понять, как живет этот дом. Какие в нем правила. Какие у него запахи. Кто его настоящий хозяин. Ты знакомишься не с людьми, что в нем живут. Ты знакомишься с духом самого дома. И только когда ты поймешь его, когда он примет тебя, ты можешь войти".
Она шла долго, пока лагерь не превратился в маленькую, едва заметную точку позади. Она была одна. Но она не чувствовала одиночества. Вокруг нее была жизнь – незнакомая, чужая, но могучая и настоящая. Она видела, как стайка мелких куликов-песочников смешно бегает по кромке воды, уворачиваясь от волн. Видела, как вдали темной точкой мелькнула голова тюленя, с любопытством наблюдавшего за ней из воды. Видела краба, боком семенящего по своим делам.
Это была земля, у которой уже была своя жизнь, свои обитатели, свой порядок. Они, пришельцы, были лишь вторжением. Нарушением.
"Мы для них – как камень, брошенный в тихий пруд, – думала она. – Мы создали круги на воде. Встревожили тех двоих, что приходили утром. Зажгли свой шумный костер. Земля чувствует это. Она напряглась. Она наблюдает за нами. Ждет. Что мы будем делать дальше? Станем ли мы частью этого узора? Или попытаемся сломать его, навязать свой? И тогда она… она сотрет нас. Так же просто, как следующая волна смоет мои следы на этом песке".
Она остановилась. Наклонилась и подняла с песка гладкий, плоский камешек с дырочкой посередине – "куриного бога". Она повертела его в руках. Знак удачи. Или просто камень, проточенный водой за тысячи лет. Какая разница, во что верить.
Она посмотрела на свои следы, уходящие за спину. Ровная цепочка на мокром песке. А потом посмотрела вперед, на чистый, нетронутый берег, простиравшийся до самого горизонта.
Ее обряд прощания со старой землей был окончен.
Теперь начинался другой. Долгий, трудный. Обряд знакомства. Принятия.
И первым шагом в нем было это молчаливое, одинокое хождение по песку. Она делала первые, самые важные шаги. Она знакомилась с душой этого места.
И пыталась понять, примет ли эта душа их. Или отторгнет, как чужеродное тело.
Глава 34. Одинокий Валун
Она шла, потеряв счет времени, пока не увидела его. Он лежал не на самом берегу, а чуть поодаль, на границе песка и начинающихся дюн, поросших редкой травой.
Это был огромный валун. Размером с небольшую избу.
Он был не отсюда. Его не родили ни море, ни песок. Он был пришельцем, как и они. Только прибыл он сюда за тысячи, за десятки тысяч лет до них, принесенный с севера великим ледником, который когда-то покрывал всю эту землю. Ледник давно растаял, оставив после себя этого молчаливого, одинокого свидетеля.
Он наполовину врос в землю, будто пустил в нее гранитные корни. Его бока были покрыты густым, ярко-зеленым бархатом мха. А верхушка, открытая ветрам и солнцу, была испещрена картой седых, потрескавшихся лишайников, похожих на письмена, которые никто уже не мог прочесть.
Заряна остановилась в нескольких шагах от него.
Казалось бы, просто камень. Большой, старый, но камень. Однако от него веяло… чем-то другим. Чем-то живым. От него исходил покой. Но это был не тот ласковый покой, что исходит от теплой печи или спящего ребенка. Нет. Это был покой вечности. Покой того, что видело рождение и смерть лесов, рек и, может быть, даже самих звезд. Покой, настолько глубокий и древний, что человеческая жизнь рядом с ним казалась лишь суетливым трепетом крыльев мотылька-однодневки. И от этого покоя Заряне стало страшно.
Ее собственный мир, мир духов и богов, которых она знала, был живым, страстным. Боги гневались, любили, ревновали, требовали жертв. Духи леса и воды были капризны, их можно было задобрить, с ними можно было договориться. Они были частью ее мира, понятными, хоть и могущественными силами.
А этот камень… он был вне всего этого. Он был старше.
Он был изначальнее.
"Ты приходишь в новый дом, – шептал ей внутренний голос, тот, что говорил с ней на языке видений и предчувствий. – Ты хочешь поговорить с хозяином. И ты ищешь его на троне. С короной на голове. А настоящий хозяин – это не тот, кто сидит на троне. Это тот, кто заложил первый камень в основание этого дома. И этот камень здесь. Перед тобой".
Она медленно, с благоговением, которое сама не до конца понимала, подошла к нему. Воздух вокруг валуна был другим – тише, плотнее. Она протянула руку и коснулась его поверхности.
Ладонь ощутила холод. Глубинный, идущий из самого сердца камня, холод тысячелетних зим. И шершавость. Мириады кристалликов кварца и слюды царапали кожу. Это была кожа земли. Настоящая, без прикрас.
Она закрыла глаза. И прислушалась. Не ушами. А всей своей сущностью жрицы.
И она почувствовала.
Это не был голос. Не была мысль, облеченная в слова. Это было чистое, беспримесное ощущение, которое хлынуло в нее через кончики пальцев и заполнило все ее существо.
Ощущение Времени. Не того, что измеряется днями и годами. А другого. Великого, текучего и бесконечного, как река, впадающая в саму себя.
Ощущение Присутствия. Не личности. Не духа, с которым можно поговорить. А просто могучей, дремлющей силы. Силы, которой было абсолютно все равно, есть ли она, Заряна, есть ли ее народ, есть ли их горе, их надежды, их боги. Для этой силы они были меньше, чем песчинка на ее гранитном боку. Их появление и исчезновение не изменило бы ровным счетом ничего.
Ощущение безразличия.
Именно оно было самым страшным. Можно сражаться с врагом, можно договориться с капризным духом. Но что делать с силой, которой ты просто не интересен? Которая не замечает твоего существования?
Заряна отдернула руку, будто обжегшись. Она тяжело дышала. Она заглянула за завесу своего привычного мира. И увидела то, что было под ним. Изначальную, стихийную мощь, из которой все родилось и в которую все вернется.
Она не стала произносить молитв. Какие молитвы можно произнести перед тем, что старше самих богов? Она не стала оставлять требы. Что может дать мотылек горе?
Она просто склонила голову. Не в поклоне раба перед господином. А в знаке глубокого, почтительного признания. Признания факта. Факта того, что они пришли в мир, где их привычные законы могут не работать. В мир, чьи истинные хозяева – не люди и даже не духи, а вот такие вот молчаливые, древние свидетели сотворения мира.
Она поняла главную истину этого места. Чтобы выжить здесь, им придется не покорять.
А вписываться.
Становиться еще одним узором на этом древнем камне. Незаметным, но прочным.
Она повернулась и пошла обратно в лагерь. Теперь она знала, с кем ей предстоит говорить в своих будущих обрядах. И этот разговор будет самым трудным в ее жизни.
Глава 35. Рябь на Воде
Вечер пришел на берег незаметно. Солнце, устав за день, лениво опускалось в холодную постель моря, окрашивая горизонт в невероятные, драматичные цвета – от расплавленного золота до глубокого фиолетового. Ветер стих. Наступил тот короткий, волшебный час затишья между днем и ночью.
Ратибор сидел на вершине самой высокой дюны, спиной к лагерю. Он не участвовал в общей суете – приготовлении ужина, проверке лодок. Он был на своем, негласном посту. Отсюда было видно все: и беспокойное море, и темнеющую стену леса, и их маленький, уязвимый лагерь.
Он точил свой меч. Движения его были медленными, выверенными, почти медитативными. Ш-ших, ш-ших – брусок скользил по стали, и этот звук был единственным, что нарушало вечернюю тишину. Это было не просто ремесло. Это был его способ привести мысли в порядок. Каждый взмах, снимающий зазубрину, был похож на попытку убрать зазубрины в собственной душе. Но они появлялись снова и снова.
Заряна нашла его здесь. Она поднялась на дюну так тихо, что он заметил ее, только когда ее тень упала на песок рядом с ним. Он не обернулся, продолжая свое занятие.
Она села рядом, обхватив колени руками. Она долго молчала, глядя туда же, куда и он – на грандиозный, безмолвный закат.
– Красиво, – сказала она наконец. Ее голос был тихим, в нем не было ни восторга, ни благоговения. Просто констатация. – Но это не наша красота.
Ратибор остановил движение.
– А разве бывает "наша" и "не наша" красота? – спросил он, не поворачивая головы.
– Бывает, – твердо ответила она. – Красота дома – она теплая. Она согревает. Как улыбка матери. А эта… – она повела рукой в сторону горизонта, – …она холодная. Как взгляд чужого, могущественного бога, который смотрит сквозь тебя и не видит.
Он ничего не ответил. Она сказала именно то, что он и сам смутно чувствовал.
– Я сегодня далеко ходила, – продолжила Заряна, и ее голос стал еще тише, почти превратился в шепот. – Я нашла… одного из старых.
Ратибор повернулся и посмотрел на нее. Он понял, что она говорит не о человеке.
– Эта земля… она очень старая, – сказала Заряна, глядя ему прямо в глаза. И в ее зрачках отражалось догорающее солнце. – Древнее наших богов, Ратибор. Когда Перун еще не выковал свой первый гром, а Велес не сосчитал первых звезд, камень, которого я сегодня коснулась, уже лежал здесь. И смотрел на это же небо.
Она говорила о вещах, которые лежали за гранью его понимания, но он слушал. Потому что в ее словах была не выдумка, а глубокое, выстраданное знание.
– Здесь живут духи. Но не такие, как у нас дома. Не домовые, что просят каши. Не лешие, что путают тропы. Это другое. Духи камня, которому миллион зим. Духи воды, что помнит, как рождалась луна. Духи ветра, что прилетают с ледяного полюса. – Она обхватила себя руками, будто ей стало холодно, несмотря на теплую одежду. – И знаешь, что самое страшное? Им все равно. Абсолютно все равно, кто мы. Живы мы или мертвы. Молимся мы им или проклинаем. Они не примут наших треб так просто. Они не станут нашими защитниками. Мы для них – рябь на воде. Прошла… и исчезла. И гладь снова сомкнулась, будто ничего и не было.
Она замолчала. И это молчание было тяжелее любых слов. Ратибор почувствовал, как холодок пробежал у него по спине. Она озвучила его собственный, подсознательный страх. Страх ничтожности.
– И что нам делать? – горько усмехнулся он, чтобы скрыть внезапную дрожь. – Уйти? Вернуться в реку и сдохнуть в ее болотах?
Его слова прозвучали резко, зло. Но Заряна даже не вздрогнула.
– Нет, – твердо сказала она.
Она наклонилась, зачерпнула пригоршню песка. Просеяла его сквозь пальцы.
– Мы должны доказывать.
– Кому? – не понял он. – Этим камням? Ветру?
– Самим себе. И им, – она кивнула на безмолвный, темнеющий мир вокруг. – Доказывать свое право быть здесь. Каждым днем. Каждым вбитым в землю колом. Каждым построенным домом. Каждым зерном, брошенным в эту скудную землю. Каждым ребенком, рожденным здесь, чей первый крик услышат эти дюны.
Она повернулась к нему, и ее глаза в наступивших сумерках горели темным, яростным огнем.
– Мы должны не просить у них разрешения, Ратибор. Они его не дадут. Мы должны стать частью этой земли. Пустить в нее корни. Свои, человеческие корни. Кровью, потом, костями наших мертвецов, которых мы здесь похороним. Пустить корни так глубоко и так упрямо, чтобы она не смогла нас вырвать. Чтобы мы перестали быть для нее рябью на воде и стали одним из ее камней.
Она высыпала остатки песка и встала.
– Это будет долго. И трудно, – сказала она уже спокойнее. – И многие из нас станут просто удобрением для этих корней. Но другого пути нет.
Она ушла, оставив его одного.
Он долго сидел, глядя на свой меч, лежавший на песке. Он думал, что главное оружие – это сталь. А она сказала ему, что их главное оружие – упрямство. И дети, которые еще даже не родились.
Он посмотрел на море. Рябь, вызванная ветром, бежала по его темной поверхности.
И он понял. Он не хотел быть рябью.
Он хотел стать камнем.
Даже если для этого ему придется врасти в эту землю по самое сердце.
Глава 36. Взгляд с Холма
После разговора с Заряной что-то сместилось в голове Ратибора. Бесцельное выживание начало обретать контуры плана. Он понял: нельзя вечно сидеть на этом открытом берегу, как выброшенные на сушу рыбы, ожидая милости от моря или от неведомых соседей. Нужно пускать корни, как сказала жрица. А для этого нужно найти подходящее место.
Следующие несколько дней, оставив основной лагерь под охраной Боривоя, он уходил на разведку. С ним была Рогнеда – ее острый, практичный взгляд был незаменим – и еще трое самых выносливых и молчаливых воинов. Они двигались налегке, как тени, исследуя побережье то в одну, то в другую сторону.
Местность была суровой, но не бесплодной. За полосой дюн начинались сосновые боры, где воздух был густым и смолистым. Они находили ручьи с пресной водой, поляны, заросшие ягодами, видели вдали лосей, что вселяло надежду на удачную охоту. Но они искали не это. Они искали Место.
"Что делает просто клочок земли – Местом? – размышлял Ратибор, продираясь сквозь колючий кустарник. – Не только удобство. Не только защита. Должно быть что-то еще. Что-то, что заставляет тебя остановиться и сказать: 'Здесь'. Какое-то внутреннее чутье, созвучие твоей души и души этой земли. Отец так выбирал место для заставы. Он ходил, смотрел, а потом вдруг останавливался и говорил: 'Вот тут будем строить. Кости предков велят'. Я не слышу голоса предков. Но я пытаюсь услышать голос этой земли. Или хотя бы свой собственный".
Они нашли его на третий день.
Пройдя несколько верст вдоль берега на восток, они увидели, как в море впадает небольшая, но полноводная речка с темной, торфяной водой. А прямо у ее устья, на высоком мысу, возвышался холм.
Они поднялись на него. Ветер здесь был сильнее, он трепал волосы и одежду, наполнял уши своим низким, протяжным гулом. И отсюда… отсюда было видно все.
С одной стороны, перед ними, как на ладони, лежал бескрайний морской простор. Любой корабль, идущий вдоль берега, был бы замечен задолго до того, как он сможет пристать. С другой стороны виднелось устье реки, уходящей, как змея, вглубь темного леса. Это была дорога. Дорога внутрь материка. Пресная вода, рыба, путь для лодок. А сам холм с двух сторон был защищен крутыми, почти отвесными обрывами, у подножия которых бились волны и журчала река.
Рогнеда обошла вершину холма, ее глаза хищно блестели. Она простукивала землю древком копья, оценивала склоны, прикидывала расстояние. Она видела поле боя. Она видела крепость.
– Идеальное место, – вынесла она свой вердикт. В ее голосе звучало профессиональное, почти любовное восхищение. – Просто идеальное. Смотри.
Она указала копьем.
– С трех сторон – вода и обрыв. Неприступно. С единственной доступной стороны, от леса, – ровное, открытое поле. Любой враг будет как на ладони. Здесь ставим высокий частокол. Двойной. Ров перед ним. По углам – вышки. – Ее глаза горели. – Да сюда мышь не проскочит! Не то что вражеская дружина. Это природная крепость. Боги сами построили ее для нас.
Она была права. С точки зрения войны это место было безупречным. Любой воевода отдал бы за него полжизни.
– Да, – согласился Ратибор.
Он стоял на самом краю обрыва, и ветер бил ему в лицо. Он тоже видел все то, что видела Рогнеда. Он видел стены, дозорных, видел, как его дружина отбивает атаку врага на этом поле.
Но он видел и другое.
Там, где Рогнеда видела неприступный обрыв, он видел место для пристани, защищенной от морских штормов изгибом мыса. Туда будут приходить их рыбацкие лодки, а может быть, однажды, и торговые корабли из далеких земель.
Там, где она видела ровное поле для обороны, он видел будущие пашни, на которых будет колоситься рожь и ячмень, принесенные с родной земли.
За частоколом, который она уже мысленно строила, он видел не казармы. Он видел дома с дымящимися трубами. Слышал не лязг оружия, а плач младенцев и смех детей.
Он смотрел на это место, и он видел не просто крепость, способную выдержать осаду.
Он видел будущее.
Рогнеда видела место, где можно было выжить.
А Ратибор увидел место, где можно было жить.
– Здесь мы и останемся, – сказал он, и его слова не были ни вопросом, ни предложением. Это было решение. Окончательное и бесповоротное.
Ветер подхватил его слова и унес их в сторону моря, словно разнося весть по этому новому, суровому миру.
Весть о том, что эти упрямые пришельцы наконец-то нашли свой дом.
И что они не собираются отсюда уходить. Ни-ко-гда.
Глава 37. Чужие Следы
Они уже собирались возвращаться в лагерь с доброй вестью, когда Верен, один из молодых воинов, спустившийся к реке, чтобы набрать воды во флягу, тихо позвал Ратибора.
– Вождь, иди сюда. Посмотри.
Они подошли к самой воде. Речной берег здесь был не песчаным, как у моря, а илистым, мягким. И на этом влажном иле, четкие, как печать на воске, были следы.
Это были не следы зверей. И не отпечатки тяжелых, подбитых гвоздями сапог, которые носили дружинники. Эти следы были меньше. Босые. Принадлежавшие, судя по размеру, либо женщине, либо подростку. Они вели из прибрежных зарослей камыша к воде и обратно. И их было много, они были свежими. Может быть, вчерашними. Или даже сегодняшнего утра.
А чуть поодаль Рогнеда заметила и другое. Большой плоский камень у самой воды был гладко вымыт, а трава вокруг него – примята. На ветке ольхи, склонившейся над водой, зацепилась длинная, грубая нить, похожая на конопляную.
– Здесь стирали, – сказала она коротко. – И совсем недавно.
Сердца воинов напряглись. Восторг от найденного идеального места мгновенно сменился трезвой, холодной осторожностью. Это идеальное место, оказывается, было уже занято.
Они не одни.
"Как глупо, – пронеслось в голове Ратибора. – Думать, что такая земля, с пресной водой, с лесом, с выходом к морю, будет пустовать. Как самонадеянно было считать себя первыми. Мир никогда не бывает пустым. Если ты чего-то не видишь, это не значит, что этого нет. Это значит, что оно просто хорошо прячется. И смотрит на тебя".
– Искать, – приказал он. – Осторожно. Ни звука.
Они разделились и, как волки, пошли по невидимым тропам, продираясь сквозь прибрежные заросли. Искать долго не пришлось. Метрах в ста от реки, на небольшой, укрытой от ветров полянке, они нашли то, что заставило их замереть.
Это было капище.
Но оно не было похоже на их родные святилища. Не было ни могучего идола Перуна, ни бородатого лика Велеса. Здесь все было по-другому. Древнее.
Несколько больших, поросших мхом валунов были установлены в виде почти идеального круга. В центре круга чернел оплавленный, низкий камень – жертвенник, со следами старых огней. А за ним, вкопанный в землю, стоял идол.
Он был вырезан из цельного куска мореного дуба, отчего казался почти черным. И он был странным. У него не было одного лица. У него было несколько личин, вырезанных со всех сторон столба. Одно лицо было похоже на человеческое, с широко открытым, кричащим ртом. Другое – на морду медведя или волка. Третье напоминало хищную птицу с изогнутым клювом. Это было многоликое, многосущностное божество. Дух этого места. Покровитель и леса, и воды, и неба.
Место было старым. Очень старым. Тропинка к нему была утоптана ногами сотен, а может, и тысяч поколений. На ветвях окружающих деревьев висели выцветшие ленточки, пучки перьев, рыбьи кости – скромные, но многочисленные дары. От этого места веяло силой. Не враждебной. Но чужой. Абсолютно, тотально чужой.
Воины молчали, глядя на это странное капище. Даже прагматичная Рогнеда невольно покрепче сжала рукоять меча. Это было не просто доказательство присутствия людей. Это было доказательство существования их мира, их веры, их истории.
– Вот и хозяева, – прошептал Верен.
Ратибор медленно обошел капище. Он не стал заходить внутрь круга камней. Он чувствовал – это было бы святотатством. Оскорблением. Он посмотрел на многоликого идола.
"Так вот ты какой, – думал он, обращаясь к молчаливому деревянному божеству. – Хозяин этого холма, этой реки. Это к тебе приходит та женщина, чьи следы мы видели. Просит удачной стирки, здоровых детей, рыбы в сетях. А мы пришли сюда со своими мечами, со своими богами, со своими планами. И мы хотим забрать твою землю. Забрать у твоих людей. Что ты нам скажешь на это, молчаливый идол? Будешь ли ты биться за своих? Или позволишь чужакам построить на костях твоего святилища свою крепость?"
Идол молчал. Но Ратибору показалось, что одна из его личин – та, что с хищным оскалом, – смотрит прямо на него.
– Они здесь. Рядом, – сказал он своим воинам, и его голос в тишине священной рощи прозвучал приглушенно.
Он повернулся и посмотрел в сторону их лагеря, которого не было видно за деревьями.
– И они следят за нами. С той самой минуты, как мы вышли из устья реки. Они видели наш костер. Они слышали наш смех. И они молчат. Ждут. Оценивают.
Он снова посмотрел на следы, на идола.
– У нас было идеальное место для крепости, – сказал он тихо. – А теперь у нас есть идеальное место для войны.
Его воины молча кивнули, понимая, что он прав.
Восторг прошел окончательно. Началась реальность. И реальность заключалась в том, что этот холм, это устье реки, этот выход к морю – не был подарком судьбы.
Это была чужая земля. И за нее придется драться.
Глава 38. Невидимые Соседи
Они вернулись в лагерь под вечер, когда солнце уже начало клониться к горизонту, окрашивая море в цвет старого вина. Их лица были мрачны. Они несли с собой не добрую весть, а тревогу. Радостные крики и вопросы, с которыми их встретили, быстро стихли, когда люди увидели выражение лиц разведчиков.
Ратибор собрал всех у костра. Не было нужды в долгих предисловиях. Он рассказал все как есть. О следах. О месте, где стирали белье. О древнем капище и многоликом, чужом идоле. Он не приукрашивал и не пугал. Он просто излагал факты. Сухие, жесткие факты.
– Мы не одни, – закончил он. – Эта земля не пуста. Хозяева здесь. Рядом.
Новость упала в центр их маленького сообщества, как камень в воду, вызвав круги страха и тревоги.
Только что обретенное чувство безопасности, пьянящее ощущение свободы – все это испарилось, как утренний туман. Рай обернулся ловушкой. Люди, которые еще утром смеялись и строили планы, теперь сидели с напряженными, испуганными лицами.
Мир вокруг них мгновенно изменился. Он перестал быть просто диким. Он стал враждебным.
Теперь темная стена леса, которая начиналась всего в сотне шагов за дюнами, была не просто деревьями. Это была завеса. Стена, за которой пряталась неведомая опасность.
– И что теперь? – спросил один из старших мужиков, Творимир. Его голос был надтреснутым. – Уходим отсюда? Ищем другое место?
– Куда уходить? – резко оборвала его Рогнеда. – Назад, в реку, чтобы сдохнуть в болотах? Плыть вдоль берега, пока не найдем пустыню, где никто не живет? Любая хорошая земля, годная для жизни, уже кем-то занята. Так было и так будет.
– Она права, – подтвердил Ратибор. – Мы никуда не уходим. Мы нашли лучшее место, какое только могли. И мы останемся на том холме.
– Но… люди? – пролепетала одна из женщин. – Они… они нас убьют?
Ратибор посмотрел на нее. На ее испуганное, бледное лицо.
– Не знаю, – ответил он честно. – Они знают, что мы здесь. И они не напали. Они выжидают.
– Они сильнее нас! – выкрикнул кто-то из толпы. – Они у себя дома! Они знают каждую тропу, каждое дерево! А мы здесь как слепые котята!
Поднялся ропот. Страх, подавленный эйфорией, возвращался, обретая новую, конкретную форму. Враг перестал быть абстрактным. У него появились следы на иле. У него был свой бог.
"Вот он, настоящий враг, – думал Ратибор, глядя, как волна паники начинает захлестывать его людей. – Не те невидимые соседи, что прячутся в лесу. А этот. Тот, что сидит внутри каждого. Страх перед неизвестностью. Он гораздо хуже меча. Меч убивает тело. А страх убивает душу. Он парализует. Заставляет бежать, когда надо стоять. И кричать, когда нужно молчать".
Он дал им выговориться. Дал страху выплеснуться наружу. А потом поднял руку, призывая к тишине.
– Да, они знают эту землю лучше нас, – сказал он, когда ропот стих. – Да, мы не знаем, кто они и чего хотят. Все это правда. Но и они не знают, кто мы.
Он обвел их всех стальным взглядом.
– Они видели наши лодки. Они видели дым нашего костра. Но они не напали. Почему? Потому что они тоже боятся. Они не знают, сколько нас. Не знают, как мы вооружены. Они видят перед собой чужаков, которые пришли с оружием и огнем. Может быть, они боятся нас еще больше, чем мы их.
Он говорил медленно, чеканя каждое слово.
– Мы не будем нападать. Но и убегать мы не будем. Завтра утром мы перенесем лагерь на тот холм. И начнем строить острог. Крепкий, высокий, с дозорными вышками. Мы покажем им, что мы пришли сюда не на один день. Что мы пришли, чтобы остаться. И что мы умеем защищать свое. Пусть смотрят. Пусть видят, что мы не беззащитные овцы, которых можно зарезать. Пусть видят воинов. И тогда, может быть, они придут говорить. А не убивать.
Его слова не успокоили их полностью. Но они дали им цель. План действий. Страх остался. Но он перестал быть парализующим. Он превратился в острое, колючее чувство, которое заставляло чаще оглядываться, крепче сжимать рукоять топора, тише говорить у костра.
Этой ночью мало кто спал спокойно.
Каждый треск ветки в лесу, каждый крик ночной птицы казался знаком.
Люди смотрели на темную стену деревьев.
И им казалось, что из-за каждого ствола, из-за каждого куста, из глубокой, непроницаемой тьмы на них смотрят.
Сотни.
Невидимых.
Чужих.
Глаз.
Глава 39. Гнев Моря
Бессонная, тревожная ночь сменилась таким же тревожным утром. Но угроза пришла не из леса, откуда ее так напряженно ждали. Она пришла с другой стороны. С моря.
Началось это с перемены ветра. Он вдруг стих, и наступила странная, давящая тишина, какая бывает перед грозой. Воздух стал плотным, тяжелым, его было трудно вдыхать. Море, до этого сине-зеленое, живое, стало тусклым, свинцово-серым, похожим на застывший жир. Исчезли чайки. Их пронзительные крики, ставшие уже привычным фоном, смолкли, будто птицы заранее знали, что грядет нечто страшное.
А потом с запада, со стороны открытого моря, на горизонте появилась темная, почти черная полоса. Она стремительно росла, пожирая чистое небо, расползаясь по нему, как чернила по мокрой ткани.
– Буря, – прохрипел старый Боривой, который видел немало гроз на реках и озерах. Но даже он смотрел на чернеющее небо с суеверным ужасом. – Великая буря.
Небо почернело за считанные минуты. День превратился в глубокие сумерки. И вместе с тьмой пришел ветер.
Это был не тот ровный морской бриз, что они чувствовали раньше. Это был дикий, яростный вой. Он налетел на их лагерь, как стая невидимых демонов, швыряя в лицо песок, который сек кожу, как стеклянная крошка. Он рвал плохо закрепленные навесы из шкур, трепал волосы, забивался в легкие, не давая дышать. Звук его был многоголосым – он свистел, гудел, выл на разные лады, и в этом вое слышалась неприкрытая, злая мощь.
А следом за ветром проснулось море.
Оно вздыбилось. Та спокойная, дышащая гладь исчезла, будто ее и не было. Вода почернела. Волны, которые еще утром лениво лизали песок, превратились в огромные, косматые валы с грязными, пенными гребнями. Они рождались где-то там, во тьме, и с нарастающим, утробным ревом неслись на берег.
Удар.
Грохот, от которого содрогалась земля.
Шипение, когда тонны воды откатывались назад, утаскивая с собой гальку и песок.
И снова. Удар. Грохот. Шипение.
Этот ритм был гипнотическим и ужасающим. Море больше не дышало. Оно ревело. Оно было в ярости.
Люди в панике бросились спасать свои пожитки. Схватили лодки, которые еще вчера казались надежно вытащенными на берег, и потащили их выше, в дюны, подальше от наступающей воды. Волны уже не просто лизали песок. Они с ревом обрушивались на берег, перехлестывая через то место, где еще час назад стоял их лагерь. Холодная, соленая вода добиралась до самого кострища, шипела на еще теплых углях.
Это было не просто ненастье. Это был гнев. Гнев стихии. Гнев этого места.
"Ты думал, твой враг прячется в лесу? – кричал ветер прямо в уши Ратибору, пока он вместе с остальными, напрягая все жилы, тащил тяжелую ладью вверх по склону дюны. – Ты ждал удара от людей, от чужих богов? Какая наивность. Посмотри. Вот он, твой настоящий враг. Тот, кому не нужны ни копья, ни стрелы. Тот, кто может смыть тебя, твой народ, твой будущий город, как смывает след на песке. И он даже не заметит этого".
Они сгрудились в лощине между дюнами, прижавшись друг к другу. Ветер выл над их головами. Рев моря заглушал все. Казалось, мир рушится. Что сама земля сейчас треснет под ударами этой яростной воды.
Женщины плакали. Дети кричали от страха. Даже самые закаленные дружинники были бледны. Они были воинами. Их учили биться с людьми. Но как биться с морем? Как отразить удар волны, которая весит больше, чем весь их отряд?
В этом не было ничего личного. Просто первобытная, стихийная ярость. Или, может быть, это духи, о которых говорила Заряна, – духи камня, ветра и воды – показывали им, кто здесь настоящий хозяин? Показывали ничтожность их планов, их стен, их мечей перед лицом истинной, изначальной силы?
Начался первый шторм. Их первое боевое крещение на этой земле.
И врагом в этой битве была сама природа. Врагом, которого невозможно было ни победить, ни понять.
Можно было только пережить.
Или погибнуть.
Глава 40. Урок Природы
Ночь была адом, сотканным из рева, холода и летящего песка. Они не разводили огня – его бы мгновенно затушило ветром и брызгами. Они просто жались друг к другу в своей лощине, укрываясь шкурами и собственными телами. Ветер, казалось, пытался содрать с них кожу. Песок, смешанный с соленой водяной пылью, забивался в глаза, в нос, скрипел на зубах. Рев моря был таким оглушительным, что временами казалось – вот-вот лопнут барабанные перепонки.
В этом хаосе звуков не было места словам. Не было места даже мыслям. Остались только инстинкты. Держаться. Не отпускать своего ребенка. Прижиматься к спине товарища, чтобы согреться. Пережидать. Просто пережидать, как пережидают лесной пожар или чуму, надеясь, что смерть пройдет мимо.
Ратибор лежал вместе со всеми, пытаясь своим телом укрыть Светлану и маленького мальчика-сироту. Он чувствовал, как они дрожат – не столько от холода, сколько от ужаса. И он сам… он чувствовал то же самое. Всю его гордость вождя, всю его воинскую спесь сдуло этим ветром, как шелуху. Перед лицом этой стихии он был никем. Просто испуганным, замерзшим существом, вцепившимся в жизнь.
Самый страшный момент настал среди ночи. Над непрекращающимся ревом моря раздался новый звук – громкий, сухой треск, похожий на звук ломающегося хребта. Звук умирающего дерева.
Несколько мужчин, включая Ратибора, выползли на гребень дюны, чтобы посмотреть.
Картина была апокалиптической. В мутном, призрачном свете, который сочился сквозь рваные тучи, они увидели, как море добралось до их лодок. Несмотря на то, что они затащили их так высоко, как только могли. Одна из лодок, самая старая, измученная долгой дорогой по реке, не выдержала. Огромный, почти с саму дюну высотой, водяной вал подхватил ее, как щепку. На мгновение она взлетела, перевернулась в воздухе, а потом волна с чудовищной силой швырнула ее обратно на берег, на прибрежные камни, которые до этого скрывала вода.
Тот треск, что они слышали, был звуком ее ломающихся шпангоутов. Их ковчег, их единственная надежда на бегство, если бы оно понадобилось, был уничтожен.
Утром все стихло так же внезапно, как и началось. Ветер ушел. Море, хоть и было все еще неспокойным, перестало реветь, лишь тяжело и устало ворочало мутными, серыми волнами. Из-за туч выглянуло бледное, невыспавшееся солнце.
Люди выползли из своего укрытия. Замерзшие, измученные, покрытые слоем липкого песка.
И они пошли на берег.
То, что еще вчера было их лагерем, исчезло. Море слизало все: кострище, мелкие вещи, которые не успели унести. Берег был неузнаваем. Он был перепахан, усыпан горами свежих водорослей и мусора, который вынесло из морских глубин.
А на камнях, раскинув свои сломанные ребра, лежали обломки их лодки.
Они стояли и молчали, глядя на это печальное зрелище. Это была не просто потеря трети их транспорта и припасов. Это была потеря символа. Уничтожение их пути сюда. Словно море сказало им: "Вы пришли. Хорошо. Но обратной дороги для вас больше нет".
Ратибор смотрел на растерзанный остов лодки. В голове его было пусто. Все планы, все мысли о невидимых соседях, о строительстве крепости – все это казалось сейчас таким мелким, таким ничтожным.
"Ты думал, что главная битва будет с людьми, – говорил ему его внутренний, теперь уже совсем безжалостный голос. – Ты готовился к войне мечей. А оказалось, что настоящая война – вот она. Война с этим. С ветром, что может снести твой дом. С водой, что может разбить твои корабли. С землей, что может отказаться тебя кормить".
Он посмотрел на своих людей. На их осунувшиеся, измученные лица. Они были напуганы. Деморализованы. Они получили наглядный, жестокий урок.
Здесь хозяином была не сила меча, а сила природы.
Здесь правила устанавливал не вождь, а шторм.
Здесь выживал не тот, кто храбрее, а тот, кто сможет приспособиться, вжаться в землю, переждать.
И чтобы выжить, им придется научиться не покорять этого грозного и безжалостного бога. Не сражаться с ним.
А научиться его уважать. Слушать его дыхание. Угадывать его настроение. И строить свой дом не там, где хочется, а там, где он позволит.
Ратибор повернулся и посмотрел на холм, который они выбрали вчера. Холм у устья реки. Он стоял, незыблемый, и волны, даже самые большие, разбивались у его подножия, не в силах причинить ему вреда.
Теперь он понял.
Место было выбрано правильно.
Не его воинским чутьем.
А самой природой, которая только что показала им, где именно нужно прятаться от ее гнева.
Урок был жестоким.
Но, возможно, спасительным.
Глава 41. Решение
Утреннее солнце поднялось выше, но не принесло тепла. Его лучи лишь подчеркивали картину разрушения и безнадежности. Люди бесцельно бродили по разоренному берегу, собирая то, что пощадило море: промокшие мешки, какую-то утварь, обломки дерева, которые могли пригодиться для костра. Они двигались медленно, апатично, как люди, пережившие тяжелую болезнь. Шторм вымотал не только их тела. Он вымотал их души.
Ратибор смотрел на них, и в его сердце закипала холодная, бессильная ярость. Ярость на море, на свою собственную недальновидность, на ту хрупкость их положения, которую шторм так безжалостно обнажил. Он понял, что нельзя позволить этому оцепенению, этому параличу ужаса, овладеть ими. Нужен был толчок. Новое действие. Новая, ясная цель.
Он взобрался на гребень ближайшей дюны, чтобы его было видно и слышно всем. Он не стал кричать. Его голос прозвучал ровно, но с такой силой и уверенностью, что люди замерли и повернулись к нему.
– Мы не можем оставаться здесь, – сказал он, обводя рукой опустошенный берег. – На этом открытом, незащищенном песке. Море показало нам, чего стоит наша жизнь, если мы не укроемся от его гнева. Лес показал нам, что у него есть свои хозяева, которые следят за нами. Сидеть здесь и ждать – значит ждать смерти. Либо от следующей бури, либо от стрелы в спину.
Он сделал паузу, давая каждому прочувствовать вес его слов. Он не пытался их утешить. Он вбивал в них правду, как кузнец вбивает гвозди.
– Я обещал вам новый дом. И я нашел место для него.
Он указал на восток, туда, где в утренней дымке смутно виднелся темный силуэт мыса.
– Там, у устья реки, стоит высокий холм. С трех сторон его защищает вода и крутой обрыв. С четвертой – ровное поле. Это место создано, чтобы защищать. Чтобы в нем жить.
Его голос становился тверже, увереннее, изгоняя из душ людей остатки ночного ужаса.
– Мы переносим лагерь туда. Сегодня же. Там мы будем строить наш дом. Не временный шалаш из веток, который сдует первым же ветром. А настоящую крепость. С высоким частоколом, с крепкими воротами, с домами, которые выдержат любую зиму.
Он посмотрел на разбитую лодку. На лица своих людей, измученные и грязные.
– Эта земля показала нам свой нрав. Она сурова. Она жестока. Она не прощает ошибок, – говорил он. – Хорошо. Мы принимаем ее правила. Мы тоже будем суровыми. Мы тоже будем жестокими к своим слабостям. Мы вгрыземся в вершину того холма. Мы пустим в него корни из дерева и камня. Мы станем частью этой земли, ее самым острым и несгибаемым шипом. Море не смоет нас. Ветер не сдует. А люди… – он усмехнулся, и в этой усмешке было больше угрозы, чем в оскале волка, – …люди из леса сто раз подумают, прежде чем подойти к стенам, которые мы построим.
Он закончил. И в наступившей тишине было слышно только, как устало ворочается море.
Никто не возражал.
Ни один человек.
После шторма все всё понимали. Простая, жестокая логика его слов была очевидна. На открытом берегу они были жертвами. На холме у них появлялся шанс стать охотниками. Или, по крайней мере, перестать быть дичью.
Это был единственный путь. Единственный шанс выжить.
"Ты не можешь дать им уверенность в завтрашнем дне, – думал Ратибор, глядя, как люди, повинуясь его молчаливому взгляду, начинают собирать свои скудные пожитки. – Но ты можешь дать им работу на сегодня. Тяжелую, изнурительную, но понятную. Человек, который несет тяжелое бревно, чтобы построить стену своего дома, не думает о голоде или о смерти. Он думает только о том, как донести это бревно. А когда есть цель на один шаг вперед, ты можешь пройти тысячу верст".
Первым к нему подошел Боривой. Он ничего не сказал. Просто поднял с земли обломок мачты от разбитой лодки, взвалил на свое могучее плечо и, кивнув Ратибору, пошел. Пошел на восток, в сторону холма. За ним двинулись другие.
Молча. Сосредоточенно.
Их исход с этого негостеприимного берега начался. Это было не бегство, как в прошлый раз.
Это было осознанное, выстраданное движение к единственному месту, которое могло стать их спасением.
И их домом.
Глава 42. Здесь Будет Город
Переход был тяжелым, как и все в их новой жизни. Они шли по вязкому песку, потом продирались сквозь колючие заросли, неся на себе не только свои скудные пожитки, но и раненых духом детей и стариков. Каждый шаг давался с трудом. Ноги вязли, дыхание сбивалось, но никто не жаловался. Они шли не от чего-то. Они шли к чему-то. И эта простая перемена наполняла их тяжелый путь смыслом.
Холм, вблизи оказавшийся еще выше и неприступнее, встретил их молчанием и шумом ветра. К вечеру, измученные до предела, они перетащили наверх последнее. Лагерь разбили на самой вершине, на широкой, относительно ровной поляне, поросшей жесткой травой и вереском.
Солнце снова клонилось к закату, и его косые, длинные лучи заливали все вокруг мягким золотистым светом. Усталость валила с ног. Люди падали на землю там, где стояли, готовые уснуть мертвым сном. Но Ратибор знал, что этот день нужно закончить не так. Не стоном облегчения, а знаком. Символом, который врежется в память каждого.
Он взял свое копье. То самое, с которым выходил из пепелища родного дома. К его древку был привязан небольшой, потрепанный в пути, но все еще яркий стяг его рода – вышитая волчья голова с оскаленной пастью на красном, как кровь, фоне. Знак упрямства, ярости и верности стае.
Он поднялся на самую высокую точку холма, на скальный выступ, с которого открывался вид и на море, и на реку, и на бесконечный лес. И он со всей силой, вложив в этот удар всю свою боль, всю свою надежду, всю свою волю, вонзил копье в землю.
Древко содрогнулось, глубоко войдя в каменистую почву. Потрепанный стяг затрепетал, забился на ветру, как живое, раненое сердце.
Этот звук – звук вонзающегося в землю железа – заставил людей поднять головы. Они увидели его: одинокую, темную фигуру на фоне багрового заката. Его стяг, реющий на ветру. Их стяг.
– Здесь был лес! – крикнул он, и его голос, усиленный ветром, разнесся над холмом. В нем не было ни капли усталости. В нем звенел металл. – А будет наш дом!
Он повернулся лицом к темной стене леса, к тем невидимым соседям, которые, он знал, наблюдали за ними.
– Здесь была чужая земля! – крикнул он еще громче, бросая им вызов. – А будет наша родина!
И в этот момент что-то прорвалось в людях. Невероятная, накопившаяся за все эти дни и недели усталость, страх, боль, горе – все это нашло выход в одном, общем, всепоглощающем звуке.
Они взревели.
Не закричали "слава", не издали одобрительного гула. Они именно взревели.
Как стая, нашедшая свое логово.
Это был рев измученных, голодных, потерявших все людей. Но это был не рев отчаяния. Это был рев непокорности. Рев упрямства. Рев рождения чего-то нового.
Они смотрели на его фигуру, на трепещущий на ветру волчий оскал, и они видели не просто своего вождя. Они видели точку отсчета. Конец их бесконечного бегства и начало их новой, оседлой жизни.
"Что такое родина? – думал Ратибор, чувствуя, как этот рев наполняет его силой, проникает в каждую жилку. – Это не место, где ты родился. Это не земля твоих отцов. Это просто клочок земли, который ты однажды обвел взглядом и сказал: "Мое". Место, за которое ты готов умереть. Не потому, что оно свято. А потому, что ты сам, своей волей, своей кровью, своим упрямством сделал его святым. Воткнул в него свой стяг".
Он не знал, услышали ли его "соседи" в лесу. Наверное, да. Этот рев нельзя было не услышать. И если они его услышали, они поняли.
Эти пришельцы – не просто бродяги.
Они пришли сюда, чтобы остаться.
На этом холме, под этим кровавым стягом, сегодня, в этот закатный час, они перестали быть изгнанниками.
И началось рождение города.
Глава 43. Звон Топора
Рассвет следующего дня был другим. Вчерашнее изнеможение и робкая надежда сменились деловитой, почти яростной энергией. Ночью, укрывшись от ветра под склоном холма, люди спали крепко, как не спали уже давно. Решение было принято. Цель была ясна. Больше не было места сомнениям и страхам. Было только место для работы.
С первыми лучами солнца Ратибор разделил всех мужчин на артели. Одни, под присмотром Боривоя, остались на холме – готовить площадку под будущий острог, выкорчевывать кустарник и камни. Другие, самые сильные, вооружившись топорами, пошли за ним. В лес.
Они вошли под сень вековых сосен, в этот сумрачный, пахнущий хвоей и сыростью мир, уже не как напуганные гости. Они вошли в него как хозяева, пришедшие взять то, что им было нужно. Они не стали углубляться далеко, выбрали рощу, подступавшую к самому подножию холма. Деревья здесь были – мачтовые, прямые, как на подбор. Идеальный материал для стен.
Ратибор подошел к первой сосне. Она была огромной, в два обхвата, ее вершина терялась где-то в синеве неба. Он коснулся ее шершавой, теплой на ощупь коры.
– Прости, дед, – сказал он тихо, обращаясь не то к дереву, не то к духу этого леса. – Но нашим детям нужны стены.
И он ударил первым.
Топор, который до этого знал только плоть и кости, с сочным, глубоким звуком вошел в живое дерево. Брызнула смола, пахнущая солнцем и вечностью.
И вслед за его ударом, как эхо, раздались другие.
Тук. Тук-тук. ТУК.
Дружный, ритмичный стук топоров наполнил утренний лес. Эта музыка была громче любых песен и яростнее любых боевых кличей. Это была музыка рождения нового.
Мужики работали со звериной, голодной энергией. Даже те, кто привык держать только меч, чьи руки были созданы для тонкого искусства боя, сейчас неумело, но яростно вгрызались в древесину. Пот градом катился по их спинам, смешиваясь с древесной трухой, рубахи прилипли к телам. Они не разговаривали, лишь изредка перекидываясь гортанными командами. Вся их боль, вся их ненависть, все их отчаяние, до этого отравлявшие их изнутри, теперь находили выход. Они вкладывали их в каждый удар.
Это был созидательный, а не разрушительный труд. И он лечил.
О, как он лечил! Лучше любых отваров Заряны, лучше любых утешительных слов.
Разрушать легко. Ломать, жечь, убивать – это просто. И это оставляет в душе только пустоту и грязь. А создавать… создавать трудно. Это требует сил, терпения, умения. И это наполняет.
Каждый удар топора, от которого отлетала золотистая щепка, был маленькой победой. Каждая подсеченная сосна, которая с оглушительным треском валилась на землю, сотрясая окрестности, была отмщением. Они не просто валили деревья. Они отвоевывали у этого дикого, равнодушного мира место для себя. Они впечатывали свою волю, свой человеческий замысел в эту первозданную природу.
"Странная вещь – топор, – думал Ратибор, отступая, чтобы дать упасть подсеченному им дереву. Он тяжело дышал, мышцы горели огнем. – В руках разбойника он – орудие смерти. В руках плотника – орудие жизни. Все дело не в железе. А в руке, что его держит. И в замысле, что в голове. Мы рубим. Но мы рубим не для того, чтобы уничтожить. А для того, чтобы построить. И от этой простой мысли на душе становится… чисто".
Он смотрел на своих людей. На их сосредоточенные, покрытые потом и грязью лица. На их могучие спины. На горы бревен, которые росли у подножия холма.
Он видел, как из их глаз уходит мутный туман безнадеги.
Они больше не были жертвами.
Они были строителями.
И стук их топоров, разносившийся по этому древнему, молчаливому лесу, был не просто звуком работы.
Это был звук, которым их маленькое, упрямое племя заявляло о своем праве на жизнь.
Глава 44. Жертва Духу Леса
Они валили сосны и ели – деревья, которые шли на стены, прямые и смолистые. Но для ворот, для самых ответственных частей острога, нужен был дуб. Его древесина, твердая как камень, почти не гнила и могла выдержать удар тарана. В небольшой рощице у подножия холма стояло несколько таких гигантов, чьи корявые ветви были похожи на руки, воздетые к небу в вечной молитве.
Ратибор указал на самый могучий из них.
– Этот. На центральные ворота.
Два самых сильных дровосека, Горазд и Боривой, подошли, примериваясь, занося топоры. Но прежде чем они успели нанести первый удар, их остановил тихий, но властный голос.
– Стойте.
К ним подошла Заряна. Она не была на лесоповале, проведя утро в поисках целебных трав на склонах. Сейчас она стояла перед ними, хрупкая, в своей простой холщовой рубахе, и смотрела не на них, а на дуб. В ее глазах была не просьба, а требование.
Мужики замерли, недовольно переглядываясь. Их работа кипела, кровь была горячей, и эта заминка была им не по нутру.
Заряна, не обращая на них внимания, подошла к дереву. Она не коснулась его сразу. Она постояла мгновение, склонив голову, будто прислушиваясь. Потом медленно, почти с нежностью, положила ладонь на его морщинистую, потрескавшуюся кору.
– Прости, Дедушка, – прошептала она так тихо, что ее слова мог услышать, кажется, только сам дуб. – Прости, что тревожим твой сон. Что железом идем на твою плоть. Мы не со злым умыслом. Не из жадности. Нам нужна твоя сила. Нужна твоя защита. Мы хотим, чтобы ты стал не мертвым деревом, а стражем у наших ворот. Чтобы твоя мощь оберегала наших детей.
Ее шепот был похож на шелест листвы. Она говорила с ним, как с живым, как с мудрым, древним предком.
Затем она достала две вещи. Длинную, узкую ленту из ярко-красной ткани – кусок, который она, видимо, отпорола от своего единственного праздничного наряда. И маленькую деревянную миску. В ней на дне плескалось немного молока. Козьего молока, которого у них почти не было, и каждую каплю которого ценили на вес серебра.
Она осторожно повязала красную ленту на нижнюю, самую толстую ветвь. Яркое пятно горело на темной коре, как капля крови. Как жертва. Затем она поставила миску с молоком на землю, в углубление между могучими корнями, похожими на лапы спящего зверя.
Закончив, она выпрямилась и повернулась к дровосекам, которые все это время молча, с какой-то первобытной завороженностью, наблюдали за ее действиями.
– Мы не можем только брать, – сказала она. Голос ее был ровен и спокоен, но в нем слышалась та же непреложная истина, что и в словах Ратибора накануне. – Этот лес кормит нас. Он дает нам дерево для дома, дичь для котла. Но он живой. И у него есть хозяин. И если мы будем только брать, ничего не давая взамен… однажды лес заберет у нас сам. И заберет гораздо больше, чем мы взяли. Заберет жизнь ребенка, укушенного змеей. Заберет охотника, на которого упадет сухое дерево. Заберет наш покой, наслав на нас мор или страх. Нужно платить за все. Особенно за то, что берешь силой.
Хмурые, бородатые мужи, которые еще несколько недель назад посмеялись бы над такими "бабьими сказками", сейчас молчали. Они своими глазами видели, как река, с которой говорила эта девушка, успокоилась. Они своими ушами слышали, как лес, который она назвала живым, отказал им в добыче. Их прагматичный, земной мир дал трещину. И в эту трещину заглянуло нечто иное. Древнее. То, что чувствовала их кровь, даже если разум отказывался это принимать.
Никто не посмел усмехнуться. Никто не проронил ни слова.
– Теперь можно, – сказала Заряна и отошла в сторону.
Боривой посмотрел на Горазда, на красную ленту, трепещущую на ветру, на одинокую миску с молоком у корней. Потом перекрестился своим, старым знаком. И только после этого, выдохнув, занес топор.
Первый удар прозвучал иначе, чем по соснам. Глухо. Тяжело.
Будто они рубили не просто дерево.
А заключали договор.
Кровью своей ленты, молоком своего скудного достатка, железом своего топора. Договор с этой древней, могучей землей.
Они просили силы.
И в обмен предлагали свое уважение.
Глава 45. Первое Бревно
Два дня они валили лес и таскали бревна. Тянули их на веревках, подкладывая катки, надрывая животы и срывая голоса. Работа была каторжной. Она выматывала, отбирала все силы без остатка. Но в этой усталоosti было здоровое, правильное начало. Это была усталость творцов, а не жертв. У подножия холма выросла целая гора строевого леса – их будущее богатство, их будущая защита.
Пока одни работали в лесу, другие – наверху. Под руководством Рогнеды они разметили периметр будущего острога. Не просто на глазок, а выверенно, с натянутыми веревками, с вбитыми по углам кольями. Площадка была очищена от камней и корней, выровнена. Все было готово к главному. К строительству стен.
И вот этот день настал.
Десяток самых сильных мужиков, кряхтя и обливаясь потом, подняли на вершину холма первое бревно. Оно было огромным, прямым, как стрела, очищенным от коры и веток. Его белая, смолистая древесина ярко сияла на солнце. Его тащили, как несут в капище жертвенного быка – торжественно и сосредоточенно.
– Кладем! – рявкнул Боривой, и они все разом, по команде, опустили тяжелую сосну на землю.
Гуп!
Глухой, весомый удар прокатился по холму.
Это был не просто звук падающего дерева.
Это был первый камень, заложенный в основание их нового мира.
Это был звук, который говорил: "Мы здесь. И мы строимся".
Люди, работавшие неподалеку, на мгновение замерли, обернувшись на этот звук. Он был точкой отсчета. До него была только подготовка, суета, расчистка. А с этого мгновения началось созидание.
Это была их маленькая, но очень важная победа. Физическое, осязаемое, абсолютно реальное начало. Еще вчера на этом месте рос вереск, а теперь здесь лежало первое бревно их дома. Можно было подойти, потрогать его теплое, гладкое, пахнущее смолой тело. Можно было сесть на него. Можно было поверить, что все это – не просто слова и мечты.
"Из чего состоит дом? – Ратибор смотрел на это бревно, на людей, с облегчением вытиравших пот со лбов. – Он состоит не из дерева и мха. И даже не из стен и крыши. Дом состоит из вот таких вот мгновений. Из первого вбитого кола. Из первого положенного бревна. Из первого разведенного в очаге огня. Из смеха первого рожденного в нем ребенка. Каждое такое мгновение – это узелок на нити, из которой ткется полотно под названием 'дом'. И чем больше таких узелков, тем крепче полотно. Тем труднее его разорвать".
Он подошел к бревну. Рогнеда уже стояла рядом, прикидывая, как крепить его к земле.
– Нужны колья. Крепкие. Из дуба. Чтобы вбить с обеих сторон, – сказала она деловито.
Первый крепежный кол уже был готов. Его вытесал сам Боривой – короткий, заостренный, толщиной в руку. Ратибор взял у него из рук тяжелую деревянную кувалду – киянку.
– Я сам, – сказал он.
Он установил кол у самого края бревна. Примерился. Поднял кувалду высоко над головой. Его мышцы на спине и руках напряглись.
И ударил.
БУМ!
Кол с хрустом вошел в каменистую почву на несколько вершков.
Еще удар.
БУМ!
И еще.
Он бил. Не яростно, как в бою. А размеренно, тяжело, вкладывая в каждый удар всю свою волю. С каждым ударом он будто вбивал не просто кол. Он вбивал свое право на эту землю.
Бум! (Это за моего отца!)
Бум! (Это за всех, кто погиб!)
Бум! (Это за наш сожженный дом!)
Бум! (А это – за наш новый!)
Он бил, пока верхушка кола не сравнялась с бревном. Потом выпрямился, тяжело дыша. Посмотрел на свою работу. Бревно и кол, казалось, стали одним целым, вросшим в вершину этого холма.
Он оглядел своих людей. Они смотрели на него. И он увидел в их глазах не только уважение. Он увидел понимание.
Он был не просто вождем, который отдает приказы. Он был первым строителем. Тем, кто вбивал первый гвоздь в их общий дом.
Работа возобновилась с удвоенной силой. За первым бревном последовало второе. Третье.
Они начали строить свой мир.
И глухой, размеренный стук киянки стал пульсом этого нового, рождающегося в муках, мира.
Глава 46. Пот и Земля
Пока на вершине холма росла стена, внизу, у его подножия, началась другая работа. Не менее важная. Рогнеда, обойдя будущее городище, наметила линию рва. Широкого, глубокого. Последнего рубежа, который должен был остановить любого врага.
– Здесь, – сказала она, чертя линию на земле острием копья. – Глубиной в два человеческих роста. Шириной – чтобы конь не перепрыгнул.
И работа началась.
И это был ад. Настоящий, рукотворный ад.
Если на вершине земля была относительно податливой, то здесь, у подножия, она была твердой, как камень. Под тонким слоем дерна лежала плотная, спрессованная глина, перемешанная с осколками скал и галькой. А сквозь нее, как живые, упрямые жилы, проросли корни сосен. Толстые, переплетенные между собой, они уходили глубоко в землю. Они держали этот холм. И они не хотели его отпускать.
Лопаты, те немногие, что у них были, гнулись и ломались. Приходилось работать кирками, топорами, даже просто заостренными кольями, разрыхляя проклятую землю сантиметр за сантиметром. Работа продвигалась мучительно медленно.
– Проклятое место, – рычал Горазд, отбрасывая в сторону очередной камень размером с голову. Пот заливал ему глаза, спина ломило от напряжения. – Эта земля не хочет нас! Она костями своими упирается!
– А ты упирайся сильнее! – огрызнулся на него Боривой, чья седая борода была вся в земле и глине. – Думаешь, хороший дом строится на мягкой земле? Хороший дом строится на камне! Копай, щенок, а не ной!
Работали все. Разделения на воинов и смердов, на мужчин и женщин, здесь больше не было. Были просто люди, строящие свою нору, свою берлогу. Мужчины рубили корни и кайлили землю. А женщины и подростки делали то, что могли – таскали. Они наполняли большие плетеные корзины разрыхленной землей и камнями и относили их на край рва, формируя внешний вал.
Ратибор смотрел на Светлану. Она работала вместе со всеми, молча и упрямо. Ее лицо было перепачкано землей, волосы выбились из-под платка. Она поднимала корзину, почти такую же большую, как она сама, кряхтела от натуги, но несла. Ее руки, тонкие, белые, созданные для того, чтобы держать веретено или вышивать тонкие узоры, теперь были красными, опухшими, покрывались первыми мозолями и кровоточащими ссадинами.
Однажды он не выдержал. Подошел, когда она в очередной раз пыталась поднять непосильную ношу.
– Оставь, – сказал он. – Это не женская работа. Иди наверх, помоги Заряне с травами.
Она остановилась, перевела дух. И посмотрела на него снизу вверх. Ее глаза были усталыми, но в них не было ни жалобы, ни просьбы о пощаде. В них было упрямство.
– А чья это работа, Ратибор? – спросила она тихо. – Твоя? Боривоя? Всех? Разве этот дом, который мы строим, не будет и моим тоже? Разве эти стены будут защищать только мужчин?
Он молчал, не зная, что ответить.
– Каждая из нас, – она обвела взглядом других женщин, так же таскавших землю, – похоронила там, дома, кого-то. Мужа, брата, отца. У нас больше нет мужчин, которые построили бы для нас дом. Значит, мы будем строить его сами. – Она снова взялась за корзину. – Каждая царапина на моих руках – это моя лепта. Мой камень в общую стену. Не отнимай у меня этого. Это все, что у меня осталось.
"Они говорят, что женщина – слабый сосуд, – подумал он, глядя ей вслед. Он не стал ей мешать. – Какая ложь. Мужская сила – она в порыве. В ярости боя, в тяжести удара. Она яркая, но короткая. А женская сила – она другая. Она как вода. Тихая, терпеливая, но неостановимая. Она способна годами точить камень. Она в этом вот молчаливом упрямстве. В способности нести непосильную ношу, стиснув зубы. Идти до конца. Не ради славы, не ради мести. А просто ради того, чтобы в конце этого пути можно было зажечь очаг и накормить своих детей".
Работа продолжалась. Монотонная, изматывающая, тупая.
Пот и земля.
Пот, который смешивался с грязью на их лицах. Земля, которая набивалась под ногти.
Пот, которым они поливали эту чужую, неприветливую землю, делая ее своей.
Земля, которая с неохотой, с сопротивлением, но все же поддавалась их упрямству.
И в этом простом, адском труде было что-то священное. Они не просто копали ров.
Они врастали в эту землю.
Своим потом. Своей кровью, сочившейся из разбитых рук. Своей несокрушимой волей.
Глава 47. Раздор
Усталость – это плохая советчица. Она высушивает терпение, делает слова колкими, а кулаки – тяжелыми. На третий день рытья рва, когда работа казалась бесконечной, а мышцы горели непрерывным огнем, эта усталость дала свои ядовитые всходы.
Горазд, молодой и сильный дружинник, привыкший к быстрым, яростным схваткам, а не к монотонному, изнуряющему труду, выпрямился, чтобы перевести дух. Его взгляд упал на Творимира, немолодого уже мужика-смерда, который копал рядом. Творимир был жилистым, но не таким могучим, как молодой воин. Он работал медленно, но без остановок, упрямо, как вол, впряженный в плуг.
Раздражение, копившееся в Горазде весь день, нашло выход.
– Ты машешь лопатой, как девка подолом! – рявкнул он, утирая пот со лба. – Из-за таких, как ты, мы и через год этот ров не выкопаем! Шевелись, старый!
Творимир медленно выпрямился. Он был из тех людей, что долго терпят, но если уж их вывести из себя, то гнев их бывает тихим и страшным. Он обвел молодого воина усталыми, покрасневшими глазами.
– Я, может, и машу, как девка, – процедил он сквозь зубы, – зато я машу с самого утра. А не стою через каждый час, любуясь на свои мозоли, как ты, щенок. Ты мечом махать привык, а не работать.
Кровь бросилась в лицо Горазду. Сравнение с девкой, да еще и упрек в лени от простого смерда – это было неслыханным оскорблением для воина.
– Да я за один свой удар делаю больше, чем ты за весь день, старый хрыч! – взревел он, бросая лопату и делая шаг к Творимиру.
– Ну так покажи, вояка! – Творимир тоже отбросил свой инструмент. – Покажи, как ты языком своим работать умеешь!
Еще мгновение, и они бы вцепились друг в друга. Двое измученных, доведенных до предела людей, готовых выместить всю свою усталость и злость друг на друге. Их товарищи остановились, глядя на назревающую драку с мрачным интересом. Этот маленький конфликт был искрой, которая могла поджечь весь их хрупкий мир.
Но тут между ними, как тень, возник Ратибор. Он не кричал, не расталкивал их. Он просто встал между ними. И одного его присутствия, его тяжелого, молчаливого взгляда хватило, чтобы оба замерли.
Он помолчал, давая их гневу остыть под своим холодным взглядом. Он смотрел то на налитое кровью лицо Горазда, то на серые от ярости скулы Творимира.
– Устали? – спросил он наконец. Спокойно. Почти безразлично.
Оба молчали, тяжело дыша, не решаясь ни ответить, ни отвести глаз.
– Хорошо, – кивнул Ратибор, и в его голосе не было ни капли сочувствия. – Усталость – это хороший знак. Это признак того, что вы еще живы. Мертвые, знаете ли, не устают. Им уже все равно.
Он наклонился, поднял их лопаты и протянул им.
– А теперь берите. И копайте. Рядом.
Они неуверенно взяли инструменты.
– Так вот, – продолжил Ратибор все тем же ровным, убийственным тоном. – Раз уж у вас так много лишних сил, что вы готовы тратить их на то, чтобы друг другу морды бить, я дам вам применение этой силе. Вы будете соревноваться. Ты, Горазд, воин, и ты, Творимир, пахарь. Вот ваш участок рва, от этого камня и до того дерева. И если к закату я не увижу, что он глубже и шире, чем у всех остальных… то завтра, – он сделал паузу, обводя их обоих ледяным взглядом, – …завтра вы оба, и воин, и пахарь, будете чистить отхожие ямы для всего лагеря. Голыми руками.
Он посмотрел на Горазда.
– Чтобы ты, воин, понял, что такое настоящее дерьмо, и перестал искать его в работе своих товарищей.
Потом на Творимира.
– А чтобы ты, пахарь, понял, что в нашей стае нет ни воинов, ни смердов. А есть только те, кто работает. И те, кто гребет дерьмо. Выбирайте.
"Что такое справедливость вождя? – думал он, отходя от них. Он не стал дожидаться ответа. Он знал, что они подчинятся. – Это не поиск правых и виноватых. Это чушь. Когда стая на грани, виноваты все, кто ставит свою гордыню выше общего дела. Справедливость – это когда ты берешь две разрушительные силы – гнев воина и обиду пахаря – и направляешь их в одно русло. Заставляешь их копать одну яму. Ты не гасишь их вражду. Ты используешь ее как топливо для общей работы. Ты превращаешь их личный яд в общее лекарство. И если повезет, к вечеру, когда они оба будут валиться с ног от усталости, у них просто не останется сил, чтобы ненавидеть друг друга".
Он не обернулся. Но он слышал, как за его спиной с удвоенной, яростной силой застучали по земле две лопаты.
Ров станет сегодня немного глубже.
А его стая – немного крепче.
Глава 48. Тихая Песня
Вечер пришел как избавление. Работа прекратилась, как только солнце коснулось зубчатой кромки леса. Люди поднимались со дна рва, выползали из-за растущих стен, шатаясь от усталости. Их тела были одним сплошным сгустком боли. Они двигались медленно, как во сне, стягиваясь к костру, который уже горел на вершине холма.
Они сидели внутри первого, еще невысокого кольца из бревен. Стены были высотой чуть выше пояса, но они уже создавали ощущение замкнутого, своего пространства. За ними, снаружи, выл ветер и сгущался холодный северный мрак. А здесь, внутри, было тепло от огня и от десятков человеческих тел, сгрудившихся вместе.
Они ели молча. Сегодня никто не ссорился. Никто даже не разговаривал. Сил на слова просто не было. Они жевали свою скудную пищу – жидкую кашу да печеную рыбу – и смотрели в огонь. Их лица, грязные, обветренные, исцарапанные, в неровном свете пламени были похожи на лики каких-то древних, уставших богов. Они были измотаны до самого предела, до дна души.
Тишина у костра была густой, почти осязаемой. Усталость была так велика, что казалось, даже мысли замерзли на полпути. И в этой звенящей пустоте раздался тихий, надтреснутый, как старый глиняный горшок, голос старой Милолицы. Она баюкала внучку, и слова рождались сами собой, приходя из глубины памяти, из того мира, где еще были внуки, мужья и сыновья.
(тихо, нараспев, почти про себя)
«Спи, моя пташечка, баюшки-баю,
Ветер-гуляка спит на краю.
Солнышко красное скрылось за лесом,
День оттрудился, укрылся завесом».
Ее голос был слаб, но в нем было столько невыплаканной нежности, столько глубокой, всепрощающей любви, что казалось, будто это поет сама душа их потерянной родины. Люди замерли, перестав жевать. Этот простой напев был таким чужеродным и таким необходимым в этом диком лесу.
(голос крепнет, в нем появляются нотки светлой печали)
«Спит за околицей рожь золотая,
Смотрит в окошко луна молодая.
Скрипнет калитка, вздохнет в сенях печка,
Тихо журчит наша сонная речка».
Она пела о простых, понятных вещах. О тех, которых они лишились. О теплой печи. О скрипе калитки. О запахе скошенной травы. О смоленских полях. О тихой, ленивой речке, в которой они купались детьми. О родном доме, которого больше не было.
Любава, сидевшая рядом, не выдержала. Она тихо всхлипнула, утирая слезы рукавом. А потом ее тонкий, чистый, как родниковая вода, девичий голос вплелся в песню, поддерживая старуху. Их два голоса, старый и молодой, сплелись в щемящей гармонии.
(два голоса, один – низкий и дребезжащий, другой – высокий и звенящий)
«Спи, мой сыночек, придет сера волчица,
Спросит волчица – кто здесь не спится?
Матушка скажет: "Дитя мое дремлет",
Волк и уйдет, тишине нашей внемля».
И тут к ним присоединился третий голос. Мужской, неуверенный бас. Это был Верен. А за ним – еще один, и еще. Мужчины, которые привыкли петь лишь громкие, походные песни, сейчас, стесняясь и пряча глаза, подхватывали эту тихую мелодию. Потому что эта песня была о мире, который они не смогли защитить.
(хор крепнет, в нем появляются низкие мужские голоса)
«Дремлет за печкою дедушка-домовой,
Сон твой хранит он до зорьки до новой.
Спят топоры, и коса на приколе,
Мирно у бревен, и тихо на поле».
Эта песня, полная бесконечной тоски и нежности, повисла над диким северным лесом. Она была такой человеческой, такой беззащитной в этом огромном, первобытном мире. Она была молитвой. Плачем по утраченному раю. И многие, даже суровые воины, плакали, не стыдясь своих слез. Они оплакивали не только убитых. Они оплакивали скрип своей калитки. Запах своего сена. Тепло своей печи.
И когда песня дошла до последнего куплета, ее пели уже почти все. Это был уже не хор. Это был один общий, тихий стон души.
(поют все, голоса дрожат от слез)
«Спи, мое сердце, мой лучик багровый,
Будет тебе новый дом, новый кровель…
Только во сне ты вернешься обратно,
В поле смоленское, в запах мятный…
Баюшки-баю…»
Последние слова растворились в тишине, оборвавшись на полувздохе. И над костром, над склоненными головами, над этим диким, чужим лесом еще долго висело эхо последней ноты. Эхо их потерянного, навсегда ушедшего дома.
Ратибор смотрел на их лица. И он видел, как по грубым, обветренным щекам суровых воинов, по лицу старого Боривоя, по щекам Горазда и Верена катятся слезы. Они не стыдились их. Не утирали. Это были не слезы слабости. Это были слезы очищения. Они выплакивали из себя всю ту боль, которую так долго носили внутри, пряча за яростью и работой.
"Что делает горстку людей – народом? – думал Ратибор, и у него у самого першило в горле. – Не общая земля. Не общий вождь. И даже не общая кровь. А общая песня. Одна на всех колыбельная. Одна на всех боль. Одна на всех память. Эта песня сейчас – это и есть наша родина. Единственное, что у нас осталось. Мы можем потерять все. Но пока мы помним эту мелодию, мы – не просто сброд. Мы – народ. Изгнанный. Израненный. Но не сломленный".
Он тоже плакал. Впервые с той ночи.
Беззвучно. Просто слезы текли по его грязным щекам, смешиваясь с потом и пылью. Он плакал не о себе. Он плакал о них. Об этой их страшной, упрямой, несокрушимой человечности, которая звучала сейчас в этой тихой, простой песне, летевшей в холодное, звездное, чужое небо.
Глава 49. Бремя Вождя
Песня стихла так же медленно, как и началась, растаяв в ночном воздухе, оставив после себя гулкую, очищенную тишину. Слезы высохли. Напряжение, копившееся неделями, ушло, смытое этой волной общей скорби. Люди начали расходиться по своим временным шалашам, готовясь ко сну. Движения их были плавными, усталыми, но в них больше не было той надрывной, злой спешки. Они выплакали свою боль. И эта общая слабость, как ни странно, сделала их сильнее, сплоченнее.
Ратибор остался у костра один. Он не чувствовал усталости. Пережитое эмоциональное потрясение стерло ее, оставив после себя странную, звенящую ясность в голове. Он смотрел на догорающие угли, на их бархатное, живое свечение. И думал.
Он думал о своих людях. Вспоминал их лица в свете пламени. Лицо старой Милолицы, просветлевшее от пения. Лицо Боривоя со слезами в морщинах у глаз. Лицо Светланы, полное тихой, всепонимающей печали. Он вспоминал их, и его невидимый собеседник, его собственное второе "я", задавал ему вопросы.
"Ты видел их сегодня? По-настоящему видел? Не как воинов, не как работников, не как безликую толпу, которую нужно накормить и защитить. А как людей. Уязвимых. Сломанных. И все же – несокрушимых. Они плакали. Они показали свою слабость. И что ты чувствовал в этот момент, Ратибор?"
Он ковырнул сапогом уголек, и тот рассыпался снопом искр.
"Ты не чувствовал жалости. И не чувствовал презрения. Ты чувствовал… зависть. Да, именно так. Ты завидовал им. Завидовал их праву на слезы. Их праву быть слабыми, хотя бы на один короткий вечер. Праву разделить свою боль с другими, и от этого разделения сделать ее легче".
Он тяжело вздохнул, и этот вздох был полон горечи.
"А у тебя такого права нет. Никогда не было. И никогда не будет.
Что такое вождь? Ты думал, это тот, кто сильнее всех? Тот, кто рубит головы врагам и ведет за собой в бой? Какая мальчишеская глупость. Сила вождя – это не то, что он показывает. А то, что он скрывает.
Вождь – это не тот, кто ведет. Это тот, кто несет. Несет на себе взгляды всех, кого он ведет. Их надежду. Их страх. Их отчаяние. Каждое утро сотня пар глаз поворачивается к тебе. И они не спрашивают, как ты спал. Они ищут в твоих глазах ответ на свой единственный, немой вопрос: "Мы выживем сегодня?".
Он закрыл глаза. И увидел эти глаза. Десятки, сотни глаз. Они смотрели на него.
"Они смотрят на тебя, ища в твоих глазах уверенность, которой у тебя, может быть, и нет. Они ищут в твоем голосе твердость, даже если у тебя у самого все внутри дрожит от сомнений. Они ищут в твоих приказах мудрость, даже если ты сам действуешь наугад, как слепец в темной комнате.
Ты перестаешь быть человеком. Ты становишься зеркалом. Зеркалом для сотен душ. И ты обязан отражать не то, что есть на самом деле, не свою собственную усталость и свой страх. Ты обязан отражать то, что им нужно увидеть. Надежду. Силу. Непоколебимость".
Он почувствовал, как плечи ломит от этой невидимой ноши.
"И эта ноша тем тяжелее, что ты не имеешь права ее ни с кем разделить. Ты можешь разделить с ними хлеб. Ты можешь разделить с ними бой. Но ты никогда не сможешь разделить с ними свое бремя. Ты должен быть один. Всегда. Даже в толпе самых верных друзей. Даже в объятиях женщины. Ты должен быть абсолютно, тотально один.
Ты должен быть скалой, о которую разбиваются волны их отчаяния. И никого не волнует, что эта скала, может быть, давно уже пуста внутри. Что внутри у нее – лишь песок и ветер. Пока она стоит, пока она не рухнула, у них есть за что держаться".
Он открыл глаза и посмотрел на строящиеся стены их острога, смутно черневшие в ночи.
Вот она, его скала. Которую он строил для них. И для себя.
Он строил ее не только из бревен. Он строил ее из своей собственной, запертой на семь замков души.
Он встал, потянулся, разминая затекшие мышцы. И пошел на свой обычный ночной обход.
Нужно было проверить дозорных.
Нужно было убедиться, что его зеркало готово к завтрашнему дню.
Что на нем нет ни единой трещинки.
Ни следа его собственных, никому не нужных, слез.
Глава 50. Северный Ветер
Время, ставшее вязким и тягучим на реке, теперь полетело, подгоняемое страхом и необходимостью. Каждый день, от рассвета до заката, на холме не умолкал стук топоров и молотков, скрип бревен, гортанные крики людей. Они работали, как одержимые. Они не просто строили острог. Они гнали гонку. Гонку с первым морозом. С первым снегом. С приближающейся, неумолимой зимой.
Частокол был готов наполовину. Западная стена, та, что смотрела на море и принимала на себя всю ярость ветра, была уже возведена. Высокие, заостренные сосновые бревна стояли вплотную друг к другу, образуя глухую, неприступную преграду. Люди уже перенесли свои шалаши и скудные пожитки внутрь этого полукольца. Это еще не была крепость. Но это уже была защита. За стеной ветер не был таким злым, а холод не так пробирал до костей. Появилось ощущение внутри. Внутри своего, укрытого пространства. И снаружи.
Ночью Ратибор не спал. Он вышел из своего маленького, кое-как сложенного из веток и шкур шалаша. В лагере было тихо, люди спали тяжелым, измотанным сном. Он подошел к недостроенной восточной стене и посмотрел в сторону темного, затаившегося леса.
Было тихо.
Слишком тихо.
Исчезли звуки ночи, к которым он уже успел привыкнуть: уханье совы, стрекот сверчков, далекий вой волков. Все стихло. Будто весь мир затаил дыхание в ожидании чего-то. Воздух стал плотным, неподвижным и очень холодным. Этот холод был другим, не как в прошлые ночи. Он был сухим, колючим. Он пах металлом и вечностью.
Ратибор поднял голову к небу. Оно было низким, сплошь затянутым серой, беззвездной пеленой. Будто кто-то накрыл мир старым, грязным одеялом.
И в этой бездонной серости он увидел ее.
Одну.
Белую.
Невесомую.
Она не падала. Она танцевала. Медленно кружась в неподвижном воздухе, она летела вниз, в его мир. Первая снежинка.
Он протянул руку ладонью вверх. Она опустилась на его кожу, на мозоли и царапины. На мгновение он увидел ее совершенство – крошечную, шестиконечную звезду, идеальное творение холода. А в следующую секунду она растаяла от тепла его тела, оставив лишь крошечную, холодную каплю воды.
А за ней, с того же серого, равнодушного неба, полетела вторая. Третья. Десятая. Сотни.
Пошел снег.
Это был не тот веселый, пушистый снег, что бывает дома. Не тот, что радует детей и сулит веселые катания с гор. Этот был редким, мелким, колючим. Как соль, которую сыплют на рану. Каждая снежинка была не предвестником праздника, а посланником. Гонцом, присланным из ледяных чертогов Марены, богини зимы и смерти.
Ратибор стоял, не шевелясь, подставляя лицо под эти холодные, колючие поцелуи. Снег ложился ему на волосы, на плечи, таял на щеках, смешиваясь не то с потом, не то со слезами.
Он закрыл глаза.
"Вот она, – подумал он. И в этой мысли не было ни страха, ни отчаяния. Только трезвая, холодная констатация. – Вот и пришла. Настоящая хозяйка этих земель. Не лесные люди, не духи, не море. А она. Зима. Белая, молчаливая, беспощадная".
Все, что было до этого – бегство, голод, пороги, шторм, строительство, – все это было лишь прелюдией. Просто разминкой перед настоящим боем.
Все их страхи, ссоры, маленькие победы – все это было лишь детскими играми в песочнице.
Их главная битва была впереди.
Битва не за месть. Не за землю. А просто за тепло. За право дышать. За право увидеть следующий рассвет.
Зима пришла не как враг, которого можно убить. Она пришла как судья.
И она будет судить их. Каждого.
Судить их запасы, их стены, их одежду.
Но главное – она будет судить их дух. Их упрямство. Их волю к жизни.
Тех, кто окажется слаб, она просто заберет себе. Тихо. Без крови и крика. Укроет своим белым саваном и оставит до весны.
Выживут только самые сильные. Самые упрямые. Самые злые на жизнь.
Ратибор открыл глаза и посмотрел на свой недостроенный острог, который медленно покрывался первым, тонким слоем снега.
Начиналась Зима.
Он втянул в себя морозный, колючий воздух.
И молча принял ее вызов.
Глава 51. Первый Паз
Утро принесло с собой не только стылый воздух и первый тонкий ледок на лужах, но и новый звук. Сухой, резкий стук железа о дерево, который разносился по всему холму. Работа по возведению стен началась всерьез.
Ратибор стоял, широко расставив ноги, над огромным, окоренным сосновым бревном. В его руках был плотницкий топор – тяжелый, с широким лезвием, совсем не похожий на легкий и стремительный боевой топор. Рядом с ним трудился старый Боривой, который в прошлой жизни, до того как стать гриднем, был плотником и знал в этом деле толк.
– Не торопись, княжич, – говорил он, не прекращая своей работы. – Лес спешки не любит. Тут не как в бою – махнул раз, махнул два. Тут каждый удар – на своем месте должен быть. Один неверный – все бревно испортишь.
Ратибор молча кивнул. Он рубил паз – полукруглую выемку, которую на их наречии называли «чашей» или «в обло». Это была сложная наука, которую ему показывал еще отец. Светозар был не только воеводой, он любил и умел работать руками, считая, что вождь, не способный сам построить дом, не достоин им править.
«Не просто грубая сила, сынок, – звучал в его памяти голос отца. – Тут расчет нужен, глаз да твердая рука. Чаша должна обнимать нижнее бревно, как жена мужа – плотно, без зазоров, чтобы никакой ветер, никакой холод в щель не пролез. Чтобы стена была одним целым, а не просто грудой дров».
И Ратибор рубил. Его топор сочно, с влажным хрустом вгрызался в белую, смолистую древесину, отбрасывая в стороны крупные, золотистые щепки, пахнущие лесом и солнцем. Это была совсем другая работа.
В бою ты отдаешься ярости. Твои движения быстры, инстинктивны, как у зверя. Ты не думаешь, ты действуешь. А здесь… здесь все было иначе.
Каждый удар требовал сосредоточенности. Нужно было точно рассчитать угол, силу. Чуть сильнее – и выхватишь лишнего, чаша будет слабой. Чуть слабее – и оставишь зазор. Ратибор чувствовал, как напрягаются не только мышцы его спины и рук, но и его мозг. Это была медитация. Тяжелый, физический труд, требующий предельной концентрации.
"Как это не похоже на убийство, – думал он, останавливаясь, чтобы вытереть пот, выступивший на лбу, несмотря на холод. – Когда ты убиваешь, ты разрушаешь. Берешь целое – человека – и превращаешь его в кусок мертвого мяса. После этого остается только пустота и грязь. А здесь… здесь все наоборот. Ты берешь хаос – груду бревен – и превращаешь его в порядок. В стену. В дом. И после этого остается не пустота, а… что-то новое. Что-то, чего раньше не было. И это наполняет".
Его руки, привыкшие к гладкой рукояти меча, гудели от непривычной, жесткой работы. Кожа на ладонях, только начавшая заживать, грозила лопнуть новыми мозолями. Но в этом низком, ноющем гуле было ни с чем не сравнимое удовлетворение.
Он снова занес топор.
ТУК.
Удар был точным, выверенным. Еще одна крупная щепка отлетела в сторону, открывая идеально ровный срез.
ТУК.
Каждый удар был маленьким, но реальным шагом к их цели. Не к какой-то абстрактной мести, что ждала где-то там, в далеком будущем. А к простой, понятной, жизненно необходимой цели – к крыше над головой.
К дому.
Каждый удар топора отгонял призраков прошлого. Каждый выверенный паз становился прочнее любой молитвы. Они не просто рубили дерево.
Они рубили свое будущее. Здесь. Сейчас. На этом холодном, продуваемом всеми ветрами холме. И этот сухой, деловитый стук их топоров был лучшим ответом и на гнев моря, и на молчание леса.
Мы здесь.
Мы живы.
И мы строим.
Глава 52. Стены Растут
Дни превратились в один нескончаемый трудовой гул. Он начинался с первыми робкими лучами рассвета, когда мужчины, глотая горячую похлебку, брали в руки топоры, и затихал лишь в глубоких сумерках, когда обессилевшие люди падали у костра, не в силах даже разговаривать.
День за днем, венец за венцом, стены их будущего острога поднимались.
Сначала это были просто бревна, лежащие на земле, очерчивающие периметр. Потом первый венец, второй… Стены достигли колена. Люди, работавшие внутри, еще могли свободно перешагивать через них. Потом бревна легли выше. Стена поднялась по пояс. И что-то изменилось. Пропало ощущение открытого пространства. Появилась граница. Свое. И чужое.
Еще через несколько дней бревна, подогнанные друг к другу с упорным, яростным старанием, достигли груди. А потом – поднялись выше человеческого роста.
И тогда изменилось все.
Это было невероятное, почти мистическое ощущение. Вот ты стоишь, и над твоей головой – только бесконечное, холодное северное небо. И враждебный, молчаливый лес смотрит на тебя со всех сторон. А вот ты делаешь шаг – и оказываешься внутри. Внутри рукотворного кольца из могучих, пахнущих смолой сосновых стволов. Лес исчезает. Вид на море пропадает. Остается только клочок того же неба над головой, но оно уже кажется другим – своим, домашним.
Стены еще не были закончены. В них зияли щели, которые предстояло конопатить. Не было ни вышек, ни ворот. Это была просто высокая деревянная ограда. Но для людей, которые недели провели под открытым небом, во власти стихий и неведомых врагов, это был уже дом. Это была защита.
Ратибор заметил, как изменилась походка людей, когда они находились внутри этого кольца. Они начали ходить иначе. Спины выпрямились. Плечи расправились. Исчезла та сутулость, та вечная настороженность затравленного зверя, которая стала их второй натурой. Женщины, занимаясь своими делами, перестали постоянно оглядываться на темную кромку леса. Дети играли и шумели громче, не боясь привлечь неведомую опасность.
Они получили убежище. Защиту.
И пусть эта защита была еще иллюзорной – любой решительный враг мог бы найти способ перелезть через эту стену, – но это не имело значения.
"Что такое безопасность? – думал Ратибор, стоя у стены и проводя рукой по ее шершавой, теплой на солнце поверхности. – Это не отсутствие угрозы. Угроза есть всегда, она повсюду. Она в лесу, в море, в сердце твоего соседа. Нет. Безопасность – это не объективная реальность. Это ощущение. Это вера".
Он видел эту веру в глазах своих людей. Веру в то, что эта стена, построенная их собственными руками, пропитанная их потом, убережет их. Защитит.
"Иллюзия защищенности – это самая сильная, самая пьянящая вещь на свете, – говорил ему его внутренний, циничный голос. – Ты строишь вокруг себя забор и начинаешь верить, что весь ужас мира остался снаружи. Ты запираешь ворота и думаешь, что запер беду. Какая наивная самонадеянность. Ты просто отгородился. Спрятался. Но тот враждебный, равнодушный мир никуда не делся. Он все там же, за твоей стеной, терпеливо ждет. Ждет, когда твое дерево сгниет, когда твои дозорные уснут, когда ты сам потеряешь бдительность, убаюканный этой сладкой иллюзией. Стена дает тебе не безопасность. Она дает тебе лишь передышку. А передышка – это самое опасное время. Время, когда ты можешь забыть, что война не закончена. Она просто затаилась".
Он обернулся и посмотрел на своих людей. На их расслабленные, почти счастливые лица. Они заслужили эту передышку. Они выстрадали ее.
Пусть пока это будет иллюзия.
Он, как вождь, знал правду. Он понимал всю хрупкость их положения.
Но его работа была не в том, чтобы разрушить их иллюзию.
А в том, чтобы сделать ее как можно более прочной. Превратить ее из веры – в реальность.
Из бревен, мха и железа.
Из пота, крови и своего собственного, никому не видимого страха.
Глава 53. Женские Руки
Если мужчины возводили скелет их нового дома, то женщины давали ему плоть и тепло. Их работа была не такой громкой, как стук топоров, не такой заметной, как подъем очередного венца. Но без нее стены остались бы просто грудой дров, продуваемой всеми ветрами.
Они ходили на небольшое болото, что притаилось в лощине за холмом. Оттуда, из-под кочек, они вырывали длинные, влажные пряди сфагнового мха. Мох был сырым, холодным, пах тленом, стоялой водой и вечностью. Он был неприятен на ощупь, как кожа утопленника. Они набивали им большие плетеные корзины и на своих спинах тащили наверх, к строящимся стенам.
И там начиналась их кропотливая, монотонная, бесконечная работа.
Конопатка.
Они брали пучки этого мокрого мха и деревянными лопаточками, а то и просто пальцами, тщательно, плотно забивали его в щели между бревнами. Это был женский труд, требующий не столько силы, сколько терпения и аккуратности. Каждый зазор, каждая щелочка, сквозь которую мог бы просочиться зимний ветер, должна была быть законопачена.
Ратибор часто видел их за этой работой, когда обходил стройку. Группа женщин, стоящих на шатких подмостках, их склоненные фигуры, их методичные, повторяющиеся движения. И среди них – Светлана.
Она работала молча, как и всегда. Но в ее молчании больше не было той надрывной тоски, что была на реке. Оно стало другим. Сосредоточенным. Упрямым.
Ее тонкие, длинные пальцы, которые Ратибор помнил еще с детства, когда она училась вышивать замысловатые узоры на полотне, изменились. Они огрубели. Кожа стала красной, воспаленной от постоянного контакта с холодной водой и жестким мхом. Ногти обломались. Под ними забилась болотная грязь и древесная труха. Это больше не были руки девушки из знатного рода. Это были руки работницы.
Но в том, как она это делала, было что-то особенное. Другие женщины работали быстро, иногда небрежно, стремясь поскорее закончить. А Светлана… она делала это медленно, с какой-то внутренней сосредоточенностью. Она не просто затыкала дыры. Она будто вплетала мох в дерево, делая его частью стены. Она разглаживала его, уплотняла, проверяла, не осталось ли малейшей щелки.
"Смотри, – говорил ему его внутренний наблюдатель, – смотри и пойми. Ты, Рогнеда, все вы – вы строите крепость. Военное укрепление. Вы думаете о толщине стен, о высоте вышек, о поле для обстрела. Вы мыслите категориями войны. Вы строите машину для выживания".
Он смотрел, как Светлана берет очередной пучок зеленого мха, отжимает из него лишнюю воду и начинает аккуратно забивать его в паз. Ее движения были плавными, почти нежными.
"А она… она строит другое.
Она не строит крепость.
Она вьет гнездо.
Для нее эти стены – не защита от врага. Для нее это защита от холода для будущего ребенка. Каждая законопаченная щель – это сбереженное тепло для очага. Каждый пучок мха – это как перышко, которое птица тащит в свое гнездо, чтобы ее птенцам было мягко и тепло. Она не думает о войне. Она думает о жизни, которая будет теплиться внутри этих стен. Ее руки делают ту же работу, что и руки других женщин. Но замысел в ее голове – совершенно иной. Вы строите, чтобы не умереть. А она строит, чтобы жить".
Однажды он подошел к ней, когда она, закончив свой участок, спустилась с подмостков. Он взял ее руку. Ладонь была шершавой и холодной. Он посмотрел на ее пальцы, на ссадины, на въевшуюся грязь.
– Ты делаешь больше, чем многие мужчины, – сказал он тихо. – Тебе нужно отдохнуть.
Она мягко высвободила свою руку. Взглянула на свои ладони без жалости, а с каким-то странным удовлетворением.
– Стена, которую я не законопачу сегодня, – сказала она просто, – может стать щелью, из которой выдует тепло от колыбели моего… нашего ребенка зимой. У меня нет меча, Ратибор. И я не умею рубить лес. Но это… – она кивнула на стены, – …это моя битва. И я собираюсь ее выиграть.
Она улыбнулась ему. Легкой, усталой, но настоящей улыбкой.
И он понял, что ее битва была, может быть, важнее его собственной. Он строил стены, чтобы защитить их тела.
А она наполняла эти стены душой. Теплом.
Будущим.
Глава 54. Периметр Рогнеды
Пока на холме кипела работа, пока раздавался стук топоров и гул киянок, Рогнеда не принимала в этом участия. Она почти не появлялась на стройке. Некоторые из мужиков, особенно те, кто не знал ее близко, начинали коситься на нее. Мол, воительница, а от тяжелой работы отлынивает, пока остальные гнут спины. Но Ратибор знал – у Рогнеды была своя, другая стройка. Невидимая, но не менее важная.
Ее работа начиналась там, где кончался их острог. Ее царством был лес, окружавший холм, прибрежные заросли, дальние подступы. Она не бралась за топор плотника. Ее инструментами были нож, лук и ее собственные, звериные чутьё и наблюдательность.
Каждый день она уходила на рассвете. Одна или с парой самых тихих и зорких охотников. Она не строила стену из бревен. Она строила стену из бдительности.
Она обходила их будущую крепость по широкому внешнему кругу, изучая местность так, как волк изучает свои охотничьи угодья. Она отмечала каждую лощину, где мог бы укрыться вражеский отряд. Каждый звериный лаз, по которому мог бы проползти лазутчик. Каждое высокое дерево, с которого можно было бы вести наблюдение.
На видных местах она оставляла свои, едва заметные знаки – надломленную определенным образом ветку, три камешка, сложенные горкой. Это была ее карта, ее сеть, понятная только ей и ее людям.
Она натягивала в низинах, в самых густых зарослях, тонкие веревки из конского волоса, почти невидимые в полумраке. К ним она привязывала пучки сухих веток или рыбьи кости. Любой, кто задел бы такую растяжку, произвел бы шум, который услышал бы чуткий дозорный. Это была ее «паутина». Простая, но эффективная.
"Есть два вида защиты, – думал Ратибор, наблюдая, как она вечером возвращается из леса, бесшумная, как рысь. На ее лице не было усталости строителя. На ее лице была сосредоточенность охотника. – Есть защита пассивная. Это стена. Она просто стоит и ждет удара. Она принимает его на себя. И она прочна ровно настолько, насколько прочно ее самое слабое бревно".
Он видел, как Рогнеда, вернувшись, не шла отдыхать. Она подходила к дозорным, которых сама же и расставляла по периметру. Она говорила с ними тихо, показывала что-то рукой, объясняла, куда смотреть, к каким звукам прислушиваться.
"А есть защита активная, – продолжал он свой внутренний разговор. – Это то, что делает она. Это не стена, что ждет. Это сеть, что ловит. Это глаза, которые ищут. Ее защита не начинается у подножия нашей крепости. Она начинается там, в лесу, за версту отсюда. Она стремится не отразить удар, а не допустить его. Увидеть врага до того, как он занесет меч. Услышать его до того, как он издаст боевой клич. Это защита клинка, а не щита".
Однажды вечером, когда он сам, уставший, растирал ноющие от работы на лесоповале руки, она подошла к нему.
– Срубить крепкую стену – половина дела, – сказала она, кивнув на растущий частокол. Ее взгляд скользнул по его ладоням, по свежим, налитым кровью мозолям, и в ее глазах мелькнуло что-то похожее на сочувствие, но она тут же его подавила.
– Даже самая крепкая стена бесполезна, если на ней спит дозорный.
Она села напротив него на бревно, положив рядом свой лук.
– Вторая половина дела, Ратибор, – вовремя увидеть того, кто придет эту стену ломать. Прежде чем он даже подойдет к ней.
Она посмотрела ему прямо в глаза, и он увидел в ее зрачках отражение костра и дикого, неукротимого духа.
– Ты строишь наш панцирь. Крепкий, надежный. Чтобы он выдержал удар клыков. – Она сделала паузу. – А я – наши глаза и уши. Чтобы мы успели увернуться до того, как эти клыки сомкнутся.
Он понял. Он видел стройку. А она видела войну, которая еще не началась.
Он строил дом. А она готовила его к осаде.
И только вместе их работа имела смысл.
– Ты видела что-нибудь? – спросил он тихо.
– Пока только следы, – так же тихо ответила она. – Они наблюдают. С большого расстояния. Подходят ночью, смотрят на наш огонь и уходят. Они осторожны. Это хорошо. Значит, они не глупые дикари. С ними, возможно, удастся поговорить.
– А если нет?
Ее губы тронула холодная, жесткая усмешка.
– А если нет… то я буду знать, откуда они придут. И встречу их там, в лесу. На моей территории.
Она встала и пошла проверять ночные посты. А Ратибор остался сидеть у костра, глядя на высокие бревна их стены. И впервые он почувствовал себя по-настоящему защищенным. Не за деревом.
А за ее невидимой паутиной, за ее зоркими, никогда не спящими глазами.
Глава 55. Усталость
Усталость – это не просто боль в мышцах. Это не просто желание упасть и не двигаться. Настоящая, глубинная усталость – это кислота. Она медленно, капля за каплей, разъедает людские души. Она съедает терпение, выжигает доброту, превращая человека в раздраженного, злого зверя, готового вцепиться в глотку первому встречному из-за пустяка.
Эта кислота начала действовать.
Дни бесконечной, изматывающей работы слились в один серый, мучительный ком. Подъем до рассвета, работа до темноты, короткий, тревожный сон. И снова по кругу. Люди работали на пределе своих сил. На жилах. На упрямстве. На страхе перед зимой, которая с каждым днем дышала им в спину все холоднее. И нервы были натянуты, как струны.
Это случилось на пятый день стройки. Четверо мужиков – двое воинов, двое смердов – тащили наверх очередное тяжеленное сосновое бревно. Они карабкались по скользкому склону, упираясь ногами, рыча от натуги. Один из них, смерд по имени Ждан, споткнулся. На мгновение он потерял равновесие, и его конец бревна провис. Вся тяжесть легла на троих. Они не удержали.
Бревно с грохотом покатилось вниз. Оно пролетело в каком-то вершке от третьего мужика, который успел в последний момент отпрыгнуть в сторону, бледный как полотно. Бревно с треском врезалось в дерево у подножия холма и замерло.
Катастрофы не случилось. Никто не пострадал. Но это было последней каплей.
– Твою мать, кривоногий! – взревел один из воинов, тот, что едва не угодил под катящиеся бревна. – Ты нас чуть всех не покалечил! Смотреть под ноги надо, деревенщина!
– Я споткнулся! – огрызнулся Ждан, поднимаясь на ноги. Он был напуган и унижен. – Тут камней не видишь, что ли?
– Не камни у тебя под ногами, а дерьмо в голове! Руки из жопы растут! Таких, как ты, только коров пасти, а не стены строить! – не унимался воин.
– Ах ты, мешок с требухой! – взорвался обычно спокойный Ждан. – Ты только мечом махать горазд, а как до работы, так еле дышишь! Может, сам бы попробовал на моем месте?!
Слово за слово. Грубость на грубость. Оскорбления становились все злее. Через мгновение они уже не кричали. Они рычали друг на друга, тыча пальцами в грудь. Их глаза налились кровью. Еще секунда – и они бы схватились. Два измученных самца, готовых рвать друг друга на части из-за своей боли и усталости.
Работа вокруг замерла. Все смотрели на них. Этот гнойник зрел давно. Он готов был прорваться.
Ратибор подошел быстро и тихо. Он не стал их расталкивать. Он просто встал рядом. Молча. Его молчание было громче их криков. Оба спорщика осеклись на полуслове, почувствовав его присутствие.
Он не кричал. Он не ругался. Он просто смотрел на их раскрасневшиеся, искаженные злобой лица.
– Хорошо, – сказал он наконец. Тихо. Спокойно. И от этого спокойствия им стало не по себе. – Силы девать некуда. Я смотрю, вы полны энергии. Готовы друг другу кости ломать. Это похвально.
Оба виновато потупились.
– Раз так, – продолжил Ратибор все тем же ледяным тоном, – я найду применение вашей удали. Значит, сегодня ночью вы оба в дозоре. Вместе.
Он указал на самый дальний край их зарождающейся крепости, на мыс, который больше всего продувался ледяным морским ветром.
– На самой дальней точке. От заката и до рассвета. Без смены.
Он перевел взгляд с одного на другого.
– И если вы там замерзнете – а вы замерзнете, я вам это обещаю, – то грейтесь. Грейтесь мыслью о том, как тепло и уютно сейчас вашим товарищам, которые спят после тяжелой работы. Товарищам, которые не тратят свои силы на собачью грызню, а просто делают общее дело.
Он помолчал, давая им прочувствовать всю прелесть перспективы.
– Может быть, к утру, когда ветер выдует из вас всю вашу дурь, вы поймете одну простую вещь. Враг у нас один. И он не в твоем товарище, который споткнулся от усталости. Враг – это холод. Это голод. Это время, которое у нас уходит. Любой, кто тратит силы на борьбу друг с другом, – помогает этому врагу. А тот, кто помогает врагу, – сам становится врагом.
"Ты не можешь приказать им не уставать, – думал он, отходя от них. – Это невозможно. Усталость – это часть жизни, как дыхание. Но ты, как вождь, должен стать для них сосудом. Сосудом, в который они могут слить свое раздражение. Ты должен принять на себя их гнев, их усталость, их боль. Переплавить ее. И вернуть им обратно в виде приказа, который снова направит их энергию в нужное русло. Ты – громоотвод. Ты – плотина. Ты – берега для их мутной, бешеной реки злости. И если ты не выдержишь, эта река смоет всех".
Он не стал дожидаться их ответа. Он просто отвернулся и пошел дальше. Он знал, что они подчинятся. И проведут долгую, холодную, унизительную ночь вдвоем. Может, они там снова подерутся. А может, к утру, окоченевшие и злые на него, а не друг на друга, они поймут, что у них гораздо больше общего, чем им казалось.
Например, один на двоих враг, который сидит наверху и придумывает для них такие наказания.
И это тоже было своего рода единством.
Глава 56. Вышки
Стены были почти закончены – глухое, высокое кольцо из бревен, которое внушало чувство уверенности и защищенности. Но Рогнеда была неумолима.
– Стена без глаз – это слепой великан, – сказала она Ратибору на утреннем совете. – Он силен, но его может зарезать любой карлик, подкравшийся сзади. Нам нужны вышки. По углам. Высокие. Чтобы видеть и море, и лес.
И они начали их строить.
Это была другая, более сложная работа. Не просто укладывать бревна, а возводить вверх четырехугольные срубы, прочные и устойчивые. Приходилось поднимать тяжелые бревна на высоту, вязать их, крепить. Работа была опасной и требовала точности.
К концу недели первая вышка была готова. Она возвышалась над частоколом на два человеческих роста, увенчанная небольшим помостом с зубчатым ограждением. Она была уродливой, грубой, но в ней было что-то могучее. Она была похожа на протянутую к небу руку, на сторожевой палец их нового дома.
Ратибор поднялся наверх первым. Лестница была крутой и шаткой, ступени скрипели. Но когда он ступил на верхний помост, ему на мгновение перехватило дух.
Отсюда мир был другим. Совсем другим.
Ветер здесь был сильнее, свободнее. Он бил в лицо, трепал волосы, свистел в ушах. И он нес запахи – густой запах смолы от сосен, соленый, влажный запах моря.
Но главное – это вид.
Отсюда было видно всё.
Их острог лежал внизу, как на ладони, – кривой, неправильный круг стен, дым от костра, суетящиеся фигурки людей. За стенами – темно-зеленое, волнующееся море леса с одной стороны, и сине-серая, бесконечная рябь залива – с другой. Горизонт стал дальше. Мир стал огромнее.
Он подошел к краю и посмотрел вниз. Люди, его люди, казались отсюда крошечными, почти незначительными. Муравьи, копошащиеся вокруг своего муравейника. Он мог различить фигурку Рогнеды, отдающей приказы. Светлану, развешивающую белье. Детей, играющих в пыли. Но он не видел их лиц. Не слышал их голосов. Они стали частью общего пейзажа, не более.
И он задумался.
"Странная штука – высота, – сказал он своему вечному, молчаливому собеседнику. – Она дает тебе власть. Власть видеть дальше других. Ты стоишь здесь, и твой взгляд проникает за кромку леса, за морскую гладь. Ты видишь опасность раньше, чем увидят они, те, что внизу. Ты можешь предупредить их. Можешь направить. Ты становишься их глазами. Их разумом. Это пьянит, не так ли? Это чувство… почти божественное".
Он вцепился руками в грубое, шершавое ограждение. Ветер толкал его в спину, будто подталкивая к краю.
"Но она не только дает, – продолжил он свой безмолвный разговор. – Она и отбирает. Чем выше ты поднимаешься, тем дальше ты от них. Ты начинаешь видеть лес, но перестаешь видеть отдельные деревья. Ты видишь народ, но перестаешь различать лица. Их смех, их слезы, их маленькие, ежедневные заботы – все это становится неважным, мелким. Просто шум, доносящийся снизу".
Он посмотрел на свои руки, лежащие на дереве. Руки, которые еще вчера рубили и таскали бревна вместе с ними. Но сейчас он был здесь, наверху. А они – там, внизу.
"Она дает тебе власть видеть дальше других. Но она же и отделяет тебя от них. И чем выше ты поднимаешься, тем больше это расстояние. И тем меньше ты помнишь, как пахнет их пот, как тяжела их работа. Ты начинаешь мыслить не жизнями, а цифрами. 'Нужно послать отряд из десяти человек на разведку. Двое могут не вернуться'. Сказанное здесь, с этой высоты, это звучит как простой тактический расчет. А там, внизу, у этих 'двоих' есть жены, дети, своя недопетая песня.
И может быть, – эта мысль была холодной и страшной, – может быть, в этом и есть главный секрет и главная ловушка власти? Высота, которая делает тебя одиноким и… безжалостным. Потому что гораздо легче послать на смерть безликую фигурку муравья, чем человека, чьи глаза ты видел вчера у костра. Высота делает тебя сильнее. И она же убивает в тебе человека".
Он стоял на этой вышке еще долго, вдыхая ветер и эту новую, опасную власть. Он понимал, что отныне ему придется жить здесь, наверху. Смотреть на мир с этой холодной, отстраненной высоты.
Но он дал себе клятву. Каждый вечер. Каждый, без исключения, вечер, он будет спускаться вниз. Садиться к их общему костру. И смотреть в их лица. Чтобы никогда не забыть.
Ради кого и чего он стоит на этой проклятой вышке.
Ради кого и чего ему, возможно, однажды придется отдать приказ, который превратит живые, теплые тела в безликие цифры потерь.
Глава 57. Первая Крыша
Стены и вышки были костями и глазами их нового дома, но ему все еще не хватало сердца и черепа – очага и крыши. Холодные ночи становились все злее. Тонкие стенки временных шалашей уже не спасали от ледяного дыхания, что приходило с моря. Людям нужна была защита. Настоящая.
В центре острога, сразу за главной стеной, они начали строить первый большой дом. Не дом вождя. Не казарму для дружины. А общинный барак. Длинное, приземистое строение, где в первую, самую страшную зиму должны были разместиться все – женщины, дети, старики. Те, кто был самым уязвимым.
Стены срубили быстро, работая уже со знанием дела. Но самое трудное было впереди – крыша. Ее делали двускатной, чтобы снег, который должен был вот-вот выпасть, не скапливался, а съезжал вниз. Возводили стропила, набивали обрешетку. Это была тонкая, плотницкая работа, которой руководил старый Боривой, вспомнивший свое давнее ремесло.
Последним этапом была кровля. Крышу крыли тяжелыми, толстыми тесаными досками – тёсом, который мужики вырубали тут же, раскалывая клиньями сосновые чурбаки. Доски были кривыми, грубыми, но крепкими. Их укладывали внахлест, одну на другую, как чешую гигантской рыбы.
И именно в тот день, когда они начали эту работу, он пошел.
Первый настоящий снег.
Не те редкие, колючие снежинки, что были несколько недель назад. А густой, тяжелый, хлопьями. Он валил с низкого серого неба, беззвучный и неотвратимый. Он покрывал землю, стены, плечи людей белым, холодным покрывалом.
И работа превратилась в гонку. Лихорадочную, отчаянную.
– Шевелись! – рычал Боривой, и его голос был едва слышен за пеленой снегопада. – До темноты покрыть надо! Иначе все снегом завалит!
Они работали под этим снегом, который таял на их горячих спинах, смешивался с потом, стекал ледяными ручейками за шиворот. Их руки коченели, пальцы не слушались, но они передавали доски наверх, на крышу, где плотники, скользя на обледенелых стропилах, прибивали их тяжелыми деревянными гвоздями.
"Как это символично, не находишь? – думал Ратибор, передавая очередную тяжелую доску. Его лицо было мокрым, волосы слиплись. – Небо пытается засыпать нас, похоронить под своим белым саваном. А мы, как упрямые кроты, пытаемся успеть накрыть свою нору последним листом. Это не просто работа. Это спор. Спор с самой зимой. Она говорит: "Я иду, чтобы убить вас". А мы, стуча молотками, отвечаем: "Попробуй, старая стерва. Мы готовы".
Они закончили, когда уже сгустились сумерки. Последняя доска легла на свое место. В крыше еще были щели, ее нужно было доводить до ума. Но она была. Она была целой.
Все спустились вниз, промокшие до нитки, замерзшие, смертельно уставшие.
А внутри барака уже горел огонь. Первый огонь в первом очаге.
Женщины сложили его в центре дома, на утоптанной глиняной площадке. Дымохода еще не было, и едкий, смолистый дым сначала заполнил все помещение, выедая глаза, а потом нашел себе выход в щели под крышей.
Люди набились внутрь. Все. Почти сотня человек в этом длинном, низком, полутемном помещении. Они сидели на полу, на наспех сколоченных лавках, на своих узлах, прижавшись друг к другу. И смотрели на огонь.
Снаружи выл ветер и валил снег. А здесь, внутри, было тепло. Не жарко. Но тепло. Тепло от огня. И тепло от десятков человеческих тел.
В котелке над огнем варилась горячая похлебка. И по бараку плыл запах – непередаваемая смесь дыма, сырого дерева, мокрой одежды и горячей еды.
И кто-то вдруг засмеялся. Просто. Без причины. От облегчения. И этот смех подхватили другие.
Они сидели под этой своей, первой, кривой и дырявой крышей. И смеялись. Смеялись, как дети.
Это был их первый дом.
Да, он был уродливым, тесным. Он пах смолой, потом и дымом. Пол был земляной. В стенах зияли щели. Но это не имело значения.
Потому что он был их.
Они не получили его в наследство. Не захватили в бою. Они родили его. В муках. Из дерева, пота и своего упрямства.
И этой ночью, слушая, как снег барабанит по их первой, настоящей крыше, каждый из них чувствовал себя не изгнанником, не рабом, не жертвой.
А хозяином.
Хозяином своего маленького, теплого, дымного мира, который они сами себе сотворили на краю света.
Глава 58. Дым Очага
На следующее утро снег прекратился. Мир лежал под чистым, белым покрывалом, сияющим под лучами низкого северного солнца. Воздух был морозным, кусачим, но после сырого снегопада он казался бодрящим и чистым. Из большого общинного дома, из дымового отверстия, прорубленного в крыше, в синее, ясное небо поднимался столб дыма.
Ратибор стоял на недостроенной стене, наблюдая, как его люди выходят из своего нового жилища. Они щурились от яркого света, потягивались, смеялись, перебрасываясь шутками. Первая ночь под крышей изменила их. Они выспались. Они были в тепле. На их лицах не было той измученной, загнанной маски, что стала для них привычной. Впервые за долгое время они выглядели просто как люди, встречающие новый день.
К нему подошла Заряна. Она была закутана в теплую шкуру, ее щеки горели румянцем от мороза. Она не смотрела на людей. Она смотрела на дым.
Его столб поднимался от крыши почти идеально прямо, лишь на самой вершине слегка изгибаясь под легким ветерком. Белый на фоне синего неба, он был виден издалека. Он был знаком. Сигналом. "Мы здесь. Мы живы. У нас горит очаг".
– Дым идет прямо, – заметила Заряна, и ее голос был спокоен, как и она сама. Это было не просто наблюдение за погодой. В ее словах, как всегда, был иной, более глубокий смысл.
Ратибор обернулся к ней.
– И что это значит на твоем языке, жрица? Что боги послали нам свое благословение?
Она покачала головой, не сводя глаз со столба дыма.
– Нет. Не благословение. Скорее… отсутствие проклятия. Дым прямой, его не крутит, не прибивает к земле. Значит, духи этого места, хозяева этого воздуха, пока не против нашего огня. Он не оскорбляет их. – Она сделала паузу, подбирая слова. – Но они и не рады ему. Я чувствую это.
– Как ты это чувствуешь? – спросил Ратибор. В его голосе не было насмешки, скорее – искреннее любопытство. Он до сих пор не понимал ее мир, но после истории с порогами научился его уважать.
– Это трудно объяснить словами, – она посмотрела на него. – Это как… как ты чувствуешь на себе чужой взгляд в лесу, даже если никого не видишь. Ты просто знаешь, что на тебя смотрят. Вот и я знаю. Они просто наблюдают. С высоты этого неба, из глубины этого леса. Они видят наш дым, слышат наш шум. И ждут.
– Ждут чего?
– Ждут, чтобы понять, кто мы. Пришли ли мы, чтобы рубить и жечь без меры, чтобы осквернять их ручьи и священные рощи. Или мы пришли, чтобы жить. В мире с ними. И с этой землей. Они – древние стражи. И они еще не решили, друзья мы или враги. Мы для них пока никто. Просто дым над холмом.
"Забавно, – подумал Ратибор, снова переводя взгляд на людей, суетящихся внизу. – Для них этот дым – символ дома, тепла, безопасности. Символ победы над холодом. А для нее – это вопросительный знак, повисший в небе. Вопрос, который мы задали невидимым силам. И ответа на который мы еще не получили".
Его практичный, воинский разум отказывался принимать это всерьез. Дым идет прямо, потому что нет сильного ветра. Все просто. Но другая его часть, та, что родилась после похода в Навь и разговора с рекой, шептала ему, что, возможно, все не так просто. Что в мире Заряны прямой дым – это тоже своего рода договор. Хрупкое, временное перемирие.
– Пусть наблюдают, – проворчал он, больше для себя, чем для нее. Он снова надел свою привычную маску жесткого, прагматичного вождя. – Мне все равно, рады они или нет. Главное, чтобы моим людям было тепло. А если их духам что-то не понравится… – он похлопал по рукояти меча, висевшего на поясе, – …то будем говорить с ними на том языке, который я понимаю лучше.
Заряна вздохнула.
– Не со всеми можно говорить на языке железа, Ратибор. Некоторые вещи оно не рубит, а только злит еще больше.
Она постояла еще немного, а потом пошла вниз, помогать женщинам с завтраком.
А Ратибор остался на стене. Он смотрел на этот белый, прямой, как копье, столб дыма. Символ его маленькой, человеческой победы. И он чувствовал на своей спине невидимые взгляды. Холодные, внимательные, вопрошающие.
Взгляды, идущие не из леса, где могли прятаться люди.
А с самого неба.
Глава 59. Последний Гвоздь
Общинный дом дал им тепло. Стены дали им чувство защищенности. Но их острог все еще был ранен, уязвим. В кольце частокола зияла дыра – проем, оставленный для будущих ворот. Это была открытая рана, через которую в их маленький мир мог ворваться любой враг, любая беда. И пока эта рана не была закрыта, никто не чувствовал себя в полной безопасности.
Создание ворот было делом долгим и важным. Их делали не из сосны. Для них пошел тот самый могучий дуб, которому Заряна приносила жертву. Его распилили на толстые, тяжелые плахи. Эти плахи сколачивали в два слоя, крест-накрест, чтобы их нельзя было ни прорубить, ни поджечь.
И вот настал день, когда ворота были готовы. Две массивные, невероятно тяжелые створки, окованные редкими железными полосами, которые Ратибор берег для такого случая. Десятки мужчин, надрываясь, притащили их к проему. Установили на мощные столбы, насадили на гигантские деревянные петли, смазанные жиром.
Работа была почти закончена. Оставалось забить последний кованый гвоздь. Самый большой, с широкой шляпкой, который должен был скрепить центральные плахи.
Боривой, руководивший работой, протянул молот и гвоздь Ратибору.
– Твоя честь, вождь. Закрой наш дом.
Ратибор взял в руки тяжелый молот. Гвоздь в другой руке был холодным, весомым. Он подошел к массивной створке ворот. Установил острие гвоздя в подготовленное отверстие. Вокруг собрались люди, наблюдая за этим символическим действом в молчании.
Он занес молот.
Бум!
Первый удар. Гвоздь вошел в дерево на палец. Звук получился гулким, низким, он прокатился по всему острогу и, казалось, ударился о стену леса.
Бум!
Второй удар. Гвоздь пошел глубже.
Ратибор бил. Размеренно. Тяжело. И с каждым ударом он думал.
"Что я сейчас делаю? Я забиваю гвоздь. Завершаю работу. Но что это на самом деле?
С каждым ударом я будто отрубаю еще одну нить, связывающую нас с прошлым. С тем миром, где мы могли свободно приходить и уходить. С тем миром, где не нужны были ворота, окованные железом. С каждым ударом я отрезаю нам путь назад".
Бум!
Шляпка гвоздя почти коснулась дерева.
"Эти ворота… они должны нас защищать. Защищать от врагов, от зверей, от холода. Они – наш щит. Наш заслон. Когда мы закроем их на ночь, мы будем спать спокойно. Так?
А может быть… может быть, все наоборот?
Может, мы строим не крепость, а тюрьму?
Тюрьму, которую мы возвели сами для себя, чтобы защититься от большого, страшного мира. Мы запираемся здесь, на этом холме, отгораживаемся от леса, от моря. Мы прячемся за этими стенами, убаюкивая себя иллюзией безопасности. А мир… он остается там. Снаружи. Со всеми его опасностями, да. Но и со всеми его возможностями. Со всеми его дорогами, которые мы теперь не выберем, потому что будем сидеть запертыми в своей собственной крепости.
Эти ворота будут защищать нас от врагов.
Но они же будут отделять нас от друзей.
Они сохранят нам жизнь.
Но они же могут лишить нас свободы.
Что лучше? Быть свободным и уязвимым? Или защищенным и запертым?"
БУМ!
Последний, оглушительный удар. Шляпка гвоздя вмялась в дерево, слившись с ним.
Дело было сделано.
Ратибор опустил молот. Он провел рукой по холодному, шершавому дереву. Посмотрел на массивный засов, который теперь можно было задвинуть, отрезав себя от всего остального мира.
Они больше не были просто лагерем, стоянкой кочевников.
С этого момента они стали крепостью.
И Ратибор почувствовал одновременно и гордость, и странную, необъяснимую тоску.
Он дал своим людям безопасность.
Но он понимал, что за любую безопасность всегда приходится платить.
И ценой, возможно, была та самая свобода, которую они, как им казалось, обрели на этом берегу.
Он посмотрел сквозь проем ворот на бескрайний, вольный мир. А потом обернулся и посмотрел на свой народ, который радовался, глядя на новые, крепкие ворота.
И он не знал, кто из них находится в настоящей клетке.
Глава 60. Радость и Тревога
Это был праздник.
Неофициальный, стихийный, рожденный из общего, всепоглощающего чувства облегчения.
Острог был готов.
Он был уродливым, асимметричным. Бревна частокола, хоть и подогнанные, были разной толщины. Вышки, сколоченные наспех, стояли кривовато. Внутри все было перекопано, завалено щепками и строительным мусором. Но это было неважно.
Главное – он был.
Он стоял.
Грубый, ощетинившийся заостренными кольями, как гигантский еж. Надежный. Их.
И люди праздновали.
Ратибор, видя их измотанные, но счастливые лица, разрешил распечатать последний бочонок с медовухой, который они, как величайшую драгоценность, пронесли с собой через все испытания. Его берегли для первого праздника в новом доме. И вот он настал.
Вечером в центре острога горел огромный костер. Люди сидели вокруг него, передавая по кругу рог с хмельным, терпким напитком. Даже детям перепало по глотку разбавленного меда. Усталость, копившаяся неделями, отступила под натиском этого простого, незатейливого веселья.
Кто-то достал старую, треснувшую свирель, и полилась незамысловатая, плясовая мелодия. Несколько парней и девок, забыв о мозолях и боли в спине, вышли в круг и пустились в пляс. Их движения были неуклюжими, тяжелыми, но в них было столько искренней, отчаянной радости, что смотреть на это без улыбки было невозможно.
Они сделали это. Они, горстка изгнанников, заброшенная на край света, сумели вгрызться в эту чужую землю и построить себе дом. Крепость. Они победили. Победили холод, усталость, свой собственный страх. И они имели право на этот праздник.
Ратибор сидел рядом с Рогнедой, медленно потягивая мед из своей чаши. Он смотрел на веселящихся людей и чувствовал гордость. Гордость за них, за их упрямство. Он видел, как смеется Светлана, разговаривая с другими женщинами. Видел, как старый Боривой, охмелев, травит какую-то байку молодым воинам. Видел Заряну, которая стояла чуть в стороне, в тени, и смотрела на все это со своей обычной, загадочной полуулыбкой. Все было хорошо. Правильно.
"Ты смотришь на них, – говорил ему его внутренний голос, на этот раз не циничный, а просто усталый, – и тебе хочется поверить, что это и есть счастливый конец. Они построили дом. Они радуются. Завтра они проснутся, и начнется новая, спокойная жизнь. Красивая сказка. Но ты ведь знаешь, что это не так, не правда ли?"
Он сделал еще один глоток. Мед был сладким, но на языке оставался горький привкус.
Да, он знал.
Радость, которая сейчас плескалась у костра, была настоящей. Но под ней, как тонкий лед под первым снегом, лежала тревога. Глубокая, холодная. Ее можно было на время забыть, заглушить смехом и хмелем. Но она никуда не делась.
Острог был построен. Но это была лишь скорлупа. Крепкая, но пустая.
Чем они будут наполнять эту скорлупу? Чем будут кормиться всю долгую, темную зиму, которая уже стояла на пороге?
Мяса почти не было, лес по-прежнему был пуст. Той рыбой, что иногда удавалось поймать, сотню ртов не прокормишь. Зерно, которое они принесли с собой, было семенным. Пустить его на еду сейчас – значило обречь себя на голодную смерть следующей весной.
Он смотрел на смех и танцы, а в голове у него стучали сухие, безжалостные цифры. Мешки с мукой. Бочонки с солониной. Количество едоков. Приблизительное число дней до первой весенней травы. И цифры эти не сходились. Категорически.
Крепость построена.
Первая битва – битва за укрытие – была выиграна.
Но как пережить в ней зиму?
Рогнеда, будто почувствовав его мысли, наклонилась к нему.
– Не думай об этом сегодня, – сказала она тихо. Ее лицо в свете огня было непривычно мягким. – Сегодня они заслужили право не думать. И ты тоже.
– Вождь не имеет такого права, – ответил он, не отрывая взгляда от пляшущих теней. – Особенно когда он знает, что еды у них осталось на две-три недели. А впереди – пять месяцев снега.
Она помолчала.
– Мы что-нибудь придумаем, – сказала она. – Мы всегда придумывали.
– Да, – кивнул он. – Придумаем.
Но в эту ночь, глядя на свой празднующий народ, он впервые в полной мере осознал всю чудовищность своего положения. Он был вождем крепости, у которой не было припасов. Капитаном корабля, у которого не было еды для команды. Отцом семьи, которую он не знал, сможет ли прокормить.
Радость была яркой, как пламя их костра.
Но тревога была глубокой и темной, как северная ночь, которая сгущалась за их новыми, крепкими, но такими бесполезными против голода стенами.
И он знал, что когда погаснет костер и утихнет смех, эта тревога останется с ним. Один на один. До самого утра. И, возможно, на всю долгую зиму.
Глава 61. Взгляд в Будущее
Праздник отшумел, оставив после себя гул в головах и горьковатый привкус последних капель меда. Следующий вечер был уже другим – тихим, рабочим. Люди, получив свою короткую передышку, снова взялись за дело – укрепляли, достраивали, готовились к зиме.
Ратибор стоял на стене, на том самом месте, где недавно была возведена первая вышка. Он смотрел не наружу, на темнеющий лес или море, а внутрь. На свое поселение. Внизу, в свете нескольких костров, двигались люди, слышались приглушенные голоса, детский смех. Из трубы общинного дома вился дымок. Это была картина почти мирной, почти нормальной жизни. И от этой картины на душе становилось одновременно и тепло, и невыносимо тяжело.
Он не услышал, как она подошла. Она двигалась бесшумно, как и всегда. Светлана. Она принесла ему его вечернюю порцию – миску с дымящейся кашей. Встала рядом, тоже глядя вниз.
– Смотри, – сказала она тихо, и в ее голосе звучала смесь удивления и гордости. – Похоже на настоящий дом.
– Пока это похоже на муравейник, который растревожили палкой, – беззлобно проворчал он, принимая миску. – Суета, крики, бестолковщина.
Она мягко улыбнулась.
– Нет. Это и есть дом. Когда есть суета и детский крик – значит, в нем есть жизнь.
Они помолчали, глядя на свой маленький, суетливый мир. Ветер, дувший с моря, был холодным, но здесь, за стеной, он уже не казался таким злым.
– Твой отец… – начала она, и ее голос стал еще тише, почти превратился в шепот. – Он гордился бы тобой, Ратибор. Тем, что ты сделал. Что построил. Ты спас их всех.
Ее слова были полны искренней, бесхитростной веры в него. Любой другой на его месте почувствовал бы гордость. Но Ратибора они будто ударили. Он резко поставил миску на бревно и отвернулся.
– Мой отец мертв, – отрезал он, и слова его были холодными и острыми, как осколки льда.
Светлана вздрогнула от его тона.
– Он мертв, – повторил Ратибор, глядя в темноту за стеной, – потому что слишком сильно верил в доброту. Потому что думал, что клятвы на крови важнее, чем высокий частокол и верные дозорные. Он верил в людей. А я, глядя на то, как его убивают те, кого он называл друзьями, научился верить только в крепкие стены. – Он ударил кулаком по шершавому бревну. – Я не повторю его ошибку, Света. Никогда.
В его голосе было столько холодной, выстраданной ярости, что ей стало страшно. Это говорил не тот мальчик, которого она знала и любила. Это говорил кто-то другой. Вождь. Князь, рожденный из пепла и предательства.
Светлана сделала шаг к нему. Она не испугалась его жесткости. Она увидела под ней глубокую, незаживающую рану. Она осторожно, почти невесомо коснулась его руки, лежавшей на бревне.
– Ты построил прекрасные стены, Ратибор, – прошептала она, и ее дыхание теплым облачком коснулось его щеки. – Они спасут наши тела. Я верю в это.
Она замолчала, а потом добавила, и в ее шепоте была мольба:
– Только… пожалуйста… не становись таким, как эти стены.
Он напрягся, не понимая.
– Что ты имеешь в виду?
– Не становись таким, как они, – повторила она, и ее пальцы чуть крепче сжали его руку. – Крепким, но холодным. Могучим, но бездушным. Не строй такую же стену вокруг своего сердца. Не позволяй ей стать выше, чем эта. Потому что если ты это сделаешь… ты спасешь нас всех, но потеряешь самого себя. И тогда мы будем жить в твоей крепости, но это будет крепость, которой правит не человек. А призрак, закованный в доспехи из гнева и недоверия.
"Что может противопоставить хрупкая девушка – воле вождя? – размышлял он, чувствуя, как тепло ее руки пытается пробиться сквозь лед, сковавший его душу. – Не силу. Не логику. Только вот это. Тихий голос. Робкое прикосновение. Она не спорит с тобой. Она не доказывает. Она просто… просит. Напоминает тебе, что внутри этого воина, этого строителя, этого мстителя все еще прячется человек. И что этого человека тоже нужно спасать. Может быть, в первую очередь".
Он медленно, с усилием, разжал кулак и накрыл ее тонкую, хрупкую ладонь своей.
– Я постараюсь, – сказал он хрипло.
Это не было обещанием.
Это не была клятва.
Это была лишь слабая, почти отчаянная надежда. Надежда на то, что, строя стены вокруг своего народа, он не построит темницу для своей собственной души.
Глава 62. Дыхание Зимы
Она пришла не сразу. Не в один день. Она подкрадывалась. Сначала – по ночам, когда иней, острый, как битое стекло, покрывал крыши и бревна частокола. Потом – по утрам, сковывая лужи твердой, хрупкой корочкой льда, которая звенела под ногами. Она дышала на них холодом, приучала, давала привыкнуть к своему присутствию. А потом, однажды утром, они проснулись в совершенно другом мире.
За ночь море у берега замерзло.
Это было невероятное, почти пугающее зрелище. Там, где еще вчера плескались темные, тяжелые волны, теперь, насколько хватало глаз, простиралось белое, неровное поле. Припай. Огромные льдины, нагроможденные друг на друга, смерзлись в единый, неподвижный панцирь, покрытый снегом. Море, такое живое, такое могучее, замолчало. Замерло. Уснуло. Или умерло.
И вместе с морем замерли и звуки.
Исчез вечный, убаюкивающий шум прибоя, который стал неотъемлемой частью их жизни. Исчезли крики чаек. Даже ветер, казалось, затих, боясь потревожить это ледяное величие.
Наступила тишина.
Но это была не та благодатная тишина, что бывает летним полднем. Это была другая тишина. Звенящая. Плотная, тяжелая. Она давила на уши, заставляла вздрагивать от любого случайного звука – скрипа снега, треска ветки в костре. Казалось, сам мир затаил дыхание, превратился в гигантский, застывший кристалл.
Наступила настоящая зима.
Не такая, как та, к которой они привыкли под Смоленском. Та зима была хоть и холодной, но… домашней. Со скрипом полозьев, с дымками из труб, с возможностью укрыться в теплой избе.
Эта была другой.
Это была северная зима. Первозданная. Безжалостная.
Воздух стал другим. Он потерял влажность. Стал сухим, колючим, разреженным. Дышать им было больно, он будто обжигал легкие изнутри. Солнце, висевшее низко над замерзшим морем, превратилось в тусклый, белый диск. Оно светило. Но оно не грело. Его свет был холодным, мертвым, как взгляд слепого бога. Он лишь подчеркивал бесконечную белизну и холод этого мира.
Дни стали короткими, серыми. А ночи – длинными, чернильно-черными и немыслимо холодными. Холод проникал повсюду. Сквозь стены, которые, как оказалось, были не такими уж и плотными. Сквозь шкуры, в которые они кутались. Он забирался под одежду, в кровь, в самые кости. Это был не просто мороз. Это было активное, живое, враждебное нечто. Дыхание самой смерти.
"Ты думал, что стена из бревен может защитить от этого? – думал Ратибор, стоя на вышке и глядя на этот застывший, безмолвный мир. От холода слезились глаза. – Какая наивность. Стена защищает от меча, от стрелы. От того, что можно увидеть. А как защититься от того, что просачивается сквозь щели, что живет в самом воздухе, что ты вдыхаешь с каждым разом? Мы не просто в зиме. Мы в осаде. И враг – невидимый, всепроникающий, неустанный. Он не штурмует стены. Он просто ждет. Ждет, когда у нас кончатся дрова. Когда у нас кончится еда. Когда у нас кончится тепло в наших собственных телах".
Жизнь в остроге изменилась. Она сжалась. Сконцентрировалась вокруг очага в общинном доме. Люди выходили наружу только по крайней крайней нужде – наколоть дров, сходить в отхожее место, отстоять свой срок на стене. Остальное время они проводили внутри, в полумраке, в тесноте, в воздухе, сгустившемся от дыма и дыхания сотни человек.
Началась Великая Осада.
Без криков, без лязга оружия.
В полной, звенящей тишине.
И врагом в этой осаде была сама суть этого края – Зима, со своим ледяным, смертельным дыханием.
Их первая зима на новой земле.
И все понимали – не все ее переживут.
Глава 63. Запертые
С наступлением настоящей, лютой зимы, пришел и новый ритуал. Он был простым, но в нем было больше смысла, чем в любом языческом обряде. Каждый вечер, как только последние блеклые лучи солнца тонули в снежной дымке на горизонте, четверо самых сильных дружинников подходили к воротам.
Снаружи они выглядели могучими, неприступными, покрытыми коркой инея. Днем их оставляли чуть приоткрытыми, чтобы можно было выходить за дровами или на охоту. Но на ночь…
Ночь принадлежала холоду и тьме. И, возможно, кому-то еще.
Воины наваливались на массивные створки, упираясь плечами. Замерзшее дерево поддавалось неохотно, с протяжным, мучительным скрипом, который разносился по всему острогу, заставляя людей невольно ежиться. Наконец, створки сходились с глухим, тяжелым стуком.
А потом Боривой, кряхтя, задвигал огромный дубовый засов – толстое бревно, что скользило в кованых скобах.
Гр-р-рух!
Этот звук.
Этот последний, окончательный звук. Он был точкой, которую они ставили в конце каждого прожитого дня. Он отдавался эхом от стен, от крыш, от замерзшей земли.
И для каждого он означал свое.
Для детей и женщин это был звук безопасности. Самый желанный, самый убаюкивающий. Все. Дверь закрыта. Мы в домике. Ни страшный зверь из леса, ни злые духи из ночной тьмы, ни мифические "соседи", ни сам всепроникающий холод – никто больше не войдет. Засов задвинут. Можно прижиматься друг к другу у огня, слушать сказки и верить, что до утра ничего плохого не случится. Можно спать.
Для дружинников на стенах это был звук начала их службы. Все. Теперь вся надежда на них. Теперь они – единственные глаза и уши этого маленького, спящего мира. И они всматривались во тьму за стенами с удвоенной бдительностью.
А для Ратибора… для Ратибора этот звук был двойственным. Он слушал его каждую ночь, стоя у своего угла в общинном доме, и каждый раз его душа разрывалась на две части.
С одной стороны, да. Это был звук безопасности. Звук его выполненного долга. Он, Ратибор, сделал это. Он привел этих людей сюда. Он построил эти стены. Он дал им эту дверь, которую можно закрыть. Каждый вечер этот скрип и грохот засова говорили ему: "Ты справился. Еще один день прожит. Твои люди в тепле и безопасности. Хотя бы до рассвета". И это приносило скупую, тяжелую гордость.
Но с другой стороны…
Этот же самый звук был звуком неволи.
"Что мы сделали? – думал он, глядя, как гасят последние лучины, и общинный дом погружается в полумрак, освещаемый лишь углями очага. – Мы построили себе клетку. Уютную, теплую, безопасную. Но клетку. Каждый вечер мы сами себя запираем в ней. И радуемся этому. Радуемся своему рабству, потому что оно спасает нас от еще большего ужаса снаружи".
Ему вспоминалась жизнь под Смоленском. Летние ночи, когда можно было спать прямо в траве, под звездами. Широко открытые ворота городища, в которые до поздней ночи входили и выходили люди. Ощущение простора. Ощущение воли.
Все это было в прошлом. Теперь их мир сузился до этого клочка земли, обнесенного частоколом.
"Мы не воины в крепости. Мы – осажденные. И неважно, кто нас осаждает – люди из леса или сама зима. Суть одна. Мы заперты. И эти ворота, которым они так радуются, – это символ не только нашей силы. Это символ нашей слабости. Символ нашего страха. Мы боимся этого мира так сильно, что готовы отгородиться от него самыми толстыми бревнами. И каждый вечер, когда Боривой задвигает этот засов, он не просто запирает врагов снаружи. Он запирает и нас. Внутри".
Это был звук безопасности.
И звук неволи.
Звук победы.
И звук поражения.
Он был и тем, и другим одновременно. Горькая, противоречивая правда их новой жизни. И Ратибор каждую ночь слушал этот звук, и каждый раз его сердце сжималось от странной, необъяснимой тоски. Тоски по миру, где не нужно было выбирать между безопасностью и свободой. По миру, которого для них больше не существовало.
Глава 64. Распределение Обязанностей
Зима окончательно вступила в свои права, и стало ясно, что стихийный, лихорадочный порядок дней строительства должен смениться чем-то иным. Чем-то строгим, размеренным, почти воинским. Хаос и импровизация, которые помогали им в пути, теперь, в долгой осаде холодом, могли их убить. Нужен был уклад. Закон. Ритм.
Однажды вечером, когда все собрались в общинном доме после скудного ужина, Ратибор встал перед ними. Огонь очага отбрасывал длинные, пляшущие тени, и в его свете лицо Ратибора казалось высеченным из камня. Он не повышал голоса. Он просто говорил. И его слова были твердыми и весомыми, как бревна, из которых они построили этот дом.
– Время праздников и время стройки кончилось, – начал он. – Наступило время зимы. И она – наш главный враг. Она не спит, не устает и не знает жалости. Чтобы победить ее, мы тоже должны стать такими. Безжалостными к своей лени. К своим слабостям. К своей жалости к себе.
Он обвел взглядом своих людей, сидящих на лавках и просто на полу.
– С сегодняшнего дня у каждого будет свое дело. Своя обязанность. И от того, как каждый выполнит ее, будет зависеть, увидим ли мы все вместе весеннюю траву.
Он говорил не как вождь-вдохновитель, а как воевода, распределяющий роли перед решающей битвой.
– Мужики. Все, кто может держать оружие. Ваша работа – снаружи. Дозор на стенах. Круглые сутки. Посменно. Рогнеда составит график. Замерз на посту, проспал, не заметил врага – убьешь не только себя, но и всех нас. Спрос будет тройной.
Он посмотрел на Боривоя и еще нескольких лучших охотников.
– Другие – охота и лес. Каждый день, пока есть хоть какой-то свет, вы уходите. Искать след. Ставить силки. Нам нужно мясо. Нам нужны дрова. Каждый принесенный заяц, каждая вязанка хвороста – это еще один выигранный день в нашей войне.
Затем он повернулся к женщинам.
– Ваша работа – внутри. И она не менее важна. Очаг. Он должен гореть днем и ночью. Это сердце нашего дома. Если он погаснет, мы все замерзнем. Назначить дежурных.
– Одежда. Перебрать все наши тряпки. Что-то починить, что-то перешить на детей. Зима только началась, дальше будет хуже. Нужна теплая одежда. Шкуры, которые принесут охотники, – выделывать. Прясть. Шить. Каждая игла в ваших руках – такое же оружие, как топор у дровосека.
– Дети. Они наше будущее. Следить, чтобы были в тепле, чтобы не болели. Заряна и Светлана – за вами все хвори и раны.
– Еда. – Его голос стал жестче. – Все, что у нас есть, – на учете у Светланы. Она знает счет лучше всех. Она будет выдавать паек. И ее слово – закон. Любой, кто попытается утаить или взять лишнее, – будет судим как вор, укравший жизнь у своего товарища.
Он закончил. И в наступившей тишине было слышно, как гудит ветер снаружи. Он не спрашивал, согласны ли они. Он не предлагал. Он устанавливал порядок.
Жесткий, почти тюремный. Но единственно возможный.
"Что такое закон? – думал он, глядя, как люди молча, но с пониманием, принимают его слова. – Это просто правила, которые придуманы, чтобы стая не сожрала сама себя. В сытые, мирные времена закон может быть мягким, он может позволить себе роскошь справедливости, разбирательства, прощения. Но когда стая загнана в угол, когда голод и холод стучатся в твою дверь… тогда закон становится другим. Он становится простым, как лезвие меча. Ты либо выполняешь свое дело – и живешь. Либо нет – и умираешь, увлекая за собой других. У зимы нет сочувствия. Значит, и у нашего закона его не будет".
Жизнь входила в новую, суровую колею. Каждый день теперь был похож на предыдущий. Скрип засова на рассвете. Уход охотников в морозную мглу. Скрип веретена и тихий говор женщин у очага. Смена дозорных на стенах. Снова скрип засова на закате. Скудный ужин. Короткий, тревожный сон.
Это был ритм выживания. Монотонный, безрадостный.
Но это был ритм.
А пока был ритм – была жизнь. Их маленький, упрямый, человеческий уклад, который они противопоставили великому, холодному, безразличному хаосу северной зимы.
Глава 65. Первая Ночь за Стенами
Первая ночь нового уклада была самой холодной. Мороз окреп, и воздух стал таким плотным и колким, что, казалось, вот-вот зазвенит и расколется. Небо было чистым, усыпанным ледяными, безразличными звездами. Полная луна, огромная и белая, висела над замерзшим морем, заливая весь мир мертвенно-бледным, призрачным светом. Снег под ногами скрипел от каждого шага.
После того как задвинули засов, Ратибор не пошел в общинный дом. Он начал свой первый обход. Он должен был убедиться, что его приказ, его новый закон, начал работать.
Он поднялся на стену по скрипучей, обледенелой лестнице. Наверху его встретил ветер. Не тот яростный ураган, что был во время шторма. Этот был другим. Ровным, сильным, пронизывающим до самых костей. Он выл над заостренным частоколом, проносясь над острогом, и в его вое слышалась голодная, волчья тоска. Будто огромный, невидимый зверь рыскал вокруг их убежища, выискивая щель, в которую можно было бы просунуть свою ледяную лапу.
Он подошел к первому дозорному. Это был Верен, молодой дружинник. Он стоял, закутавшись в шкуры, приплясывая на месте, чтобы согреться. Пар от его дыхания тут же превращался в иней на меховом воротнике.
– Что видишь? – спросил Ратибор. Его голос прозвучал приглушенно из-за ветра.
– Ничего, вождь, – ответил Верен, не отрывая взгляда от лунной дорожки на ледяном поле, что еще недавно было морем. – Только лед да снег. Тихо. Слишком тихо.
Ратибор кивнул. Положил ему руку на плечо.
– Не спи. От тебя зависит жизнь всех, кто спит внизу.
– Не сплю, вождь. Разве на таком холоде уснешь.
Он пошел дальше по узкому помосту, идущему вдоль стены. Он обошел все четыре поста. Везде было одно и то же. Согнувшиеся от холода, напряженные фигуры. Бдительные взгляды, устремленные во тьму. Его приказ работал. Машина начала свое монотонное, жизненно важное движение.
Он остановился на угловой вышке, смотревшей в сторону леса.
Внизу, в его остроге, было… спокойно. Из трубы общинного дома все еще поднимался дымок. Сквозь щели в стенах пробивались тонкие полоски света от очага. Оттуда доносились приглушенные, неразборчивые звуки: чей-то кашель, тихий женский смех, обрывок колыбельной.
Они были там. Внизу. В тепле. В безопасности.
Их мир сузился до этого маленького, освещенного круга, защищенного стенами, которые они построили, и дозорными, которых он поставил. Они были в своем ковчеге, посреди ледяного, смертельного океана зимы.
"Ты сделал это, – сказал ему его внутренний голос. – Ты дал им то, что обещал. Защиту. Укрытие. Шанс. Смотри. Они почти в безопасности. Теперь ты можешь быть доволен".
Но он не чувствовал ни довольства, ни гордости.
Он, стоя один на этой продуваемой всеми ветрами вышке, под взглядом холодных, безжалостных звезд, чувствовал себя уязвимее, чем когда-либо. Уязвимее, чем в бою, уязвимее, чем во время шторма.
Там, внизу, их было почти сто человек. Сотня тел, сотня душ, которые могли прижаться друг к другу, согреться общим дыханием, утешиться общим словом.
А он был один.
Он был той тонкой, натянутой до предела мембраной, что отделяла их маленький, теплый мир от огромного, холодного ужаса снаружи.
Он был один на один с этим воющим ветром. С этим бесконечным, мертвым лесом. С этим безжалостным, всепроникающим холодом.
Он в полной мере ощутил свое одиночество. Одиночество вождя.
"Это как стоять на вершине горы, – думал он, вглядываясь в чернильную тьму под деревьями. – Ты видишь дальше всех. Но и ветер бьет по тебе сильнее всех. И если ты упадешь… никто тебя не подхватит. Ты просто покатишься вниз, ломая кости, и твое падение, может быть, даже никто не заметит до самого утра".
Он сжал руками холодное, покрытое инеем дерево ограждения.
Да, они были в безопасности.
Но вся их безопасность, вся их жизнь держалась сейчас на четырех замерзших дозорных. И на нем. На его воле. На его способности не спать, когда спят другие. Не бояться, когда боятся другие. Не сдаваться, когда сдаются другие.
Ответственность.
Это простое, короткое слово. Но сейчас оно ощущалось им физически. Как ледяная плита, которую он взвалил себе на плечи. И эта плита давила сильнее, чем любой холод.
Он был их стеной. Их крышей. Их запертыми воротами.
И он знал, что этой ночью, как и во все последующие ночи этой бесконечной зимы, он не сможет уснуть спокойно.
Потому что тот, кто взял на себя бремя быть защитником, навсегда теряет право на беззащитность. Даже во сне.
Глава 66. Белое Безмолвие
Зима, показав свой ледяной оскал, решила явить им свою истинную, удушающую мощь. Неделю назад начался снегопад. И он не прекращался.
Это был не тот легкий, пушистый снег, что бывает в сказках. Это была плотная, серая, бесконечная завеса. Мелкая, сухая снежная крупа, которую гнал порывистый ветер. Она летела почти горизонтально, забивая глаза, нос, проникая сквозь малейшие щели в одежде и стенах. Небо исчезло. Горизонт исчез. Мир превратился в белый, крутящийся, воющий хаос.
Острог утонул.
Каждое утро люди просыпались и видели, что сугробы стали еще выше. Они уже доходили до середины частокола. Дорожки, которые они протаптывали внутри крепости, за ночь заметало снова. Каждый поход за дровами превращался в тяжелую, изнурительную битву со стихией. Мужчины возвращались, покрытые снегом с головы до ног, похожие на оживших покойников. Их бороды и ресницы смерзались в ледяные сосульки.
Мир сузился. Сначала он был размером с горизонт. Потом – с их острог. А теперь он сжался до крошечного, едва теплого нутра их общинного дома. Все, что было снаружи, перестало существовать. Оно утонуло в этом белом безмолвии. Единственными звуками, доносившимися извне, были протяжный, тоскливый вой ветра над крышей да глухой стук, когда очередной ком снега срывался с крыши и падал вниз.
И внутри этого сжавшегося мира люди тоже начали сжиматься.
Жизнь превратилась в монотонное, почти животное существование. Проснуться. Поесть скудную похлебку. Посидеть у огня. Дождаться вечера. Поесть снова. Уснуть. Вся деятельность свелась к поддержанию жизни. Мужчины, сменяя друг друга, уходили наверх – не столько в дозор (видеть в этом молоке все равно было нечего), сколько на борьбу. Они счищали снег со стен и крыши, чтобы те не рухнули под его тяжестью. Женщины бесконечно чинили ветхую одежду, перебирали скудные запасы трав, качали детей.
И в этой тесноте, в этом полумраке, в этом спертом, пахнущем дымом, потом и немытыми телами воздухе, родилась и начала расползаться новая, самая страшная болезнь.
Болезнь, от которой не было лекарств у Заряны.
Болезнь севера. Тоска.
Она не приходила сразу. Она просачивалась по капле.
Сначала люди просто становились тише. Разговоры смолкли. Потом они становились раздражительнее. Любая мелочь – толкнул, не так посмотрел, громче вздохнул – могла вызвать вспышку злобы. Потом наступала апатия. Люди часами сидели, уставившись в огонь, с пустыми, невыразительными глазами. Они не думали ни о чем. Они просто… были. Как камни.
"Можно укрыться от холода. Можно обмануть голод, выпив горячей воды, – думал Ратибор, наблюдая за своими людьми. Он чувствовал эту тоску и в себе. Она была похожа на медленный яд, который впрыснули ему в вены. – Но как укрыться от самого себя? От пустоты, что рождается в твоей голове, когда дни и ночи сливаются в одно серое, бесконечное месиво?"
Эта тоска была страшнее мороза. Мороз убивал тело, но он же и заставлял бороться, двигаться, рубить дрова. А тоска убивала душу. Волю к борьбе. Она нашёптывала: "Зачем? Зачем все это? Этот снег никогда не кончится. Весна никогда не наступит. Вы просто умрете здесь, в этой дымной, вонючей норе. Так какая разница – сегодня или завтра?".
Он видел ее симптомы повсюду.
Верен, молодой и жизнерадостный, перестал играть на свирели. Просто сидел, обхватив колени руками.
Женщины перестали петь колыбельные, просто молча качали своих детей.
Даже Рогнеда, его кремень, его опора, стала молчаливее и мрачнее. Она целыми днями точила свой меч. Снова и снова. Монотонное, бессмысленное занятие. Просто чтобы занять руки. Просто чтобы не сойти с ума от бездействия.
Они были заперты. Не просто в остроге. Они были заперты в зиме. В этой белой, безмолвной, бесконечной тюрьме.
И Ратибор с ужасом понимал, что стены, которые они с таким трудом возводили для своего спасения, могут стать их общей могилой.
Не потому, что их пробьет враг.
А потому, что люди, запертые внутри, просто разучатся хотеть жить.
Глава 67. Пустые Силки
Когда метель наконец-то утихла, оставив после себя преображенный, неузнаваемый мир, похожий на царство Снежной богини, у людей появилась слабая надежда. Белое безмолвие сменилось белым сиянием. Снег лежал так глубоко, что человек проваливался по пояс. Но небо было чистым, а значит, можно было снова идти в лес.
На охоту теперь смотрели не просто как на способ добыть еду. Это была единственная осмысленная деятельность, единственная связь с внешним миром, единственная надежда вырваться из удушающей апатии общинного дома.
Лучшие охотники, Боривой и старый карел Онтрей, с тремя самыми выносливыми мужиками, встали на широкие самодельные лыжи-снегоступы. Их уход был похож на проводы в дальний поход. Женщины смотрели на них с мольбой в глазах, дети – с восхищением. Они были героями, идущими в битву с голодом.
Они ушли. И лагерь снова замер в ожидании. Но это было уже не томительное ожидание беды, а напряженное ожидание чуда. Все прислушивались. Все ждали.
Они вернулись поздно вечером, когда уже зажглись первые звезды на иссиня-черном морозном небе. Вернулись молчаливые, смертельно уставшие.
И с пустыми руками.
– Ничего, – сказал Боривой, тяжело опускаясь у огня. Он снял шапку, и пар повалил от его седой головы. Лицо его было темным от ветра и разочарования. – Пусто.
Люди, сгрудившиеся вокруг, разочарованно ахнули. Надежда, согревавшая их весь день, начала таять.
– Как пусто? – не поверил Ратибор. – Вы же лучшие. Вы знаете все тропы.
– Нет никаких троп, вождь, – вмешался старый Онтрей. Его узкие глаза, привыкшие читать лес как открытую книгу, были полны растерянности. – Все засыпано. Мы шли наобум. Но это не главное. Главное – следов нет. Ничьих.
– Мы расставляли силки, – продолжил Боривой, протягивая к огню замерзшие руки. – В тех местах, где летом видели заячьи лежки. На переходах, где должна ходить лиса. Мы оставили их на два дня. Сегодня проверяли. – Он сделал паузу, посмотрел на Ратибора. – Пусто. Снег вокруг них – гладкий, нетронутый. Будто вся живность, что была в этом лесу, просто исчезла. Испарилась.
Это было странно. И страшно. Одно дело, когда охотник не может выследить зверя. Совсем другое – когда зверя нет в принципе.
Рядом с ними сидел старый Микула, один из смоленских стариков. Он всю жизнь прожил в лесу и понимал в нем толк. Он слушал, кивал своей бороде, а потом произнес тихо, почти шепотом, глядя в огонь:
– Лес спит.
Все обернулись к нему.
– Что ты имеешь в виду, дед? – спросил Ратибор.
Микула вздохнул, и его вздох был похож на шелест сухой листвы.
– Так бывает. Редко, но бывает. В самые лютые зимы. Когда сама земля замерзает до самого сердца, лес засыпает глубоким сном. Зверь уходит далеко, в самые непроходимые чащобы, или зарывается в глубокие норы и не выходит до самой весны. Птица улетает. – Он посмотрел на встревоженные лица. – Он не умер. Он просто спит. И он не любит, когда тревожат его сон.
"Лес спит, – эта фраза эхом отдавалась в голове Ратибора. – Как поэтично. И как страшно. Это значит, что мы остались один на один с нашими скудными запасами. Мы заперты в крепости посреди пустыни. Белой, снежной пустыни, в которой нет жизни. Ничего нет. Только мы и холод".
– Или не спит, – вдруг добавил Микула, и его голос стал еще тише, полным суеверного ужаса. Он покосился на Заряну, дремавшую в углу.
– Или не хочет нас кормить.
Эти слова повисли в тишине общинного дома, холодные и тяжелые.
Одно дело – сражаться с зимой. Со стихией. Другое – с чьей-то волей.
Не просто спящий лес. А лес, который сознательно, по воле своего неведомого Хозяина, отказал им в пище. Спрятал своих зверей. Заморил их голодом.
Люди переглядывались. В их глазах снова начал разгораться тот самый страх, который Ратибор так старался погасить. Страх перед невидимым. Перед чужой, враждебной силой, против которой бессильны и лук, и меч.
Ратибор ничего не сказал. Он просто встал и подошел к Светлане, которая ведала припасами.
– С завтрашнего дня, – сказал он тихо, чтобы слышала только она, – пайки урезать. Еще наполовину.
Она молча кивнула, понимая все без слов.
Битва за выживание переходила в новую, еще более страшную фазу.
Они были в осаде. И теперь они знали, что помощи ждать неоткуда.
Даже от леса.
Глава 68. Первый Кашель
Это началось почти незаметно, как и все самые страшные беды. С простого, едва слышного покашливания.
В тесном, спертом воздухе общинного дома, где постоянно висела сизая дымка от очага и смешивались запахи пота, мокрой одежды и скудной еды, кашель был обычным делом. Никто не обратил внимания, когда маленький Миша, сын одной из вдов, начал кашлять. Ему было года четыре, худенький, большеглазый мальчик. Подумаешь, надышался дымом. Или простыл, когда выбегал наружу.
Но через день его кашель изменился.
Он перестал быть влажным, отхаркивающим. Он стал сухим, лающим, мучительным. Он шел не из горла, а откуда-то из самой глубины его маленькой груди. Каждый приступ кашля сотрясал его тельце, заставляя сгибаться пополам. Лицо его краснело, глаза наполнялись слезами. А между приступами он лежал на своей подстилке из шкур, вялый, горячий, как печной уголек, и тяжело, со свистом, дышал.
Его мать, Олёна, не отходила от него ни на шаг. Она поила его отварами, которые давала Заряна, обтирала его горячий лобик холодной тряпкой. Но жар не спадал. А кашель становился только хуже.
И тогда страх, который до этого был общим, смутным, обрел новое, конкретное лицо.
Люди, проходившие мимо их угла, ускоряли шаг. Матери крепче прижимали к себе своих детей, бросая испуганные, косые взгляды на больного мальчика. Взрослые перестали кашлять в открытую, прикрывая рот рукой, будто стыдясь самого звука, который мог выдать в них носителя той же хвори.
"Нет ничего более заразного, чем страх, – Ратибор наблюдал за этой тихой, ползучей паникой. – Он передается быстрее любой лихорадки. Через взгляд, через шепот, через молчание. Люди могут сидеть плечом к плечу, делить одну миску, но в душе они уже отгородились друг от друга невидимыми стенами. Болезнь не просто убивает тело. Она разрушает стаю. Заставляет каждого думать только о себе, о своем ребенке, о своей шкуре".
А через два дня заболела и Олёна, его мать. Сначала ее начал бить озноб. Она куталась в шкуры, но не могла согреться у самого огня. А потом и у нее начался тот же самый сухой, рвущий кашель. Ослабленная голодом и бессонными ночами у постели сына, она сгорела почти мгновенно.
Заряна и Светлана делали все, что могли. Они растирали больных жиром, поили их едкими, горькими настоями из коры и хвои. Но их знания, почерпнутые из мирной, сытой жизни, пасовали перед этой новой, северной болезнью. Хворью, рожденной из холода, голода и отчаяния.
– Жар съедает их изнутри, – сказала Заряна Ратибору одной из ночей. Они стояли на улице, вдыхая чистый морозный воздух после удушающей атмосферы барака. Лицо жрицы было изможденным, под глазами залегли темные тени. – Мои травы не помогают. Они сбивают жар на час, на два, а потом он возвращается с новой силой. Это… это не просто болезнь тела. Будто что-то цепляется за их душу и высасывает жизнь.
И болезнь поползла дальше.
Как тень.
Тихо. Неумолимо.
Заболел еще один ребенок. Потом старик Микула, тот, что говорил о спящем лесе. Его кашель был страшным, глухим, будто из бочки. Казалось, вот-вот он выкашляет свои старые, измученные легкие.
Они оказались заперты в своей крепости. Заперты с невидимым врагом, который был среди них. Который сидел в их общем воздухе, в их общем дыхании.
Острог, их убежище, их защита, превратился в ловушку. В лазарет.
А скоро, если ничего не изменится, он мог превратиться в общую могилу.
И от этого врага не было стен. Не было мечей. Не было заговоров.
Оставалась только надежда на то, что у твоего тела хватит сил выстоять.
Или на то, что эта тень, выбрав свою жертву, пройдет мимо тебя.
Пока что.
Глава 69. Шепот Заряны
Ночь была особенно тяжелой. Кашель больного мальчика стал тише, но это не было добрым знаком. Он просто слабел, и у него уже не хватало сил, чтобы сотрясать свое маленькое тело. Жар не спадал. Ратибор видел, как Светлана, сидевшая рядом с его матерью, обмакнула тряпицу в воду, но та зашипела, коснувшись его лба, и тут же высохла.
Люди старались не смотреть в тот угол, где умирал ребенок. Они делали вид, что спят, отвернувшись к стенам, но Ратибор знал – не спал почти никто. Все слушали. Слушали это тихое, свистящее дыхание, отсчитывая последние удары маленького сердца. Это было похоже на пытку.
Когда он вышел на мороз, чтобы хоть на миг глотнуть чистого воздуха, Заряна вышла за ним. Она была похожа на тень. Ее лицо, в призрачном свете луны, казалось почти прозрачным, а глаза были огромными, темными, полными тяжелого, нечеловеческого знания.
Она подошла и встала рядом, глядя на темную, заснеженную стену леса.
– Он не доживет до утра, – сказала она. Это был не прогноз знахарки. Это был приговор.
Ратибор молча сжал кулаки. Бессилие. Вот что он чувствовал. Бессилие, которое было для него, воина и вождя, хуже любой раны, унизительнее любого поражения.
– Я сделал все, что мог, – прохрипел он. – Мы построили стены. Мы топим очаг…
– Ты защитил их тела от холода, – перебила она, не повышая голоса. – Но ты не защитил их души от гнева.
Он резко повернулся к ней.
– О чем ты говоришь, Заряна? Какой гнев? Это хворь, мор…
– Нет, – твердо сказала она. – Это не просто болезнь. Ты что, не видишь? Это гнев. Мы пришли сюда. Мы вторглись. Мы взяли у леса слишком много и не спросили разрешения.
Ее голос стал тише, почти превратился в обвиняющий шепот.
– Помнишь тот ручей, где мы брали воду в первые дни? Возле него росли старые, могучие ели. Косматые, почти до земли. Я говорила тебе, я просила – не трогать их. Я чувствовала – это место было… особенным. Священным.
– Нам нужны были бревна для барака! – раздраженно бросил он. – Крепкие, прямые бревна для матицы!
– И вы срубили их, – кивнула она. – Вы срубили священные ели Хозяина леса. И даже не попросили прощения. Не принесли требу. Вы просто взяли. Как разбойники. Я говорила тебе, Ратибор. Я предупреждала. Леший не прощает такого.
Она посмотрела на него в упор, и ее взгляд был тяжелым, как могильный камень.
– И что теперь? Зверя в лесу нет. Хворь пришла в наш дом. Он отвернул от нас зверя, чтобы мы голодали. И наслал хворь, чтобы мы умирали. Это его месть. Медленная, жестокая.
Ратибор не выдержал. Его прагматичный разум, его вера в сталь и камень, взбунтовались против этого мистического, первобытного ужаса.
– Ерунда! – отмахнулся он. – Какие лешие? Какие священные ели? Это все бабьи сказки! Люди болеют от холода, от голода, от того, что сидят в тесноте и дышат одной заразой!
Ее губы тронула слабая, горькая усмешка.
– Ты прав. Они болеют от холода и голода. Но ответь мне, вождь, – ее голос стал острым, как игла, – а голод откуда? Он от пустого леса. А почему лес пуст?
Он молчал, и она ответила за него.
– Все связано, Ратибор. В этом мире все связано. Корень дерева и звезда в небе. Полет птицы и судьба человека. Твоя ошибка и болезнь этого ребенка. Ты видишь только то, что можешь потрогать. Стену, меч, больное тело. А самое главное и самое страшное – оно всегда невидимо. Оно в дыхании ветра. В молчании леса. В гневе того, кого ты оскорбил.
Она подошла к нему совсем близко, и он увидел в ее темных глазах отражение безжалостных, ледяных звезд.
– Ты можешь построить самые высокие стены, Ратибор. Но ты никогда не построишь стену от гнева этой земли. Пока ты не поймешь ее законов. И не начнешь их уважать.
Она повернулась и ушла обратно, в теплый, пахнущий смертью дом.
А он остался стоять один на морозе. Ее слова, ее уверенность, ее логика, которая была безумием и в то же время пугающе стройной, – все это пробило броню его прагматизма.
Он посмотрел на темный, безмолвный лес.
И ему впервые стало по-настоящему страшно.
Потому что он впервые всерьез допустил мысль, что она может быть права.
А это означало, что они сражались не с той войной. И их настоящий враг был не просто невидим.
Он был везде.
Глава 70. Дележ Зерна
Мальчик умер на рассвете. Тихо, без мучений. Просто перестал дышать. Его смерть не вызвала громких причитаний. Горе людей было тихим, глухим, загнанным внутрь. Смерть становилась привычной. И это было самое страшное.
После этого события напряжение в общинном доме достигло предела. К болезни и страху перед невидимым гневом духов добавился новый, самый древний и самый страшный враг – Голод. Не призрак голода, а он сам. Настоящий, сосущий под ложечкой, заставляющий желудок сводить болезненной судорогой.
Запасы таяли, как снег на ладони. Светлана, отвечавшая за припасы, подошла к Ратибору с неутешительными вестями. Муки и вяленого мяса почти не осталось. Оставалось только семенное зерно. Их надежда на будущий урожай. Их будущее.
И Ратибор понял, что отступать больше некуда.
Вечером, во время раздачи еды, он встал перед всеми. В руках у Светланы была мерка – маленький деревянный ковшик.
– С сегодняшнего дня, – сказал Ратибор громко и четко, чтобы слышал каждый, – мы начинаем есть семенное зерно. Но пайки урезаются.
Он сделал паузу.
– Эта мерка, – он указал на ковшик, – одна на человека. На каждого.
Люди замерли.
– И на воина, что стоит на стене. И на ребенка, что лежит в люльке. И на женщину, что прядет у огня. Всем поровну. Без исключений.
И тогда терпение, истончившееся за последние дни, лопнуло.
Поднялся ропот. Сначала тихий, недовольный. А потом громче. Люди не осмеливались кричать на вождя, но их гнев и чувство несправедливости выплеснулись наружу.
– Это как так?! – раздался громкий, возмущенный голос. Это был Горазд, молодой и сильный дружинник, чье тело требовало больше еды, чем тело ребенка. Он всегда был на переднем крае, всегда брался за самую тяжелую работу. Он чувствовал, что его обделяют.
– Мы на стенах в мороз задницы морозим! Мы в лес по пояс в снегу ходим! Мы силы тратим! А получать будем столько же, сколько бабы, что сидят в тепле у очага? Да это нечестно!
Его поддержали другие воины.
– Он прав!
– Воину нужно больше еды, чтобы были силы! Иначе кто вас защищать будет?
– Почему я должен голодать, пока другие сидят без дела?
Этот ропот был опасен. Это был бунт. Бунт сытых желудков против пустых. Ратибор не стал кричать в ответ. Он медленно, не спеша, прошел сквозь толпу и остановился прямо перед Гораздом. Он не смотрел на него сверху вниз. Он смотрел ему прямо в глаза. Спокойно. И твердо.
– Ты считаешь это нечестным, Горазд? – спросил он тихо, но так, что его услышали все.
– Да, считаю! – дерзко ответил дружинник, чувствуя за спиной поддержку товарищей.
– Хорошо. Давай подумаем вместе, что такое "честно", – Ратибор не отводил взгляда. – Честно, что ты сильный, а вон тот ребенок, что сегодня умер, был слаб? Честно, что ты можешь стоять на стене с мечом, а его мать может только плакать и молиться? Это честно?
Горазд смешался, не зная, что ответить.
– Нет в нашей жизни никакой "честности", Горазд, – продолжил Ратибор, и его голос набрал силу. – Есть только одно. Мы. Все мы. Вместе. В одной норе.
Он шагнул еще ближе.
– Ты говоришь, ты мерзнешь на стене. Это правда. Ты тратишь силы. И это правда. Но подумай вот о чем. Та баба, что "сидит в тепле у очага", как ты говоришь… если она сегодня умрет с голоду, завтра ее ребенок, которого она согревала своим телом, замерзнет. А если замерзнет ребенок – наш род прервется. И все. Конец.
Он обвел взглядом всех, кто роптал.
– И тогда какая, к черту, разница, на какой стене ты так доблестно стоял, Горазд? Какая разница, как остро заточен твой меч, если через десять лет здесь останутся только твои старые кости и ни одного живого человека, который вспомнит твое имя? Если защищать будет уже некого?
Он замолчал, и в наступившей тишине его слова звучали как приговор.
– Мы все в одной лодке, Горазд. Все до единого. Старики, бабы, дети, воины. И если в этой лодке пробоина, то тонут все. И те, кто гребет, и те, кто просто сидит. И тот, кто попытается вычерпать воду только из-под своей лавки, утопит всех, включая себя. Эта мерка, – он снова указал на ковшик, – это не просто еда. Это наша общая кровь. И мы либо делим ее поровну и выживаем все вместе. Либо начинаем грызться за лишний глоток и дохнем поодиночке. Выбирайте.
Он повернулся и пошел обратно на свое место.
Больше никто не произнес ни слова.
Горазд стоял, опустив голову. Его право сильного столкнулось с неоспоримым правом стаи на жизнь. И проиграло.
В тот вечер все молча брали свою равную, ничтожно малую долю.
Они поняли.
Их единственным шансом было не право каждого.
А общая беда.
Глава 71. Уход в Лес
Еще через несколько дней умерла Олёна, мать первого заболевшего мальчика. Острог превращался в тихое, заснеженное кладбище. Апатия и голод сковали людей крепче любого мороза. Даже у самых сильных воинов в глазах появилось тоскливое, покорное выражение – выражение овцы, ждущей ножа. Они делали то, что им приказывали, – несли дозор, рубили дрова, – но делали это уже без огня, без надежды.
Ратибор чувствовал, как нити, которыми он с таким трудом связал свой народ, истончаются и вот-вот лопнут. Его приказы, его угрозы, его обещания – все это разбивалось о глухую стену безнадеги. Он мог заставить их работать. Но он не мог заставить их хотеть жить.
И вот, в один из таких серых, безрадостных рассветов, когда мир казался выцветшей, монохромной картиной, он увидел, как Заряна идет к воротам.
Она была одета не как обычно. На ней была самая теплая одежда, что у нее была – подбитый мехом кожушок, меховая шапка, на ногах – добротные сапоги. В руке она держала небольшой узелок. Она двигалась тихо, стараясь никого не разбудить. Она собиралась уйти.
Ратибор перехватил ее у самых ворот, когда она уже пыталась отодвинуть тяжелый засов.
– Куда ты? – его голос прозвучал резко в утренней тишине.
Она медленно обернулась. Ее лицо было спокойным, сосредоточенным. Не было ни страха, ни отчаяния. Только твердая, холодная решимость.
– Туда, где я нужна, – ответила она просто.
– Что это значит? – он подошел ближе, преграждая ей путь. – Охотники ушли час назад. С больными сидит Светлана. Куда ты собралась одна?
Она посмотрела на него в упор, и ее темные, глубокие глаза, казалось, смотрели сквозь него.
– Я иду туда, где твои мечи бессильны, Ратибор. И туда, где мои травы уже не помогают. Говорить.
– Говорить? С кем?! С деревьями? С волками? Ты сошла с ума от голода?
– Я иду говорить с Хозяином леса, – сказала она. И в ее голосе не было ни капли безумия. Только тяжелая, непреложная уверенность. – Тот, кого мы оскорбили. Тот, кто морит нас голодом и насылает хворь. Ваши топоры разозлили его. Ваши мечи не напугают его. С ним можно только говорить. Или принести жертву, которую он примет.
У Ратибора все похолодело внутри.
– Я не пущу тебя! – прорычал он. Он схватил ее за плечо, его пальцы впились в мех кожушка. – Ты же понимаешь, что это верная смерть! Ты замерзнешь в этом лесу за несколько часов! Или тебя сожрут волки! Это безумие!
Она не попыталась вырваться. Она просто смотрела на него. Спокойно. Почти с жалостью.
– А то, что происходит здесь, – это не безумие? – спросила она тихо. – Смотреть, как дети умирают от кашля, а воины – от тоски? Ждать, пока последний из нас не сможет подняться, чтобы подбросить дров в очаг? Это разумно, по-твоему?
Он молчал, не находя ответа.
– Если я не пойду, погибнем мы все, – сказала она. Теперь в ее голосе прозвучала сталь. – Это лишь вопрос времени. Мой путь – это хотя бы шанс. Маленький, почти призрачный. Но он есть. А твой путь сейчас – это просто ожидание конца.
"Она была права. И это было самое страшное. Ее безумие было логичнее его здравого смысла. Ее самоубийственный поход давал больше надежды, чем его выверенные, но бесполезные приказы. Потому что она шла сражаться с истинной причиной их бед. Не с голодом и болезнью. А с тем, что их породило. С гневом этого мира".
– Я пойду с тобой, – сказал он. – Или пошлю воинов.
– Нет, – отрезала она. – С ним не говорят толпой. К нему приходят с поклоном, а не с дружиной. С открытым сердцем, а не с мечом за пазухой. – Она осторожно сняла его руку со своего плеча. – Ты командуешь людьми, Ратибор. Это твой долг и твое право. Не пытайся командовать духами. У них свои законы. И свои вожди.
Она посмотрела ему в глаза в последний раз.
– Это моя битва, – сказала она. – Не твоя.
Не дожидаясь ответа, она повернулась, с трудом отодвинула тяжелый засов ровно настолько, чтобы протиснуться в щель, и вышла наружу.
Он остался стоять, глядя ей вслед. Ее маленькая, одинокая фигурка в меховой одежде медленно удалялась, растворяясь в серой утренней дымке, среди заснеженных деревьев. Она не оглянулась.
Он хотел крикнуть. Хотел побежать за ней, остановить, силой затащить обратно в тепло.
Но не смог.
Потому что в глубине своей прагматичной, воинской души он понимал – она была их последней надеждой.
Он, вождь, мог только наблюдать, как их последняя надежда уходит в пасть к голодному, белому зверю по имени Лес.
Одна.
Глава 72. Следы на Снегу
Ратибор не мог просто стоять и ждать. Это было выше его сил, противно всей его натуре. Чувство вины и тревоги грызло его, как стая голодных псов. Он послал ее на верную смерть. Одну.
Как только рассвело достаточно, чтобы можно было различать следы, он позвал к себе двоих. Старого карела Онтрея, который родился и вырос в этих лесах и умел читать их как книгу. И молодого дружинника Верена, зоркого и легкого на ногу.
– Идите за ней, – приказал он. Его голос был хриплым и жестким. – По следу. Не приближайтесь, не показывайтесь. Просто идите следом. На расстоянии. Чтобы знать, что с ней. Если нападет зверь – помогите. Если наткнется на людей – вернитесь и доложите. Просто… присмотрите за ней. И вернитесь до заката.
Двое молча кивнули, нацепили снегоступы, взяли луки и копья и скрылись за воротами, уйдя по той же тропе, что и Заряна.
День тянулся мучительно. Ратибор не находил себе места. Он то поднимался на стену, всматриваясь в неподвижное, белое море леса, то спускался в общинный дом, где тишина, прерываемая лишь кашлем больных, казалась оглушающей. Он чувствовал на себе взгляды. В них не было упрека. В них был немой вопрос: "Где она? Где наша последняя надежда?". Он не мог ответить на этот вопрос.
