«Мёртвые души» психиатров (о жизни, творчестве, психическом здоровье Н.В.Гоголя) бесплатное чтение
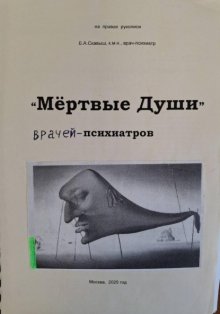
на правах рукописи
В.А.Скавыш, врач-психиатр, к.м.н.
Москва, 2025 год
Духом схимник сокрушенный,
А пером Аристофан.
С ним и смеёмся над собой,
И над собой мы горько плачем.
…Жизнь твоя была загадкой,
Нам загадкой смерть твоя.
князь П.А.Вяземский
“Гоголь лицом к лицу увидел очарование Христианского возвышения над земными отношениями нашими, подумал, что и мы все, его друзья, уже поднялись в эту сферу и принимаем всё, так сказать, по темпераменту его собственной крови.”
(из письма П.А.Плетнёва к С.П.Шевырёву от 24 марта 1847 года)
“Cкажите Павлову, что первое его письмо к Гоголю очень умно, но слишком зло и жестоко, а следовательно несколько и несправедливо. Вообще наши критики смотрят на Гоголя как смотрел бы барин на крепостного человека, который в доме его занимает должность сказочника и потешника, и вдруг сбежал из дома и постригся в монахи. Барин не спрашивает, по призванию ли свыше он это сделал, ради ли спасения души своей? Ему до того нет дела. Он подаёт в суд явочное прошение, требует обратно потешника своего и мысленно уже по возвращении его хочет сечь на конюшне своей за то, что он смел предпочесть Отче Нашъ служению или рассказу про Ивана дурака. Сказывают, что и Вы строго судите новую книгу Гоголя. … В Гоголе много истинного, но сам он не истинен, много натуры, но он сам не натурален, много здравого, бодрого, но он сам болезнен! Был таковым прежде, таков и ныне.”
(из письма князя П.А.Вяземского к С.П.Шевырёву от 26 марта 1847 года)
из молитвы Н.В.Гоголя: “Господи, дай мне помнить вечно мое неведение, мое незнание, недостаток образования моего, да не выведу ни о ком и ни о чём неосмотрительного мнения”
Acknowlegement
Выражаю признательность alma mater (Тюменский государственный медицинский институт, Московский НИИ психиатрии МЗ РФ, филологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова). Благодарю учителей моих, психиатров С.М.Уманского, А.А.Недуву, А.И.Белкина, Н.Ф.Шахматова, В.В.Ковалёва, И.И.Сергеева, Г.В.Старшенбаума, А.С.Тиганова, В.Ф.Кондратьева, Ю.И.Либермана, В.Н.Краснова, президента European Psychiatric Association, professor Norman'а Sartorius’а, видного врача-радиолога, д.м.н. А.К.Гуськову, которые влияли на моё становление как практикующего врача. Судебный эксперт, врач-психиатр, д.м.н., профессор Фёдор Викторович Кондратьев, в частности, обратил моё внимание на духовные аспекты личности, которые часто игнорируют. Также, рукопись не получилась бы без дружбы с профессором древнерусской литературы Николаем Ивановичем Либаном, без общения с гоголеведами на научных конференциях «Гоголевские чтения» (например, с профессором, д.ф.н. В.А.Воропаевым), где я и получил доступ к биографическим сведениям, к архивным подлинным документам, к первоисточникам о жизни Н.В.Гоголя.
Благодарю жену Елену, верную подругу, помощницу во всех моих трудах.
Перед авторитетом психиатров Ломброзо, Н.Н.Баженова, В.Ф.Чижа, Д.Е.Мелехова и др. снимаю шляпу, но не голову, потому, анализирую их ошибочные интерпретации, вымыслы, симулякры, ложное «понимание» души православного христианина. Надеюсь, в критическом пересмотре заочно-посмертных психиатрических экспертиз удастся реставрировать, воскресить личность живого человека (Николая Васильевича Гоголя), тогда, данная рукопись написана была не зря.
Глава 1. История вопроса
Гиппократ писал: “Медицина поистине есть самое благородное из всех искусств. Но по невежеству тех, которые занимаются ею, и тех, которые с легкомысленной снисходительностью судят их, она далеко теперь ниже всех искусств. И, по моему мнению, причиной такого падения служит больше всего то, что в государствах одной лишь медицинской профессии не определено никакого другого наказания, кроме бесчестия, но это последнее ничуть не задевает тех, от которых оно не отделимо. Мне кажется, что эти последние весьма похожи на тех лиц, которых выпускают на сцену в трагедиях, ибо как те принимают наружный вид, носят одежду и маску актёра, не будучи, однако, актёрами, так точно и врачи; по званию их много, на деле же – как нельзя менее.”11
Был ли психически болен Н.В.Гоголь? И апостол Павел казался судье Фесту “безумцем” (Деяния Апостолов, XXVI). Если мне суждено заблуждаться, верю, что попытка найти правду будет полезна в решении вопроса: достоверны ли вообще многочисленные патографические портреты Гоголя, что нарисованы психиатрами? В “Благочестивом застолье” Эразма Роттердамского “и ошибка подаёт повод к открытию истины”.
В 1871 году психиатр Ч.Ломброзо в книге “Гениальность и помешательство” рисует Гоголя сумасшедшим22. Но, увы, доказательств безумия итальянский профессор не привёл. Верить ему на слово? Nullius in verba!3*
Русские психиатры доцент Н.Н.Баженов43 и профессор В.Ф.Чиж54 отметили 50-летие смерти гения своими патографическими6** работами; Баженов рисует периодический депрессивный психоз, Чиж – паранойю (паранойяльное развитие личности). Возражения психопатологизации православного христианина Н.В.Гоголя появились в том же 1902 году. Смотрите: «Московские Ведомости», № 59, от 1 марта 1902 года, и ответ иеромонаха Михаила из Воронежа; «Московские Ведомости», № 69, от 9 марта 1902 года, ответ А.Басаргина).
Врач В.В.Каченовский не считал Гоголя психически больным, объяснив приступы его недомогания и смерть хронической малярией, которой писатель страдал с юности, с учёбы в Нежине. В 1906 году доктор Каченовский печатно возразил психиатрам Баженову75 и Чижу86.
Психоаналитический портрет Гоголя составил И.Д.Ермаков97. Владислав Ходасевич вспоминал: “В начале революции, в Москве, ко мне пришёл мой знакомый психиатр И.Д.Ермаков и предложил мне прослушать его исследование о Гоголе… Я был погружён в бурный поток хитроумнейших, но совершенно фантастических натяжек и произвольных умозаключений, стремительно уносивших исследователя в чёрный омут нелепицы. Таким образом мне довелось быть если не умилённым, то всё же первым свидетелем “младенческих забав” русского литературного фрейдизма. В начале двадцатых годов труд Ермакова появился в печати – и весь литературоведческий мир, можно сказать, только ахнул и обомлел, после чего разразился на редкость дружным и заслуженным смехом.”108 В.В.Виноградов отказался обсуждать очерк И.Д.Ермакова, в связи с отсутствием у него (академика В.В.Виноградова) чувства юмора.
Изучение архивов, рукописей не тождественно клинической беседе, хотя многие врачи верят априорно, что опыт психопатологии помог “понять” личность Н.В.Гоголя. Но, если индукция психопатологии в текстологию мешает пониманию? “Видите, господа присяжные, так как психология о двух концах, то уж позвольте мне и тут другой конец приложить, и посмотрим, то ли выйдет?”119 Латинское слово: inductio, onis f перевожу как: выведение (на сцену), представление, введение (в заблуждение), склонность, намерение, сердечное влечение, просопопея (выведение вымышленных лиц).1210
Изобразили Гоголя психически больным и советские психиатры, продолжая интеллектуально плыть в русле ранее опубликованных идей Ломброзо, Баженова, Чижа. Таков ход рассуждений Г.Сегалина1311, И.Галанта1412, А.Личко1513, А.Молохова1614, в связи с чем уместно вновь обратиться к доводам адвоката в деле Карамазовых, из романа Ф.М.Достоевского: “это было изложено тоном, не терпящим никаких возражений. Ну, а что если дело происходило вовсе не так, а ну как вы создали роман, а в нём совсем другое лицо?”1715
Позвольте, был ли таковым человек, друживший с Пушкиным, Жуковским, Плетнёвым, Языковым, Ивановым, семьёй Аксаковых? Почему художник А.Иванов изобразил Гоголя “ближайшим” к Христу на своей картине, которую он писал в течение 15 лет в Риме? Иисуса Христа психиатры считают тоже душевнобольным? “Я ведь нарочно, господа присяжные, прибегнул теперь сам к психологии, чтобы наглядно показать, что из неё можно вывести всё что угодно. Всё дело, в каких она руках. Психология подзывает на роман даже самых серьёзных людей, и это совершенно невольно. Я говорю про излишнюю психологию, господа присяжные, про некоторое злоупотребление ею.”1816
Существование душевных расстройств («душевных болезней») – есть философская проблема «человеческого», и имеет отношение к любому из нас. Вменяемый, дееспособный, адекватный? Оценочные понятия здоровья и болезни души, из которых исходит практическая психиатрия, вступают часто в конфликт с задачей выявить эмпирически медицинские (клинические) симптомы в конкретных биологических и психологических событиях или формах поведенческих проявлений личности.
Неэтично психопатологизировать другого, считая себя априорно здоровым. В уме, где чужие «болезни души» на глазах, свои душевные болезни за спиной, таится гордыня, – мертвящее дыхание сатаны – по Иоанну Кронштадтскому. Первоначально нужно дать дефиницию психического здоровья (здоровой души), что справедливо заметил профессор В.Ф.Чиж. Мы не имеем до сих пор научного общепризнанного понятия душевной болезни, а потому вынуждены использовать для практических целей определение Эскироля (писал психиатр Чиж). Прошло больше ста лет, воз и ныне там.
Академик А.В.Снежневский в 1970 году говорил, что положение дел в психиатрии можно охарактеризовать словами немецкого психиатра Гризингера: “психиатрия знает только совокупность симптомов, происхождение их знает только приблизительно, а механизма совсем не знает”. Психиатрический диагноз не имеет биологических маркёров, нося конвенциональный характер (соглашения ряда врачей-экспертов). Психиатрический диагноз специалиста носит часто характер интуитивного узнавания, опирающегося на чувство болезни (“Praecoxgefuhl”), а не на «объективное» знание.
Анализ фактов, полученных опытным путём, нужно дополнять синтезом, основанном на знании философии, как делал Абу Али Ибн Сина. Такой способ связать в одно целое все суждения и понятия со спонтанным опытом является искусством наблюдения врача, в греческой терминологии созерцанием. Врач должен быть одновременно учёным и артистом, а чинопочитание делает из человека заложника идеи, которую внушал авторитет. Критически я пересмотрел собственную кандидатскую диссертацию о медицинских последствиях аварии на Чернобыльской АЭС, вскрыв мои ошибки и научного руководителя. Самокритика диссертации была опубликована в «Независимом Психиатрическом Журнале РФ», № 2, 1998 год и журнале «Медицинская радиология и радиационная безопасность» № 1, 1999 год.
Как писал в «Общей психопатологии» Карл Ясперс: «… «Психически больной» как обобщающее понятие – это нечто, ещё более фиктивное, чем «физически больной». Границы понятия «психически больной» бесконечно менее определены, чем границы любых понятий, связанных с соматическими заболеваниями. Понятие болезни в психиатрии стало применяться значительно позднее, чем в соматической медицине. Считалось, что в психических расстройствах виновны не столько естественные процессы – природа и причинные связи которых могут быть предметом эмпирического исследования, – сколько демоны или грех, подлежащий искуплению. … «Болезнь» – это отрицательное оценочное суждение общего характера, объединяющее в себе всякого рода частные негативные суждения. Следовательно, просто утверждать о человеке, что он психически «болен», – значит ничего не сказать: ведь понятие «психической болезни», в общем случае, может относиться в равной мере к идиоту и гению и, более того, к любому человеку. Мы узнаём что-то реальное только тогда, когда нам говорят не просто о психической болезни как таковой, а об определённых явлениях и событиях, происходящих в душе пациента. В связи с понятием «болезнь» оценочные суждения то и дело переплетаются с суждениями, характеризующими человеческое бытие. … термин «больное» указывает на нечто, обладающее негативной ценностью; с другой стороны, «болезнь» непосредственно осознаётся как особая форма бытия, и оценочное суждение о ней приобретает эмпирико-диагностическое значение. … В одной из бесед Вильманс следующим образом выразил парадоксальную природу понятия «болезнь»: «Так называемая нормальность – не что иное, как лёгкая форма слабоумия.» Логически это означает следующее: объявив нормой умственную одарённость, мы должны будем признать, что большинство людей слегка слабоумно. … Наконец, понятие «душевная болезнь» – которое, конечно же, указывает на некую недостаточность – оборачивается неожиданной стороной, когда под него подпадают явления, заслуживающие позитивной оценки. Аналитические патографии выдающихся людей свидетельствуют о том, что болезнь не только прерывает и разрушает душевную жизнь; некоторые творческие проявления возможны вопреки болезни, а для иных болезнь выступает в качестве необходимого условия творчества. Болезненное состояние неповторимым в своём роде образом может указывать на величайшие глубины и бездны «человеческого». … Человек – исключение среди живых существ. Он наделён самым обширным набором возможностей и имеет самые высокие шансы на успех, но вместе с тем он в большей мере, чем какая-либо иная разновидность живого, подвержен опасностям. Многие мыслители считали «человеческое», как таковое, формой болезни – либо отождествляя с болезнью саму человеческую жизнь, либо усматривая в человеческой природе некий непорядок или травму, нанесённую первородным грехом. В такой оценке «человеческого» Ницше сходился с богословами, хотя и вкладывает в свои идеи совершенно иной смысл.»19
В рукописях Гоголя следует отличать факты и интерпретацию, и сознавать интенцию своего сознания, кочку зрения в терминах Уильяма Джеймса. Иоганн Фихте и Франц Брентано учили: смысл задаёт интенция сознания. Смысл содержится не в тексте, но рождается умом читателя. Интерпретация текста – герменевтическая задача, иначе бессознательно индуцируешь отсебятину в слова другого человека. Пословица учит: чужая душа – потёмки.
Карл Ясперс писал с позиции экзистенциальной философии: “…психическая субстанция (душа) есть бесконечно объемлющее, которое нельзя охватить в целом, а можно лишь изучать, проникая в него с помощью различных методов. У нас нет основополагающей системы понятий, с помощью которой мы могли бы определить человека как такового; нет и теории, которая могла бы исчерпывающе описать человеческое бытие как некую объективную реальность. … душа есть сознание. … душа – не “вещь”, а бытие в собственном мире. … душа – это не статичное состояние, а процесс становления, развития, развёртывания. … Шизофрения и циркулярное расстройство встречаются у людей всех рас, но у животных их не бывает никогда. … Человек уникален. Он привнёс в мир некий элемент, чуждый животному миру; но в чём заключается этот элемент, всё ещё не вполне ясно… ”2018
Следует учесть все интерпретации, не рекламируя свой личный взгляд, как Ломброзо: “Но служитель истины должен неизбежным образом подчиняться её законам. Так, в силу роковой необходимости, он приходит к убеждению, что любовь есть в сущности ничто иное, как взаимное влечение тычинок и пестиков… а мысли – простое движение молекул. Даже гениальность – эта единственная державная власть, принадлежащая человеку, пред которой не краснея можно преклонить колена, – даже её многие психиатры поставили на одном уровне с наклонностью к преступлениям, даже в ней они видят только одну из тератологических (уродливых) форм человеческого ума, одну из разновидностей сумасшествия.”2119 Данный текст Ломброзо – оксюморон. Ведь, гений и злодейство – две вещи несовместные, не правда ль?
Психиатр Д.Е.Мелехов нарисовал портрет Гоголя с циркулярной шизофренией, протекавшей в виде маниакально-депрессивных приступов. Мнение Мелехова из книги “Психиатрия и проблемы духовной жизни”, посвящённое «психозу» Н.В.Гоголя, вошло даже в “Настольную книгу священнослужителя”.2220
О значительных искажениях рукописи врача А.Т.Тарасенкова2321, лечившего Гоголя зимой 1852 г., допущенных в ходе типографской публикации самой рукописи Тарасенкова, сообщила А.Н.Белышева. Она предположила, что писатель умер от тифа, заразившись инфекцией от Е.М.Хомяковой.2422
Н.Н.Конструба2523 диагностирует «невроз» Николая Васильевича. Первым о неврозе Гоголя заявил М.М.Зощенко в повести “Перед восходом солнца”. Зощенко вербализовал механизм сна в терминах рефлексологии И.П.Павлова, но фактически толкуя сновидения по Фрейду как символы психотравм в раннем детстве. Цитирую Ясперса: “Перед психологией и психопатологией стоит важная задача: высветить оставшиеся незамеченными события психической жизни и тем самым сделать их доступными сознанию (или, что то же самое, познанию). Стремление к истине и саморазвитию предполагает озарение бессознательных глубин личности; именно таков один из магистральных путей психотерапии.”2624 Зощенко рисовал Гоголя с навязчивостями, страхами, невротическими комплексами, оговорившись: “Здесь кроется обычная ошибка философов, литераторов, поэтов. Свои чувства и домыслы они нередко отождествляют с чувствами “всего человечества”. …я утверждаю только то, что относится лично ко мне и отчасти к людям искусства.”2725 Публикация М.М.Зощенко вызвала недовольство отца всех времён и всех народов, травлю марксистско-ленинских пуритан. С другой стороны, К.И.Чуковский в мемуарах высоко ценил опыт коллеги. Тем не менее, а мог ли Зощенко индуцировать на Гоголя свой “психоневроз”? З.Фрейда упрекали, что он натянул свой невроз на человечество. В.Набоков иронизировал: того, что было у Фрейда с матерью, у него (Набокова) в детстве не было.
Диагноз Н.Н.Конструбы о неврозе Гоголя вызвал ассоциацию со словами профессора В.Ф.Переверзева: “И если между критиками нет единодушия в определении сущности гоголевской психики, то нет зато и недостатка в таких определениях, и нет нужды увеличивать их число, тем более что при наличности огромной коллекции таких определений всегда рискуешь повторять зады. Нужно признать, что среди бесконечного количества книг и статей, посвящённых этому вопросу, большая часть представляет как раз скучное повторение. Критики без конца повторяют, более или менее удачно варьируя, что дух Гоголя противоречив, что в нём шло мучительное борение таланта с темпераментом, поэта с моралистом и мыслителем, и показывают в его произведениях отражение этой внутренней борьбы.”2826
Все психиатры, писавшие о Гоголе, психопатологизировали его. Психиатры шли путём индукции. Априорно убеждены в “патологической организации нервной системы” Гоголя. Нам внушают, что гений – вид помешательства. Что даёт дефиниция гениальности как психического уклонения? Отклонения от чего? Проще скажу, что умом гениальность не понять, аршином общим не измерить, – у ней особенная стать, в гениальность можно только верить. Тезис, что не может быть, что Гоголь был душевно здоров, а психиатры ошиблись, – ложь в самой своей основе (гипноз публики). Сколько угодно может быть обманувшихся в заочно-посмертной экспертизе врачей-психиатров и по одиночке, и вместе. Всё, что мы знаем о Гоголе, как живом человеке, не более, чем плод чьих-то интерпретаций, догадок, толкований, которым с полной свободой могут быть противопоставлены другие, даже прямо противоположная точка зрения. Это нужно сознавать, начав собственную реконструкцию, и быть честным!
О здоровой психике Гоголя пишут М.М.Дунаев2927, К.В.Мочульский3028, В.В.Зеньковский и др.. В частности, протопресвитер Зеньковский резюмировал: “Считать его искушения, его нервно-психическую депрессию, его общую слабость выражением душевного расстройства – значит просто ничего не понимать в том, через какие терзания проходит всякая душа, когда её обуревают сомнения, когда внутренняя борьба обессиливает человека. Гоголь оставался до конца на своём посту беспримерного, всецелого служения Богу, и если не смог удержаться от односторонности, которую сам же осуждал в других людях, то можно без преувеличения сказать: своей борьбой за чистое и всецелое служение правде Божьей Гоголь послужил, во всяком случае, не меньше (если не больше) русской жизни и её задачам, чем в своём художественном творчестве.”3129
В психиатрии диагноз «психоза» врач не может подтвердить объективным, естественно-научным методом. Не найдено пока никаких биологических маркёров и научно достоверных анализов (тестов) для эндогенной психопатологии. Диагноз психической болезни нельзя верифицировать и патологоанатомическим вскрытием. Перед авторитетом доцента Н.Н.Баженова, профессора В.Ф.Чижа, профессора Д.Е.Мелехова сниму шляпу, но не мою голову.
Глава 2. Ошибки врачей и реконструкция последних
лет, месяцев и дней жизни Гоголя
Причиной заблуждений Френсис Бэкон считал ложные идеи – “призраки” и “идолы”. Врачи после эпохи европейского Просвещения провозгласили отказ от философии, как «вредной» и «мешающей» клиническому опыту. Стал властвовать позитивизм или прагматизм. Но создатель позитивной философии Огюст Конт был психически болен, лечился у психиатра Эскироля3230. В статье “Грядущий хам” Д.С.Мережковский отверг материалистическое учение Конта: “Последний предел всей современной европейской культуры – позитивизм, или, по терминологии Герцена, “научный реализм”, как метод не только частного научного, но и общего философского и даже религиозного мышления. Родившись в науке и философии, позитивизм вырос из научного и философского сознания в бессознательную религию, которая стремится упразднить и заменить собою все бывшие религии. Позитивизм, в этом широком смысле, есть утверждение мира, открытого чувственному опыту, как единственно-реального, и отрицание мира сверхчувственного; отрицание конца и начала мира в Боге… ”3331
Духовной слепотой повреждён разум людей, что в Греции понял Сократ. Люди не любят правду, ибо дела их злые, а «свет правды» обличает злодейства. Свет истины обнажает ложь. Потому жизнь гения трагична, как пишет Альфред де Виньи в романе “Стелло”. Из-за духовной слепоты наша жизнь делается фальшивой, мнимой, неполноценной, дисгармоничной, извращённой, ненастоящей, что есть “мёртвая душа” по Гоголю. Вспомните поэму о сделках П.И.Чичикова. Внешне “живые” оказались мёртвыми душами, а крепостные «ревизские мёртвые души» – живыми, хотя их за людей не считали. Гоголь планировал воскресить «мёртвую душу» Чичикова покаянием в ходе странствий по Руси, как покаялись в Евангелии мытарь Закхей, кровоточивая, слепой, глухой, немой, прокажённый, расслабленный у овечьей купели, пойманная в прелюбодеянии, блудница Мария Магдалина, трижды отрекшийся Симон (апостол Пётр), благоразумный разбойник Малх на Голгофе, гонитель назорейской ереси Савл (апостол Павел). Нравственное воскресение «мёртвой души» Чичикова автор думал завершить в третьем томе. Об этом хотел написать Гоголь в «Мёртвых Душах».
Гений – принципиально особенное свойство ума, от материальной основы (мозга) прямо не зависящее и на неё не сводимое. Уголь и алмаз состоят из атомов углерода, но суть в форме и в структуре организации тела (атомов углерода). В трактате “О частях животных” Аристотель пояснял: “Целое предшествует своим частям.” Если части целого определяются материей, то само целое определяется формой (душой) – началом идеальным. Аристотель советовал: “Изучающим природу душе и форме следует уделять большее внимание, чем материи.” Гений – яркое, оригинальное, неподражаемое и неуловимое. Болезнь в психиатрии, наоборот, типично, многократно, монотонно повторяющееся в разных душах, что позволило составить перечень (классификацию) психических расстройств или аномалий. Психиатрия – искусство распознавать и лечить больные личности. Хотя, есть и иные дефиниции: “Психиатрия – это наука о распознавании и лечении психических болезней. Такая формулировка, идущая ещё от В.Гризингера (1845), в основных своих чертах точно формулирует стоящие перед психиатрией задачи.”3432
Каждый человек трихотомичен: дух, душа, тело. Грехи делом, словом, мыслью ведут к духовной патологии. В григорианском каноне семь основных грехов: гордость, сребролюбие, блуд, чревоугодие, лень, зависть и гнев. Грехи оставляют печать, след в человеке. Постепенно тайное станет уже явным. Грех «материализуется» в поступках, становясь привычкой, привычка – вторая натура. Есть два регистра психопатологии – экзогенный и эндогенный, также, психопатология будет в следующих комбинациях:
1) болен дух, здорова душа;
2) здоров дух, больна душа;
3) болен дух, больна душа;
4) здоров дух, здорова душа.
Первый и третий случаи – удел священника, второй и третий – психиатра. Причём, третий случай – самый частый и в келье аскета, и в кабинете светского лекаря. Четвёртый случай – состояние святости, редчайший феномен среди людей, исключение из правила греховности, испорченности человеческой натуры. Известный старец, архимандрит Георгий из Данилова монастыря Москвы различал комбинации, говоря одним: “Ты, деточка, иди к врачу”, иным глаголя: “Тебе у врачей делать нечего.”3533 Были случаи, когда старец, наладив духовную жизнь своего чада, рекомендовал сходить ему к врачу-психиатру и, наоборот, как духовник брал от психиатра человека к себе на духовное лечение. Нельзя лечить болезни души, не зная о целостном, здоровом состоянии и причинах, целостность нарушающих. Помня слова С.С.Корсакова, что “психиатрия из всех медицинских наук наиболее близко ставит нас к вопросам философским”3634, я забочусь о целостном знании человека.
В православной традиции: “в понимании епископом Феофаном и Никодимом Святогорцем… признаком здоровья было единство и гармония всех трёх ступеней (сфер, слоёв) человеческой личности – духовной, душевной и телесной, и это единство и гармония достигаются только при условии преобладающего влияния сферы духа, который должен властвовать над душой и телом. В этом единстве и гармонии – здоровье, норма человеческой жизни. В этом “спасение” (греческое слово означает одновременно и спасение, и здоровье). В болезни, наоборот, видят распад и изоляцию противоположно действующих сил или элементов и слоёв личности.”3735 Ошибка З.Фрейда, на мой взгляд, состояла в том, что он религию посчитал “коллективным неврозом”. Карл Густав Юнг думал иначе. Не одни медицинские учебники, но собственное бессознательное, – должно превратиться в открытую книгу для психиатра: “Подлинная история развития человеческого сознания хранится не в учёных книгах, она хранится в психической организации каждого из нас.”3836
Можно неправильно толковать содержание прочитанного, не заметив даже то, что вы не поняли, что хотел сказал автор. Ложное понимание текста извратит восприятие личности, руку приложившей. Непонимание гения типично, и сытый голодного не разумеет. Гоголя сочли безумным после публикации “Выбранных мест из переписки”. Белинский злился, советуя “спешить лечиться”.
Если текст кажется бредовым, то бред – в тексте или в видящей «бред» личности читателя? Понял ли Белинский, первым бросивший камень, что сказал автор “Переписки”, написанной в эпистолярном жанре русской философии? (к примеру, текст Феофана Затворника “Что есть духовная жизнь и как на неё настроиться”) Не умри В.Г.Белинский от туберкулёза, интересно было бы узнать каким психопатологическим синдромом кончится его ругань православного духовенства. Поясню примером: “Великий мыслитель Огюст Конт, основатель позитивной философии, впродолжение десяти лет лечился у Эскироля от психического расстройства и затем по выздоровлении без всякой причины прогнал жену, которая своими нежными попечениями спасла ему жизнь. Перед смертью он объявил себя апостолом и священнослужителем материалистической религии, хотя раньше сам проповедовал уничтожение всякого духовенства. В сочинениях Конта, рядом с поразительно глубокими положениями, встречаются чисто безумные мысли, вроде той, например, что настанет время, когда оплодотворение женщины будет совершаться без посредства мужчины.”3937 Сошлюсь на Акакия Акакиевича, хотя не был он значительным лицом среди психиатров: “Почему он усмехнулся, потому ли, что встретил вещь вовсе не знакомую, но о которой, однако же, всё-таки у каждого сохраняется какое-то чутьё, или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее: “Ну, уж эти французы! что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того…” А может быть, даже и этого не подумал – ведь нельзя же залезть в душу человека и узнать всё, что он ни думает.”4038 (III, c. 159)
В письме из Парижа от 28 мая (9 июня) 1847 года Владимир Алексеевич Муханов писал: “Отсюда в воскресенье уехал Гоголь, который провёл здесь неделю в одной гостинице с нами. Мы почти каждый день обедали с ним у Толстых, здоровье его совершенно поправилось; он всё время был весел, разговорчив и бодр, одним словом – другой человек, а не тот, которого мы встретили прошлым летом в Остенде. Путешествие его в Иерусалим не совершилось, потому что вырученные за последнюю книгу деньги пришли поздно, а без них не с чем было пуститься в дальний путь. Кстати о книге: удивительно, что после критик, больше жестоких и исполненных остервенения, он не только вовсе не раздражён, но, напротив, покойнее и светлее духом прежнего. Вяземский прислал брату статью свою о Языкове и Гоголе; он один, кажется, из печатных судей понял сочинителя Переписки с друзьями, и объяснил удовлетворительно, почему произошло недоумение между Гоголем и его ценителями по поводу последней книги: невозможно единомыслие при воззрении на предметы с противоположных точек”.4139 Братья Мухановы, как современники Николая Васильевича, видели в нём православного христианина. Гоголь желал этого именно к себе отношения. Матери он писал в июне 1844 года: “И среди самой просвещённой столицы куются и ткутся всякие нелепицы, да и весь человек есть ложь. Я не знаю, какие слухи до вас дошли, но … Старайтесь лучше видеть во мне христианина и человека, чем литератора”. (XII, c. 323 – 324)
Я не спешу интерпретировать “психозом” ежедневные молитвы Гоголя, посещения литургии, чтение отцов церкви, безбрачие, текст “Выбранных мест из переписки с друзьями”, дружбу с духовенством и монахами, составление молитв, паломничество в Палестину, сочинение оригинальных текстов, начиная с «Вечером на хуторе близ Диканьки», наконец, предсмертную записку Николая Васильевича: “Помилуй меня грешного. Прости Господи! Свяжи вновь сатану таинственною силою неисповедимого Креста.”4240
Ясперс утверждал: “Согласно Канту, судебная экспертиза по вопросам вменяемости должна подлежать компетенции философского факультета. С чисто логической точки зрения это, пожалуй, правильно, но на практике такое требование неосуществимо. …здесь не обойтись без знания соматической медицины. Соответственно, именно врач должен заниматься сбором фактических данных, нужных суду. Но сказанное Кантом имеет свою ценность, поскольку постулирует необходимость для компетентного психиатра иметь такую подготовку, которая была бы сопоставима со знаниями, получаемыми на философском факультете. Простое заучивание той или иной философской системы и её механическое применение (с чем неоднократно приходится сталкиваться в истории психиатрии) не могут служить данной цели. Более того, это даже хуже, чем полное отсутствие философской подготовки. Но настоящий психиатр должен усвоить некоторые точки зрения и методы, принадлежащие сфере наук о духе. В психопатологии, как в фокусе, сосредотачиваются методы почти всех наук…”4341
А провозглашение клинического мышления – философия сама по себе. Л.С.Выготский писал: “Но кто рассматривает факты, неизбежно рассматривает их в свете той или иной теории… Факты неразрывно переплетены с философией… без этого факты останутся немы и мертвы.”4442 В монографии “Мышление и речь” подчёркнуто: “Само отсутствие философии есть совершенно определённая философия.”4543 К.Ясперс учил: “тот, кто философствует, должен давать объяснения. Если существование Бога подвергается сомнению, философ должен дать ответ: или он не покидает поля скептической философии, в которой вообще ничто не утверждается и не отрицается, или же, ограничиваясь предметно определённым знанием (что значит – научным знанием), он прекращает философствовать, руководствуясь тезисом: что знать невозможно, о том следует молчать.”4644
Ложно психиатр Д.Е.Мелехов понял взаимоотношения Гоголя с его духовником отцом Матвеем, цитирую: “Его духовный руководитель, не принимая во внимание состояние больного, предъявлял к нему строго аскетические требования… советовал бросить всё и идти в монастырь, а во время последнего приступа привёл Гоголя в ужас угрозами загробной кары…”4745
Данное утверждение исходит из ошибочной трактовки психиатром Мелеховым письма Гоголя к отцу Матфею Константиновскому (24 сентября 1847 года): “Не знаю, сброшу ли я имя литератора, потому что не знаю, есть ли на это воля Божия… Если бы я знал, что на каком-нибудь другом поприще могу действовать лучше во спасенье души моей и во исполненье всего того, что должно мне исполнить, чем на этом, я бы перешёл на то поприще. Если бы я узнал, что я могу в монастыре уйти от мира, я бы пошёл в монастырь. Но и в монастыре тот же мир окружает нас…” (XIII, с.390 – 391) Письмо говорит о монашеских стремлениях Гоголя, но не о том, что именно отец Матфей внушал их. Во-первых, в 1845 году Николай Васильевич предпринял попытку уйти в монахи, до знакомства с отцом Матфеем. Во-вторых, письмо Гоголя за 1847 год было ложно истолковано полвека спустя историком Николаем Платоновичем Барсуковым в том смысле, что якобы отец Матфей “советует Гоголю бросить имя литератора и идти в монастырь.”4846 Фразу, выделенную Барсуковым курсивом, стали брать в кавычки в XX веке совершенно неправомерно как документальное свидетельство. Пастырь говорил писателю иное, что видно из письма Гоголя к А.П.Толстому (август 1847 г.): “слушаться Духа, в нас живущего, а не земной телесности нашей; …оставивши все хлопоты и вещи мира… поворотить во внутреннюю жизнь.” (XII, с. 366)
Последняя встреча Гоголя и отца Матфея была в начале февраля 1852 года в доме графа Толстого. Подробности беседы не известны, но примерное содержание передали врач А.Т.Тарасенков и протоиерей Феодор Образцов. Но нет оснований считать, что пастырь предъявлял чрезмерные требования к пасомому. Отец Матфей в своём последнем письме к Гоголю, единственном дошедшем до нас подлинном документе, на который могу научно опереться, писал: “Человек может и должен расти в вере и благочестии, но постепенно.”4947
Известность получили воспоминания протоиерея Феодора Образцова, что на последней встрече отца Матфея с Гоголем шла речь о литературе. “Отец Матфей как духовный отец Гоголя, – писал он, – взявший на себя обязанность, по мере воспринятой на себя благодати, очистить совесть Гоголя и приготовить его к христианской непостыдной кончине, потребовал от Гоголя отречения от Пушкина. “Отрекись от Пушкина, – потребовал отец Матфей, – он был грешник и язычник”.5048 Однако, позволю высказать сомнение (dubitat Augustinus), что духовник якобы мог называть “язычником” православного Пушкина, хотя бы грешника (все – грешники), тем более просить отречения от человека, если тот не еретик. Пушкин еретиком не был: посещал храм, молился, исповедовался, венчался, крестил детей, после дуэли за честь жены, умирая, покаялся, причастился. Феодор Образцов лично в споре Гоголя с отцом Матфеем не участвовал, следовательно, его строки – не слова из уст пастыря. Опять имеем только косвенные умозрения и мнения. Скорее, в том споре «Пушкин» означал в некоей мере нехристианскую часть словесности. Вероятно, отец Матфей просил отречения не от Пушкина, которого Гоголь лично знал как христианина (стихотворение “Отцы пустынники и жены непорочны”), а того, кто в стихах воспел страсти (например, Гавриилиада), чего сам стыдился в конце жизни. Ранний Пушкин был кумиром литераторов той эпохи, породив подражания.
Литература у Гоголя – служение истине. “Не моё дело решить, в какой степени я поэт, – писал он В.А.Жуковскому в январе 1848 года, – знаю только то, что прежде чем понимать значенье и цель искусства, я уже чувствовал чутьём всей души моей, что оно должно быть свято. И едва ли не со времени… первого свиданья нашего оно стало главным и первым в моей жизни, а всё прочее вторым. Мне казалось, что уже не должен я связываться никакими другими узами на земле, ни жизнью семейной, ни должностной жизнью гражданина и что словесное поприще есть тоже служба. … Что нас свело неравных годами? Искусство. Мы… почувствовали оба святыню искусства. … мой смех вначале был добродушен; … и меня … изумляло, когда я слышал, что обижаются и даже сердятся на меня целиком сословия и классы общества, что я наконец задумался. “Если сила смеха так велика, что её боятся, стало быть, её не следует тратить попустому. Я решился собрать всё дурное, какое только я знал, и за одним разом над ним посмеяться – вот происхождение “Ревизора”!… Представление “Ревизора” произвело на меня тягостное впечатление. Я был сердит и на зрителей, меня не понявших, и на себя самого, бывшего виной тому, что меня не поняли. … (обратился) …к наблюденью внутреннему над человеком и над душой человеческой. О, как глубже перед тобой раскрывается это познание, когда начнёшь дело с собственной своей души! На этом-то пути поневоле встретишься ближе с тем, который один из всех, доселе бывших на земле, показал в себе полное познанье души человеческой, божественность… с тех пор способность творить стала пробуждаться; живые образы начинают выходить ясно из мглы;… И, может быть, будущий уездный учитель словесности прочтёт ученикам своим страницу будущей моей прозы непосредственно вослед за твоей, примолвивши: “Оба писатели правильно писали, хотя и не похожи друг на друга.” … Как изобразить людей, если не узнать прежде, что такое душа человеческая? … “Искусство есть примиренье с жизнью.” Это правда. …Искусство есть водворенье в душу стройности и порядка, а не смущенья и расстройства. Искусство… это живые люди, созданные и взятые из того же тела, из которого и мы.” (XIV, c. 33 – 38)
Перед взором А.С.Пушкина был образ пророка, которому Бог велит “глаголом жечь сердца людей”, у В.А.Жуковского поэзия “земная сестра небесной религии”, а Гоголь смеялся над чёртом (ложью мира сего), у А.П.Чехова: “В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна, спора нет, но… ведь она только ест, спит, гуляет, чарует всех нас своею красотой – и больше ничего. У неё нет никаких обязанностей, на неё работают другие … Ведь так? А праздная жизнь не может быть чистою. (Пауза.) Впрочем, быть может, я отношусь слишком строго. …”5149
Гоголь не только хорошо знал Евангелие, но жизнью своей воплощал служение Слову, еже еси уготовал пред лицом всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. В христианском аскетизме, сублимации либидо “тайна безбрачия” Гоголя, а не в фантазии В.В.Розанова о некрофилии. С женщинами строить доверительные и близкие отношения Гоголь умел. Можно взять личную переписку с его воспитанницами (М.П.Балабиной и др.), с А.О.Россет-Смирновой, графинями Виельгорскими, воспоминания родных сестёр писателя, чтоб доказать отсутствие сексопатологии. Если С.Карлинский нашёл у Гоголя “подавленную гомосексуальность”, то это плоды фантазий самого литературоведа из Швеции.
Гоголь сватался к Виельгорским. С другой стороны, как свидетель- ствовал его друг, поэт В.А.Жуковский: “Настоящее его призвание было монашество. Я уверен, что если бы он не начинал свои “Мёртвые Души”, которых окончание лежало на его совести и всё ему не давалось, то он давно бы стал монахом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой душа его дышала бы легко и свободно.”5250 Свидетельство другого друга, С.Т.Аксакова: “Отсюда начинается постоянное стремление Гоголя к улучшению в себе духовного человека и преобладание религиозного направления, достигшего впоследствии, по моему мнению, такого высокого настроения, которое уже не совместимо с телесною оболочкою человека.”5351 Ещё свидетель – Марфа Степановна Сабинина – дочь веймарского православного священника Степана Карповича Сабинина. Гоголь в 1845 году: “Он приехал в Веймар, чтобы поговорить с моим отцом о своём желании поступить в монастырь. Видя его болезненное состояние, следствием которого было ипохондрическое настроение духа, отец отговаривал его и убедил не принимать окончательного решения.”5452
Психиатр В.Ф.Чиж писал, что Гоголь “был безразличен к женской красоте”, потому он хотел жениться на А.М.Виельгорской, “которая была нехороша собою”.5553 Но, кто сватался к Анне Михайловне – психиатр Чиж или Гоголь? Кому судить о красоте невесты, кроме жениха? Ясно, что В.Ф.Чиж не сватался.
Слово супруг этимологию имеет в русском языке – соработник, сотрудник в общей упряжке, что два вола тянут, пашущие землю. Важнее не внешность, а добрый, весёлый характер, целомудрие жены, как напишет Пастернак в “Докторе Живаго”: жизнь прожить – не поле перейти. Жить не с приданым, не с внешностью, а с душой (личностью). Пушкин: жена – не рукавица, с белой ручки не стряхнёшь да за пояс не заткнёшь. Ужасно, коли гнался за внешним фантом, а внутри – лицемерие. Не следует забывать, что развод в XIX веке был запрещён. Внешность жены – не главное для счастья в семейной жизни. “Не хвали человека за красоту его, и не имей отвращения к человеку за наружность его. Мала пчела между летающими, по плод её – лучший из сластей.” (Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, 11, 1–3). После отказа Виельгорских Гоголь укрепился в безбрачии. Он поселился в Москве у своего друга графа А.П.Толстого на Никитском бульваре, который подобно Гоголю был набожным человеком, тайно носил вериги, со своей красавицей-супругой (грузинской княжной) вёл целомудренную, благочестивую жизнь, соблюдал посты и церковные традиции.5654 Император Александр II назначит графа Толстого обер- прокурором Святейшего Синода.
В январе 1852 года Николай Васильевич переиздавал все свои сочинения, на вырученные деньги планировал помочь в Васильевке с ремонтом усадьбы. Особой болезненности в январе той зимы в нём не замечали врач А.Т.Тарасенков и многочисленные друзья (А.П.Толстой, С.П.Шевырёв, Хомяковы, Аксаковы). За девять дней до масленицы (25 января 1852 г.) Гоголя посетил Осип Максимович Бодянский, которого сопровождал ещё Г.П.Данилевский. Последний оставил письменные свидетельские показания о том визите к Гоголю. Они застали писателя за рабочей конторкой, за корректурными листами. Гоголь звал Бодянского на воскресенье (27 января) к Ольге Фёдоровне Кошелевой, жившей неподалёку на ул.Поварской, слушать малороссийские песни. Но вечер не состоялся из-за смерти Е.М.Хомяковой. Свидетельствует Данилевский (кто с его показаниями знаком три страницы опустите):
“Это случилось… в Москве … я отправился к О.М.Бодянскому, чтобы ехать с ним к Гоголю. …Радость предстоявшей встречи несколько, однако, затемнялась для меня слухами, которые в то время ходили о Гоголе, по поводу изданной незадолго перед тем его известной книги “Выбранные места из переписки с друзьями”. Я невольно припоминал злые и ядовитые нападки, которыми тогдашняя руководящая критика преследовала эту книгу. Белинский в ту пору был нашим кумиром, а он первый бросил камнем в Гоголя за его “Переписку с друзьями”. … Хотя обвинения Белинского для меня смягчались в кружке тогдашнего ректора Петербургского университета П.А. Плетнёва, друга Пушкина и Жуковского, отзывами иного рода, тем не менее я и мои товарищи-студенты, навещавшие Плетнёва, не могли вполне отрешиться от страстной и подкупающей своим красноречием критики Белинского. Плетнёв, защищая Гоголя, делал что мог. Он читал нам, студентам, письма о Гоголе живших в то время в чужих краях Жуковского и князя Вяземского, объяснял эти письма и советовал нам, не поддаваясь нападкам врагов Гоголя, самостоятельно решить вопрос, прав ли был Гоголь, издавая то, о чём он счёл долгом открыто высказаться перед родиной? – “Его зовут фарисеем и ренегатом, – говорил нам Плетнёв, – клянут его, как некоего служителя мрака и лжи, оглашают его, наконец, чуть не сумасшедшим … и за что же? За то, что, одарённый гением творчества, родной писатель-сатирик дерзнул глубже взглянуть в собственную свою душу, проверить свои сокровенные помыслы и самостоятельно, никого не спросясь, открыто о том поведать другим … Как смел он, создатель Чичикова, Хлестакова, Сквозника и Манилова, пойти не по общей, а по иной дороге, заговорить о духовных вопросах, о церкви, о вере? В сумасшедший дом его! Он – помешанный!” – Так говорил нам Плетнёв. Молва о помешательстве Гоголя, действительно, в то время была распространена в обществе. Говорили странные вещи: будто Гоголь окончательно отрёкся от своего писательского призвания, будто он постится по целым неделям, живёт, как монах. Читает только Ветхий и Новый Завет и жития святых и, душевно болея и сильно опустившись, относится с отвращением не только к изящной литературе, но и к искусству вообще. …Одно меня успокаивало: Гоголь пригласил к себе певца-малоросса, этот певец должен был у него петь народные украинские песни, – следовательно, думал я, автор “Мёртвых душ” не вполне ещё стал монахом-аскетом, и его душе ещё доступны произведения художественного творчества. … Старик-слуга графа Толстого приветливо указал нам дверь из передней направо. …Бодянский постучался в дверь этой комнаты.
–
Чи дома, брате Миколо? – спросил он по-малорусски.
–
А дома ж, дома! – негромко ответил кто-то оттуда.
… Мы вошли в кабинет. Бодянский представил меня Гоголю, сказав ему, что я служу при Норове57* и что с ним, Бодянским, давно знаком через Срезневского и Плетнёва. … Мои опасения рассеялись. Передо мной был не только не душевнобольной или вообще свихнувшийся человек. А тот же самый Гоголь, тот же могучий и привлекательный художник, каким я привык себе воображать его с юности. Разговаривая с Бодянским, Гоголь то плавно прохаживался по комнате, то садился в кресло к столу, за которым Бодянский и я сидели на диване, и изредка посматривал на меня. Среднего роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица, он был одет в тёмно-коричневое длинное пальто и в тёмнозелёный бархатный жилет, наглухо застёгнутый до шеи, у которого, поверх атласного чёрного галстука, виднелись белые, мягкие воротнички рубахи. Его длинные каштановые волосы прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие, тёмные, шёлковистые усики… Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно и не улыбаясь даже тогда, когда он говорил что-либо весёлое и смешное. Длинный, сухой нос придавал этому лицу и этим, сидевшим по его сторонам, осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее и вместе добродушно-горделивое. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты. Гоголь в то время, как я отлично помню, был очень похож на свой портрет, писанный с него в Риме, в 1841 году, знаменитым Ивановым.58** Этому портрету он, как известно, отдавал предпочтение перед другими. Успокоясь от невольного, охватившего меня смущения, я стал понемногу вслушиваться в разговор Гоголя с Бодянским. …
–
…А что это у вас за рукописи? – спросил Бодянский, указывая на рабочую, красного дерева, конторку, стоявшую налево от входных дверей, за которою Гоголь, перед нашим приходом, очевидно, работал стоя.
–
Так себе, мараю по временам! – небрежно ответил Гоголь.
На верхней части конторки были положены книги и тетради; на её покатой доске, обитой зелёным сукном, лежали раскрытые, мелко исписанные и перемаранные листы.
–
Не второй ли том “Мёртвых душ”? – спросил, подмигивая, Бодянский.
–
Да… иногда берусь, – нехотя проговорил Гоголь, – но работа не подвигается; иное слово вытягиваешь клещами.
–
Что же мешает? У вас тут так удобно, тихо.
–
Погода, убийственный климат! Невольно вспоминаешь Италию, Рим, где писалось лучше и так легко. Хотел было на зиму в Крым, к В.М.Княжевичу, там писать, думал завернуть и на родину, к своим, – туда звали на свадьбу сестры, Елизаветы Васильевны…
–
За чем же дело стало? – спросил Бодянский.
–
Едва добрался до Калуги и возвратился. Дороги невозможные, простудился; да и времени пришлось бы столько потратить на одни переезды. А тут ещё затеял новое полное издание своих сочинений.
–
Скоро ли оно выйдет?
–
В трёх типографиях начал печатать, – ответил Гоголь, – будет четыре больших тома. Сюда войдут все повести, драматические вещи и обе части “Мёртвых душ”. Пятый том я напечатаю позже, под заглавием “Юношеские опыты”. Сюда войдут некоторые журнальные статьи, статьи из “Арабесок” и прочее.
–
А “Переписка”? – спросил Бодянский.
–
Она войдёт в шестой том; там будут помещены письма к близким и родным, изданные и неизданные… Но это уже, разумеется, явится … после моей смерти.
Слово “смерть” Гоголь произнёс совершенно спокойно, и оно тогда не прозвучало ничем особенным, ввиду полных его сил и здоровья. …”
55
В воспоминаниях Г.П.Данилевский упомянул, как по поручению Гоголя, он передал в Петербурге ректору П.А.Плетнёву толстую пачку ассигнаций. Со слов ректора П.А.Плетнёва, то был не первый случай тайной раздачи Гоголем своих денег на стипендии, что разбивает ложь В.Ф.Чижа и В.В.Вересаева о “рентной установке” Гоголя в отношении царя, высокопоставленных сановников. Наоборот, Николай Васильевич – меценат. Гоголь с христианским смирением дарил свои трудовые деньги бедным студентам incognito. У Юрия Трифонова в “Доме на набережной” дама беседует в поезде с писателем, едущим в Париж на конгресс ассоциации литераторов: “После Берлина она сделалась ещё разговорчивей и откровенней. “Говорят, будто русское дворянство выродилось, я и в Париже это слышала, а я вам скажу обратное: наша кровь самая прочная, потому что мы вынесли всё.”6056
26 января 1852 года после непродолжительной болезни, 35 лет от роду, скончалась жена видного славянофила А.С.Хомякова – Екатерина Михайловна Хомякова (в девичестве Языкова, сестра поэта Николая Языкова, одного из ближайших друзей Гоголя). Смерть эта тяжело повлияла на душевное состояние Николая Васильевича, который очень любил Екатерину Михайловну и её мужа. Гоголь был крестным отцом их сына – Николая Хомякова. Утром, после первой панихиды, он сказал овдовевшему Хомякову: “Всё для меня кончено.”6157 А по свидетельству Степана Петровича Шевырёва он произнёс у гроба покойной: “Ничего не может быть торжественнее смерти. Жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было бы смерти.”6258
28 января Гоголь зашёл к сёстрам Аксаковым, жившим тогда на Арбате (Николо-Песковский переулок) и спросил их о том где похоронят Екатерину Михайловну. Получив ответ, что в Даниловом монастыре и возле её брата Николая Михайловича Языкова, он, как помнит Вера Сергеевна Аксакова: “покачал головой, сказал что-то о Языкове и задумался так, что нам страшно стало: он, казалось, совершенно перенёсся мыслями туда и оставался в том же положении так долго, что мы нарочно заговорили о другом, чтоб прервать его мысли.”6359
29 января (вторник) состоялись похороны Е.М.Хомяковой, умершей от инфекции, видимо, от брюшного тифа. В 50-е годы XIX века тиф не делили на брюшной, сыпной, возвратный. Ни Кох, ни Пастер ещё не сделали своих открытий в микробиологии. Тифом в медицине называли симптомокомплекс. Понятно, что лечение тифа неясной этиологии было тогда плачевным.
На похоронах Гоголь не был. Известно, что в тот день он ездил в Преображенскую больницу для умалишённых, что в Сокольниках (на Матросской Тишине), и хотел повидать московского блаженного Ивана Яковлевича Корейшу. В записках врача А.Т.Тарасенкова (только в них) упоминается о той поездке: “…он поехал в Преображенскую больницу на извозчике. Подъехав к воротам больничного дома, он слез с санок, долго ходил взад и вперёд у ворот, потом отошёл от них, долгое время оставался в поле, на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и наконец, не входя во двор, опять сел в сани и велел ехать домой.”6460 Тарасенков сделал примечание: “По случаю дурной погоды, он мог в такую прогулку простудиться; впрочем, начало и течение болезни не показывали простудного (острого) характера…” Весьма важное примечание. Конечно, не от пневмонии умирал Гоголь, но переохлаждение всё же понижает иммунные силы у организма, не прибавляя здоровья.
30 января в своём церковном приходе Гоголь заказал панихиду о новопреставленной Екатерине. В одной беседе Аксаковым, он сказал, что ему стало легче на душе. “Но страшна минута смерти,” – добавил он. “Почему же страшна?” – возразил кто-то из Аксаковых. – Только бы быть уверену в милости Божией к страждущему человеку, и тогда отрадно думать о смерти.” – “Ну, об этом надобно спросить тех, кто перешёл через эту минуту”, – сказал он.6561 На вопрос, почему его не видели на похоронах, Гоголь ответил: “Я не был в состоянии”. “Вполне помню, – пишет Вера Сергеевна, – он тут же сказал, что в это время ездил далеко. – Куда же? – В Сокольники. – Зачем? – спросили мы с удивлением. – Я отыскивал своего знакомого, которого, однако же, не видал.”6662
1 февраля (пятница) Гоголь у обедни в своей приходской церкви. Родительская суббота мясопустной недели в том году приходилась на 2 февраля – праздник Сретения Господня, а потому поминовение усопших было перенесено на пятницу. После богослужения он снова идёт к Аксаковым, хвалит свой приход и священника (отца Алексия Соколова, ставшего в последствии протопресвитером Храма Христа Спасителя). Вера Сергеевна вспоминала: “Видно было, что он находился под впечатлением этой службы, мысли его были все обращены к тому миру.” Разговор зашёл о А.С.Хомякове. Вера Сергеевна заметила, что Алексей Степанович напрасно выезжает, потому что скажут, что он не любил жены. Гоголь возразил: “Нет, не потому, а потому, что эти дни он должен был бы употребить на другое; это говорю не я, а люди опытные. Он должен был бы читать теперь Псалтирь, это было бы утешением для него и для души жены его. Чтение Псалтири имеет значение, когда читают его близкие, это не то, что раздавать читать его другим.”6763
3 февраля (воскресенье) Гоголь был у обедни в приходе по месту жительства, оттуда вновь пешком заходит к Аксаковым, снова хвалит служившего священника и всю Литургию, но жалуется на усталость. С врачебной точки зрения – факт – появление повышенной усталости (астенический симптом, не специфичен, но характерен для клинической манифестации всех болезней). “В его лице, – даёт свидетельские показания Вера Сергеевна, – точно было видно утомление, хотя и светлое, почти весёлое выражение.” Гоголь снова говорил о Псалтири. “Всякий раз как иду к вам, – сказал он, – прохожу мимо Хомякова дома и всякий раз, и днём и вечером , вижу в окне свечу, теплящуюся в комнате Екатерины Михайловны (там читают Псалтирь).”6864
В понедельник (4 февраля) писатель заехал к С.П.Шевырёву и сказал, что “некогда ему теперь заниматься корректурами”. Степан Петрович и его жена София Борисовна заметили перемену в его лице и спросили, что с ним случилось. Он отвечал, что “дурно себя чувствовал и кстати решился попоститься и поговеть”. Шла седмица масленицы. “Зачем же на масленой?” – спросил его Шевырёв. – “Так случилось, – отвечал он, – ведь и теперь Церковь читает уже: “Господи, Владыко живота моего!” и поклоны творятся”.
5 февраля Гоголь сказал посетившему его на дому Шевырёву о “расстройстве желудка и о слишком сильном действии лекарства, которое ему дали”. Что за лекарство дали в доме Толстых? Не знаю, думаю, что-то народное, травы из домашней аптеки. На 3-й день болезни к астении добавилось “расстройство желудка”. В тот день Гоголь ездил на извозчике к отцу Николаю Никольскому в церковь Преподобного Саввы Освященного на Девичьем поле, с которым познакомился в 1842 году, когда по возвращении из-за границы гостил у М.П.Погодина, – сообщить, что начал говеть, просил назначить день, когда можно приобщиться Святых Даров. Священник советовал дождаться первой недели поста, потом согласился на четверг, в ближайшую Божественную Литургию с Пресуществлением, в среду на масленой её служить не положено. Оставлю в стороне спасение души, но врач, лечащий тело, видит новый симптом – исчез аппетит. Признак идёт вслед за расстройством желудка. Жаль, не было микроскопа и чашки Петри с агарагаром (посеять микрофлору кишечника, кровь на стерильность).
Известно, что 5 февраля Гоголь прощался с ржевским священником Матфеем Константиновским, посетившим графа Толстого. С того дня Гоголь прекратил всякие литературные занятия, начал читать молитвенное правило к Святому Причащению, что все христиане знают. Вечером он проводил отца Матфея на станцию железной дороги. Пастырь предложил поменяться шубами, Гоголь отказался, хотя шуба отца Матфея была лучше (смысл чего различно интерпретируют). 5 февраля беседовали они о литературе и не только, спорили, но помирились (что документально подтверждают сохранившиеся подлинники писем их друг к другу). После отъезда отца Матфея Гоголь переживал, что нечто резкое сказал в споре, но получив тёплое письмо от пастыря, успокоился, обрадовался, что примирение состоялось. Можно говеть:
Хотя ясти, человече, Тело Владычне,
Страхом приступи, да неопалишися: огнь бо есть.
Божественную же пия Кровь ко общению,
Первее примирися тя опечалившим…
Кроме молитвенного правила ещё принято читать каноны, акафист Иисусу сладчайшему. Короче, я не вижу «психопатологии» в том, что Гоголь молился долго, слёзно и с чувством радости. 7 февраля Гоголь исповедовался, причастился в своём приходском храме. М.П.Погодин со слов служившего священника свидетельствует: перед принятием Святых Даров он пал ниц, много плакал, был слаб и почти шатался.6965 Итак, астения усилилась. Вечером того дня (четверг, 7 февраля) Гоголь пришёл на вечернюю службу в церковь и просил священника отслужить благодарственный молебен, упрекая себя, что забыл исполнить сие утром. Из церкви он заехал к жившему рядом Погодину, который заметил перемену в нём. На вопрос, что с ним, ответил: “Ничего, я нехорошо себя чувствую.” Посидев минуту, он встал – в комнате были посторонние – сказал, что зайдёт к домашним, остался у них тоже на минуту. Кроме того, княжна Варвара Николаевна Репнина-Волконская запомнила, что последний раз видела Гоголя в четверг на масленой, т. е. 7 февраля. “Он был ясен, но сдержан, – свидетельствует она, – и всеми своими мыслями обращён к смерти; глаза его блистали ярче, чем когда-либо, лицо было очень бледно. За эту зиму он очень похудел, но настроение духа его не заключало в себе ничего болезненного; напротив, оно было ясным, более постоянно, чем прежде. Мысль, что мы его скоро потеряем, была так далека от нас; а между тем тон, с каким он прощался, на этот раз показался нам необычайным, и мы между собой заметили это, не догадываясь о причине. Её разъяснила нам его смерть”.7066
С депрессивным «психозом» не вяжется, что настроение его не заключало в себе ничего болезненного; было ясным, более постоянно, чем прежде. Специально повторяю слова свидетельницы, которая близко знала освидетельствуемого. Нет снижения настроения. В ночь с 8 на 9 февраля, после продолжительной и тёплой молитвы на коленях пред образами Гоголь уснул на диване, во сне услышал некий “голос”, говоривший ему, что он скоро умрёт. Проснувшись, он позвал за священником с просьбой соборования, когда тот пришёл, то решили повременить. 9 февраля (суббота) он едет к А.С.Хомякову, которого не видел с 27 января. “В субботу на масленице, – запомнил Погодин, – он посетил также некоторых своих знакомых. Никакой особенной болезни не было в нём заметно, не только опасности; а в задумчивости его, молчаливости не представлялось ничего необыкновенного”.7167
В Прощённое воскресенье Гоголь просил А.П.Толстого передать свой портфель с рукописями на рецензию митрополиту Московскому Филарету (Дроздову). А.П.Толстой отказал, не желая утверждать друга в мысли о скорой смерти. С того дня Гоголь перестал выезжать из дому по физической слабости. Врач Тарасенков пишет, что когда граф Толстой для отвлечения начал говорить о предметах когда-то живо его занимавших, Гоголь ответил с благоговейным изумлением: “Что это вы говорите! Можно ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте!”7268 (исходу из временной жизни в вечность) В этом смысле не биологическая смерть страшна личности, а расплата за нераскаянные грехи, возмездие на Страшном суде.
Тайна смерти – не предмет науки, а твой личный опыт при исходе души из тела. Такие факты сознания умирающего – факты личные, интимные, внутренней жизни, которые не понять извне сциентисту, не дедуцировать из научных гипотез. Умирание – опытное знание. Сознание близкой собственной смерти, как исхода из временной жизни в вечность (трансцендентность), совпадает с личным исихастическим экспериментом. Опыт умирания не является универсальным, одинаковым у всех, а индивидуален. Псалом Давида 33: «смерть грешников люта, и ненавидящие праведного прегрешат». Лютость, «тяжесть» смерти, определяется внутренним духовным состоянием личности человека, – смерть в Духе или вне Духа? Мёртвой душой будет закоренелый грешник, отрёкшийся от Бога. Диавол (отец лжи) – мёртвый дух, передает своё омертвение тем, кто сочетался с ним. Зато смерть праведника, мученика за истину, – радостна, спокойна, светла (диалог “Федон” Платона). Отношение личности к своей смерти – последнее доказательство теоремы: что есть «истина»?
В Европе психиатрия, включая и русскую, развивалась в русле естественно-научной парадигмы, в русле школы соматиков, считавших душевные болезни ничем не отличающимися от телесных, от болезней головного мозга (В.Гризингер и др.). А разве мысли, эмоции, волевые поступки мозг рождает, как печень секретирует желчь? Головной мозг порождает сознание как собака И.П.Павлова условные рефлексы? Редукционизм психиатрии связан с тем, что философ И.Кант показал: люди знают объекты (“вещи для нас”, феномены), а абсолютная истина (“вещь в себе”, ноумен) не познаваема. Такой скептицизм у Понтия Пилата: “что есть истина?” (Иоанн., 18, 38) Ещё хуже гносеология сенсуализма (гипотеза отражения В.И.Ульянова). Проверить свои ощущения о реальности “я” никак не может, кроме как снова через свои ощущения. Такая проверка есть порочный круг, что знал врач Ибн Сина, а допущение Ленина о чистых ощущениях ложно. Наоборот, осознанность включена в самую ткань ощущения людей. Связь ощущений и сознания составит неразрывное единство смысла жизни, как тело, душа, дух связаны. Опыт смерти – однократен, уникален. Мигом своей смерти не поделишься в научном журнале. Ощущения homo sapiens, в отличие от животных, не являются “чистыми”, что показано гипотезой лингвистической относительности Сепира – Уорфа.
Лишь ясность в исходной точке об объективной реальности позволит идти тернистой дорогой знания, отличая здоровье души от многочисленной психопатологии. Трагедия от анозогнозии (неосознанной болезни души). Ошибка мировосприятия – душевная болезнь («сон разума»). Коварство сна с открытыми глазами в том, что сомнамбула не сознаёт, как усыплён сетью “я”, загипнотизирован своими страстями. Анозогнозия опасна, что понимал Гоголь, рисуя в “Портрете” как живописец Чартков проснулся, как ему кажется, а на самом деле погружаясь в онейроид, говоря психиатрически. Сон разума – безумие, учил Сократ в притче о пещере.7369 Калейдоскоп кажимостей люди мнят объективной реальностью и живут загипнозириванные страстями, в рабстве у своих страстей. Этот сомнамбулизм описал и Педро Кальдерон в драме “Жизнь есть сон”.
Можно неправильно толковать содержание прочитанного текста, не заметив даже того, что вы не поняли, что хотел сообщить Вам автор, увы, можно иметь уши и не слышать, иметь глаза и не видеть! Ложное смыслообразование извратит восприятие личности человека, руку приложившей. Это случилось с Гоголем? В романе “Чума” Альбера Камю читаю: “Зло, существующее в мире, почти всегда результат невежества, и любая добрая воля может причинить столько же ущерба, что и злая, если только эта добрая воля недостаточно просвещена. Люди – они скорее хорошие, чем плохие, и, в сущности, не в этом дело. Но они в той или иной степени пребывают в неведении, и это-то зовётся добродетелью или пороком, причём самым страшным пороком является неведение, считающее, что ему всё ведомо.”7470
Великий пост в 1852 году начался 11 февраля. Первая неделя Великого поста отличается не одним чтением красивейшего канона Андрея Критского, длительным молением на коленях с горящей свечой в полумраке храма, но и строгим постом (до среды пищу взрослые православные не вкушали). Со слов графа А.П.Толстого, у которого столовался писатель, известно, что начиная с понедельника Гоголь принимал пищу дважды: утром кусок хлеба или просфору, запивая липовым чаем, а вечером – кашу, саго или чернослив (как болящий ослабил пост). Нет отказа от пищи по “бредовым мотивам”.
Понедельник первой недели Великого поста. В доме графа Толстого (на втором этаже) служили Великое повечерие. Гоголь едва уже мог подняться наверх по ступеням, однако выстоял всю службу. В чём причины астении, снижения аппетита? Астения явно телесная, не апатия, не пассивность. А.П.Толстой, видя, как изнуряется друг, решил прекратить у себя в доме богослужения.
В третьем часу 12 февраля Гоголь будит слугу Семёна и велит подняться на второй этаж, открыть печную задвижку, затопить печь в кабинете. Писатель вынул из портфеля рукописи и положил их пачкой, но огонь плохо принимался. Слуга просил барина не делать того. Гоголь отвечал, что дело не твоё и лучше помолись. Далее он вынул пачку, связанную тесьмой, развязал и начал класть свои тетради в огонь по отдельности. Он разбирал тетради. Например, он сохранил текст о православном Богослужении, который в последствии С.П.Шевырёв назвал “Размышление о божественной Литургии”. Что именно сжёг накануне смерти Гоголь? То же, что и душевнобольной Мастер в одноимённом романе М.А.Булгакова?
Любые гипотезы не имеют под собой научных доказательств. Фантазии – не предмет науки.
Утром, согласно запискам Тарасенкова писатель сказал с горечью Толстому: “Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжёг всё. Как лукавый силён, вот до чего меня довёл. А я было думал разослать на память друзьям по тетрадке: пусть бы делали, что хотели.”7571
Близкие по смыслу слова привёл в некрологе М.П.Погодин. Самого Погодина не было рядом в роковой час Гоголя, он писал со слов А.П.Толстого, перед публикацией просив графа просмотреть черновик некролога. Записка Погодина к графу Толстому хранится в рукописном отделе Пушкинского Дома, как подлинный исторический документ, на который можно научно опереться. Граф ответил: “Думаю, что последние строки о действии и участии лукавого в сожжении бумаг можно и должно оставить (оставить ненапечатанными – пояснение). Это сказано было мне одному без свидетелей: я мог бы об этом не говорить никому, и, вероятно, сам покойный не желал бы сказать это всем. Публика не духовник, и что поймёт она об такой душе, которою и мы, близкие, не разгадали. Вот и ещё замечание: последние строки портят всю трогательность рассказа о сожжении бумаг.”7672 Погодин сам сомневался в целесообразности публикации слов Гоголя, сказанных tete-a-tete: “Вообразите, как силён злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определённые, а сжёг главы “Мёртвых душ”, которые хотел оставить друзьям на память после моей смерти”.7773 Это доказывают строки ответной записки М.П.Погодина к графу А.П.Толстому. Однако, в конце концов Погодин публикует интимное признание писателя, хотя граф был против (публика – не духовник, не поймёт).
Отец Матфей был последним, кто читал главы второго тома “Мёртвых душ”. Ему ставят в вину, что он якобы сказал сжечь рукопись. Отец Матфей отрицал, что по его воле погибла рукопись. Пишет протоиерей Феодор Образцов: ”Говорят, что вы посоветовали Гоголю сжечь 2-й том “Мёртвых душ”? – Неправда и неправда… Гоголь имел обыкновение сожигать свои неудавшиеся произведения и потом снова восстановлять их в лучшем виде. Да едва ли у него был готов 2-й том; по крайней мере, я не видал его. Дело было так: Гоголь показал мне несколько разрозненных тетрадей с надписями: Глава, как обыкновенно писал он главами. Помню на некоторых было написано: глава I, II, III, потом должно быть, 7, а другие были без означения; просил меня прочитать и высказать своё суждение. Я отказывался, говоря, что я не ценитель светских произведений, но он настоятельно просил, и я взял и прочитал. … Возвращая тетради, я воспротивился опубликованию некоторых из них. В одной или двух тетрадях был описан священник. Это был живой человек, которого всякий узнал бы, и прибавлены черты, которых… во мне нет, да к тому же ещё с католическими оттенками, и выходил не вполне православный священник. Я воспротивился опубликованию этих тетрадей, даже просил уничтожить. В другой из тетрадей были наброски… только наброски какого-то губернатора, каких не бывает. Я советовал не публиковать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют за неё даже больше, чем за переписку с друзьями”.7874
Свидетельство протоиерея Матфея важно. Он – единственный человек, который был для Гоголя авторитетом, “отцом”. Трудно представить, что Гоголь, имея законченный чистовой вариант второго тома «Мёртвых Душ», дал духовнику разрозненные тетради. В опровержение идеи Мелехова, что Гоголь сжёг рукопись якобы в состоянии тяжёлой депрессии, самоуничижения с бредом греховности, будут следующие показания пастыря: “Говорят даже, что Гоголь сжёг свои творения потому, что считал их греховными?” – “Едва ли, – в недоумении сказал о. Матфей, – едва ли …” Он как будто в первый раз слышал такое предположение. “Гоголь сожёг, но не все тетради сожёг, какие были под руками, и сожёг потому, что считал их слабыми”.7975
Соматическое состояние Гоголя продолжало ухудшаться. Очевидцы отмечали усталость и вялость до изнеможения. Со слов А.Т.Толстого знаем, что писатель в те дни принимал пищу по чуть-чуть, всего очень по-немногу.8076 Факт против голодовки!
14 февраля (четверг) Гоголь по свидетельству А.С.Хомякова сказал: “Надобно меня оставить, я знаю, что должен умереть.”8177 Гоголь сделал распоряжения насчёт своего крепостного слуги Семёна и просил графа Толстого разослать деньги “бедным на свечки”. Денежные средства, что будут выручены от переиздающихся его сочинений, он тоже попросил раздать неимущим.
16 февраля (суббота) Гоголя посетил врач Тарасенков впервые за время болезни. Пациент был сильно слаб физически, отвечал вяло, но внятно, разумно. А.Т.Тарасенков пишет: “Онъ смотрелъ какъ человекъ, для которого все задачи разрешены, всякое чувство замолкло, всякiе слова напрасны, колебанiе въ решенiи невозможно. Впрочемъ, когда я пересталъ говорить, онъ въ ответъ произнёсъ внятно, съ разстановкой и хотя вяло, безжизненно, но со всею полнотою уверенности: “Я знаю, врачи добры: они всегда желаютъ добра”; но вследъ за этим опять наклонилъ голову, отъ слабости ли, или въ знакъ прощанiя – не знаю. Я не смелъ его тревожить долее, пожелалъ ему поскорее поправляться и простился съ нимъ, вбежал къ графу , чтобъ сказать, что дело плохо, и я не предвижу ничего хорошаго, если это продолжится. Графъ предложилъ мне зайти дня через два узнать, что делается. Неопределительные отношенiя между медиками не дозволяли мне впутываться въ распоряженiя врачебные, темъ более, что Гоголь былъ на рукахъ у своего прiятеля Иноземцева, съ которымъ былъ коротокъ и который его любилъ искренно. Какъ сокрушаюсь я теперь, что я, по словамъ графа, прiехалъ только спустя два дня, – можетъ быть, я бы какъ нибудь могъ ещё подействовать ко спасенiю его. Но какъ и чемъ? Медицина не даёт правилъ, какъ действовать при такихъ неопределённыхъ явленiяхъ и для такой исключительной личности.”8278
16 февраля по свидетельству А.П.Толстого, Гоголь повторно приобщился Святых Даров. Соответственно, перед причастием была исповедь. Священник неадекватного (человека в психозе) не пустит к Святым Дарам. Кроме того, 18 февраля Гоголь соборовался. Все положенные на соборовании Евангелия он слушал: “в полной памяти, в присутствии всех умственных сил своих, с сокрушением полного молитвой сердца, с тёплыми слезами”.8379 Требы исполнял отец Иоанн Никольский, настоятель церкви Преподобного Саввы Освященного на Девичьем поле. Рядом с больным находился ещё и отец Алексей Соколов, священник храма Преподобного Симеона Столпника. За три дня до кончины больного навестил московский гражданский губернатор Иван Васильевич Капнист. Гоголь молча лежал лицом к стене, с чётками в руках. Мелехов писал, что последние 10 дней жизни Гоголь не проронил ни слова (“доказательство” мутизма с кататонической обездвиженностью?). Но, может быть, перебирая чётки, он шептал Иисусову молитву?! А по свидетельству очевидца известно точно и достоверно, что Николай Васильевич обернулся, сказав Капнисту: “У вас в канцелярии десять лет служит на одном и том же месте чиновник, честный, скромный и толковый труженик, и нет ему ходу и никакой награды; обратите внимание на это, ваше превосходительство, хотя бы в мою память” (это был сын иерея Иоанна Никольского). 8480
19 февраля 1852 года. Приехал опять врач Тарасенков. Гоголь лежал на диване, в халате, в сапогах, отвернувшись к стене. Против его лица – образ Богоматери, в руках чётки. Доктор Тарасенков взял руку больного, щупал пульс. Гоголь сказал: “Не трогайте меня, пожалуйста.” Осматривавший больного врач Ф.И.Иноземцев подозревал тиф. Приехал ещё другой доктор (Аркадий Альфонский), он советовал магнетизирование (гипноз), чтоб подавить волю Николая Васильевича, внушить принимать больше пищу. Вечером того же дня пришли врачи Александер Овер и Константин Сокологорский. Последний начал магнетизирование. Когда он положил руку больному на голову, потом под ложечку, начав пассы, Гоголь сказал: “Оставьте меня.” Продолжать гипноз было бесполезно. Гоголь, перебирая чётки, творил Иисусову молитву. Вечером пришёл доктор Клименков и кричал на Гоголя, как на глухого и безумного, насильно удерживал его руку, выпытывая: “Что болит?!” Гоголь терял терпение и досадовал на Клименкова, умоляющим голосом повторяя: “Оставьте меня.” Завернулся в одеяло, спрятал руку. Клименков рекомендовал кровопускание, лёд на голову, завёртывание в мокрые простыни, но Тарасенков просил собрать завтра консилиум.
20 февраля. На консилиуме собралось несколько врачей (интересующихся отсылаю к рукописи А.Т.Тарасенкова). Медики давили больному живот, который был так мягок, что через него можно было ощупывать позвонки. Гоголь стонал, кричал, молил с напряжением: “Не тревожьте меня, ради Бога!”8581 Доктора решили большинством голосов поставить пиявки к носу, сделать холодное обливание головы в тёплой ванне. Когда больного раздели, усадив в ванну, он стонал, говоря, что это делают они напрасно, умолял снять пиявки, поднять их ото рта. Мольбы не трогали эскулапов: пиявок не сняли. Чтоб Гоголь не мог их убрать, руки его держали силою, обращаясь с ним как “с сумасшедшим”, не владеющим собой. Больной стонал от водных процедур (ему лили на голову холодную воду). Вспомнил ли Николай Васильевич в тот час о Поприщине: “Нет, я больше не имею сил терпеть. Боже! Что они делают со мной! Они льют мне на голову холодную воду! Они не внемлют, не видят, не слушают меня. Что я им сделал? За что они мучают меня? Я не в силах, я не могу вынести всех мук их, голова горит моя, и всё кружится предо мною. Спасите меня! Возьмите меня! Дайте мне тройку быстрых, как вихорь коней! …” (III, с. 214)
Есть свидетельские показания очевидца последних мук Гоголя, принимавшего непосредственное участие в том лечении, – фельдшера Зайцева, – крепостного человека симбирской помещицы Е.А.Беляковой. Его подлинная рукопись хранится в Рукописном фонде Литературного музея Москвы. Она известна гоголеведам. Е.С.Смирнова-Чикина в статье “Легенда о Гоголе” (журнал “Октябрь”, 1959, № 4) пересказала (с неточностями) её содержание. Цитировала из неё несколько строк А.Н.Белышева в статье “Тайна смерти Гоголя” (журнал “Нева”, 1967, № 3). Кроме рукописи (подлинного документа в суде истории), воспоминания фельдшера А.В.Зайцева опубликованы в “Симбирских Губернских Ведомостях” № 22 от 23 марта 1902 года под псевдонимом Servus Servorum Dei (Раб рабов Божьих – латин.) и были частично перепечатаны московской газетой “Столичная молва” № 55 от 27 апреля 1909 года под заглавием “Из воспоминаний о Гоголе”. Итак, говорит свидетель А.В.Зайцев:
“В 1852 году судьба забросила меня в Москву с больной госпожой моей Е.А.Беляковой, отправленной из Симбирска, после двухлетнего лечения нашими симбирскими знаменитостями, в Первопрестольную. Иноземцев86*, тогдашнее медицинское светило первой величины, осмотрев больную и пожав плечами, сказал (конечно, не при больной), что лечить уже поздно, что больная безнадёжна и что здесь медицина бессильна, и отказался от лечения. Но в Москве нашлись тогда ещё знаменитости – это Овер и Клименков87**, и они начали лечение; Овер и Клименков ездили к больной каждый день, ну, словом, они “старались”. Больную я привёз в Москву в январе, а в конце августа Овер и Клименков посоветовали ей ехать в деревню лечиться сельским воздухом, и я увёз из Москвы полуживой скелет, с пустой шкатулкой, где больная вскоре и отправилась к праотцам.
В один из визитов врачи нашли нужным припускать больной к известному месту пиявки; это было возложено на меня как на фельдшера, что я и выполнил в присутствии врачей. Благодаря, быть может, этой случайности, я имел возможность видеть дней за пять до смерти нашего великого писателя Гоголя; случилось это по следующим обстоятельствам. Понравились ли мои манипуляции с пиявками около больной моей, или судьбе было угодно, чтобы я увидел Николая Васильевича, – только на другой день, после обычного визита к больной, Овер просил её, чтобы она позволила мне ехать к одному больному, которому врачи нашли также нужным припустить пиявки. По получении разрешения я отправился на Садовую88*, в дом графини Толстой, где в то время жил Гоголь. Когда я явился к больному, – Овер и Клименков были уже там, и мы начали свои “истязания”. Как ни сопротивлялся, как ни молил, чуть не со слезами, Гоголь врачей, чтобы они оставили его в покое, но всё было напрасно: медикусы и не думали отступать, а делали своё. Когда я припускал к носу Гоголя пиявки, больной стонал, даже кричал, но Овер и Клименков держали его за руки во всё время, пока пиявки высасывали кровь, словом, “мы усердствовали” (да простит мне тень великого Гоголя! Я не повинен был в крови этого праведника!). Когда “истязания” окончились, – врачи уехали, я же оставался при больном до прекращения кровотечения. Спустя некоторое время больной успокоился и спросил меня: кто я? Я в коротких словах передал ему свою незатейливою автобиографию. Будучи им обласкан, я осмелился сказать ему, что читал некоторые из его сочинений и что вообще люблю почитать и даже пробую писать, конечно, для себя, и что у меня написано маленькое стихотворение на смерть моей давно умершей матери. Гоголь просил, чтобы я прочёл его и сделал некоторые поправки. Вот эти четыре строки стихотворения:
А этой скорби будет много
В печальной жизни сироты,
Но будет мать молить у Бога,
Чтоб нёс с терпением её ты …
Подчеркнув кое-что карандашом, Николай Васильевич со слезами в голосе сказал: “Да, скорби будет очень много”; затем, посмотрев на меня долгим, испытующим взглядом, в глазах его стояли слёзы, он тихо промолвил: “Читай больше, друг мой”. Николай Васильевич подарил мне томик своих сочинений89*, в котором две повести: “Портрет” и “Невский проспект”, и, взявши со стола ермолку, шитую серебряными нитями по голубой шёлковой материи, подал её мне со словами: “Возьми это на память обо мне” и тихо, тихо сказал “прощай” и повернулся к стене лицом; я заметил, что Гоголь плакал. Я вышел от него тоже с глазами, полными слёз … На четвёртый день я услыхал, что Гоголь умер … Ермолку эту я храню, как святыню, а книга, подаренная им, погибла во время пожара.
На следующий затем день, во время обычного визита, Овер рассказывал при мне больной моей, как они с Клименковым измучились с этим больным Гоголем90**:
– О! это сумасшедший какой-то! И этого человека считают многие талантом, а сочинения его превозносят чуть не до небес, в особенности эти его “Умирающие души”, – со смехом в голосе сказал Овер.
– “Мёртвые души” написал Гоголь, – с затаённой злобой в душе осмелился возразить я Оверу.
– Но это всё равно, “умирающий или мёртвый душ”, – с иронией сказал эскулап.
Считаю не лишним передать здесь виденный мною факт, которого я был невольным свидетелем. После одного визита к моей больной Овер, проходя со мной по анфиладе комнат, делал мне некоторые наставления относительно больной, и когда мы дошли до передней, доктор, развернув зажатый в правой руке гонорар, вдруг остановился с нахмуренным челом и приказал лакею подать ему стакан воды; лакей подал на подносе требуемое. Овер взял стакан и, сделавши два глотка, бросил на поднос бумажку с заметным неудовольствием, сказав ему: “Это тебе за холодный вода”. Лакей подал ему дорогой енот, доктор вышел на крыльцо в сопровождении, сел на пару сытых рысаков, запряжённых в дышло, лакей застегнул богатую медвежью полость саней, и лошади быстро умчали его от подъезда … Я передал, конечно, виденное мною в лакейской больной, причём выяснилось, что она ошибкой дала доктору вместо пятидесяти рублей за визит только десять рублей. Больная страшно перепугалась, боясь, как бы врачи не прекратили своих визитов к ней, и в тот же день я ехал к Оверу с пакетом, в котором вёз ему пятьдесят рублей. Визиты врачей продолжались, как я сказал выше, до конца августа. Мы выехали из Москвы с еле дышащей больной и с пустым кошельком, оставив в Москве только в аптеке и врачам пятнадцать тысяч рублей, – недаром говорят, что Москва деньгу любит.”9182
Пять веков назад Эразм Роттердамский заметил: “между самими науками превыше всего ценятся те, которые ближе всего стоят к здравому смыслу, иначе говоря, к Глупости. Голодают богословы, мёрзнут физики, терпят посмеяние астрологи, живут в пренебрежении диалектики. Только муж врачеватель многим другим предпочтён. Но и среди врачей – кто невежественнее, нахальнее, безрассуднее остальных, тому и цена выше даже у венчанных государей. Да и сама медицина, в том виде, в каком многие ею теперь занимаются, не что иное, как искусство морочить людей, – нисколько не хуже риторики.”9283
Ночью с 20 на 21 февраля Гоголь впал в агонию. Елизавета Фоминична Вагнер, тёща Погодина, на руках которой умирал писатель, свидетельствует: “по-видимому, он не страдал, ночь всю был тих, только дышал тяжело; к утру дыхание сделалось реже и реже, и он как будто уснул…”9384 Последние слова Гоголя, сказанные в ясном сознании были: “Как сладко умирать!”9485 В одиннадцатом часу ночи Гоголь стал забываться, по временам что-то шептал, затем ясно, громко произнёс: “Лестницу поскорее, давай лестницу!” Это самые последние слова, сказанные в агонии. Согласно исследованию А.Рождествина: “Подобные же слова о лестнице сказал перед смертью святой Тихон Задонский. В статье “Светлое Воскресенье” Гоголь тоже говорил о лестнице: “Бог весть, может быть, за одно желание любви воскрешающей уже готова сброситься с небес нам лестница, и протянуться рука, помогающая взлететь по ней.”9586 Спокойно, просветлённо, примирённо со своей совестью отлетела душа от тела мученика за честное служение на поприще слова, на ниве просвещения народа. Джон Донн начал знаменитое “Расставание, возбраняющее печаль” аналогичным образом:
Как шепчет праведник: “Пора!” –
Своей душе, прощаясь тихо,
Пока царит вокруг одра
Печальная неразбериха,
Вот так безропотно сейчас
Простимся в тишине – пора нам!
Кощунством было б напоказ
Святыню выставлять профанам…96*
Жизненный путь самого сэра Донна, короля всемирной монархии ума, если не житие, то повесть о раскаявшемся грешнике, сменившем элегии, сонеты и сатиры на проповеди в лондонском соборе апостола Павла. И Гоголь знал, что искусство есть дорога к добру и красоте, подготовительные шаги к усвоению Евангелия. Искусство помогает жить и не соблазниться лукавством мира сего, в котором властвует зло, а добро гонимо и притесняемо. Неумолчно звучит через языковые барьеры, сквозь века, Слово о любви, что сильнее смерти. Ту духовную преемственность, думаю, англичанин Джон Донн звал “нитью золотой”, которая не рвётся, сколь не истончится.
Протоиерей Матфей Константиновский, словно предвидя будущую клевету в отношении себя психопатологов и литературоведов, сказал Фёдору Образцову: “Будут бранить меня, ох, сильно будут бранить. – За что же? Ваша жизнь такая безупречная! – Будут бранить, будут. – Не за Гоголя ли? – Да, и за Гоголя, и за всю жизнь мою. Но я не раскаиваюсь в жизни моей, не раскаиваюсь и за отношения мои к Николаю Васильевичу”. Автор воспоминаний, Ф.Образцов пишет: “Свидетельствую совестию, что это точные слова о.Матфея, сказанные им за три месяца до своей смерти и лично мною слышанные”.9787 Где факты, что якобы отец Матфей “ошибочно толковал болезнь Гоголя в ложном духовно-мистическом аспекте”9888? Кроме умо- зрительных интерпретаций у психиатра Д.Е.Мелехова, достоверных клинических фактов эндогенного «психоза» Гоголя нет. С примечанием коллеги Мелехова о пагубном лечении согласен: “при отказе от пищи и прогрессирующем истощении врачи применяли с лечебной целью пиявки, кровопускания, мушки, рвотные средства вместо укрепляющего лечения, искусственного питания”.
Цитирую В.В.Набокова: “…лечение, которому его подвергли – мощные слабительные и кровопускания, – ускорило смертельный исход: организм больного был и без того подорван малярией и недоеданием. Парочка чертовски энергичных врачей, которые прилежно лечили его, словно он был просто помешанным (несмотря на тревогу более умных, но менее деятельных коллег), пыталась добиться перелома в душевной болезни пациента, не заботясь о том, чтобы укрепить его ослабленный организм. Лет за пятнадцать до этого медики лечили Пушкина, раненного в живот, как ребёнка, страдающего запорами. В ту пору ещё верховодили посредственные немецкие и французские лекари, а замечательная школа великих русских медиков только зачиналась. Учёные мужи, толпящиеся вокруг “мнимого больного” со своей кухонной латынью и гигантскими клистирами, перестают смешить, когда Мольер вдруг выхаркивает предсмертную кровь на сцене. С ужасом читаешь, до чего нелепо и жестоко обходились лекари с жалким, бессильным телом Гоголя, хоть он молил только об одном: чтобы его оставили в покое. С полным непониманием симптомов болезни и явно предвосхищая методы Шарко, доктор Овер погружал больного в тёплую ванну, там ему поливали голову холодной водой, после чего укладывали его в постель, прилепив к носу полдюжины жирных пиявок. Больной стонал, плакал, беспомощно сопротивлялся, когда его иссохшее тело (можно было через живот прощупать позвоночник) тащили в глубокую деревянную бадью; он дрожал, лёжа в кровати, и просил, чтобы сняли пиявок, – они свисали у него с носа и попадали в рот. Снимите, уберите! – стонал он, судорожно силясь их смахнуть, так что за руки его пришлось держать здоровенному помощнику тучного Овера.”9989
Александр Овер лечил Гоголя от «менингита». Жаль, что свой менингит Овер не вылечил предварительно, как учит картина “Извлечение камня глупости” Иеронима Босха.
Глава 3. Симулякры о личности христианина
Смерть Гоголя родила множество слухов, сплетен, что он морил себя голодом. На том настаивал Н.Г.Чернышевский. Вот строки письма И.С.Тургенева к И.С.Аксакову: “Скажу вам без преувеличения, с тех пор как я себя помню, ничего не произвело на меня такого впечатления, как смерть Гоголя… Эта страшная смерть – историческое событие – понятна не сразу; это тайна, тяжёлая грозная тайна… Трагическая судьба России отражается на тех из русских, кои ближе других стоят к её недрам – ни одному человеку, самому сильному духу, не выдержать в себе борьбу целого народа – и Гоголь погиб! Мне, право, кажется, что он умер потому, что решился, захотел умереть, и что это самоубийство началось с истребления “Мёртвых душ”…”10090
С.Т.Аксаков и князь П.А.Вяземский, среди современников Гоголя, были наиболее деликатными и осторожными с выводами о личности другого «я», не такого как «ты». Строфы П.А.Вяземского взяты в эпиграфе, но повторю часть:
Духом схимник сокрушенный,
А пером Аристофан.
С ним и смеёмся над собой,
И над собой мы горько плачем.
…Жизнь твоя была загадкой,
Нам загадкой смерть твоя.
Израильский литературовед Михаил Вайскопф считает, что смерть Н.В.Гоголя “была типичным замаскированным самоубийством гностика, разрывающего плотские узы”.10191 Православный пост – не маскировка самоубийства. Как не маскируй, в самоубийстве – умысел убить себя. Приписывать Гоголю эту мысль ни Тургенев, ни Вайскопф не имеют научных оснований. То, что Гоголь правильно понял душеспасительный смысл поста, свидетельствуют его многочисленные выписки из творений отцов Церкви. О том говорят его собственноручные пометы на страницах Библии, принадлежавшей Николаю Васильевичу, хранящейся ныне в Рукописном отделе Пушкинского Дома. Это – научные факты в посмертной психиатрической экспертизе.
До сих пор нет полной биографии Н.В.Гоголя, хотя было много собрано материала для неё П.А.Кулишом10292 и В.И.Шенроком.10393 Книга «Гоголь в жизни» В.В.Вересаева, также, увы, не является полной, представляя собой монтаж и субъективный взгляд, как справедливо подчеркнул И.П.Золотусский в 1990 году предисловии к переизданию текста Вересаева: “И тут мы сталкиваемся с ущербностью монтажа, с неполнотой монтажа, который, имея свои преимущества, всё же уводит нас от полной истины, от всестороннего взгляда на вещи. Вересаев смотрит на «Выбранные места…» как на ошибку, его цель – подвести нас к признанию справедливости инвектив Белинского, который назвал факт публикации «Выбранных мест..» падением, а в идеях Гоголя усмотрел болезнь, гордыню и желание «небесным путём достичь земных целей» …”10494
Нельзя согласиться с идеей М.Вайскопфа, что отец Матфей был “православный манихей”, а Гоголь не мог “излечиться от того страха перед Богом, который пронизывал всё его существо с детских лет, а позднее приобрёл гностическое выражение в его произведениях”.10595 Никогда у Гоголя не было страха Всевышнего, он ещё в Нежине хорошо учил Закон Божий. Удивительно, потому, читать у Вайскопфа о «гностике», разрывающем плотские узы, с другой стороны, желавшем “уберечь себя от загробного холода, который он так давно предчувствовал”.10696
Гностики – мыслители первых веков после Р.Х.. Гностицизм есть сплав греческой философии, иудаизма, восточных религий (особенно, зороастризма, вавилонских мистериальных культов), как якобы истинное познание мира ( написано по-гречески).
Исходным пунктом гностицизма, отличающим его от православия, является дуализм духа и материи. Верховное существо гностик представлял началом света и добра, а материю самостоятельным независимым началом, не менее могущественным, чем Бог. В нюансах взгляда на свойства материального начала гностики расходились между собой (платоники, зороастрийцы, александрийцы, сирийцы). По учению гностиков жизнь – борьба духовного и материального начал, постоянная битва добра и зла. Якобы дух стремится освободиться от уз материи, материя пытается удержать и связать дух. Гностическая ересь входит внешне в соприкосновение с верой во Христа, извращая смысл веры дуализмом и антагонизмом. Лицеисту Гоголю это лучше моего рассказал в Нежине священник (Закон Божий).
Гоголю приписывали мысли о самоубийстве. На этот “симптом” Баженова и Мелехова есть контраргумент в дневнике Екатерины Александровны Хитрово. 27 января 1851 года она записала слова Гоголя в связи обсуждением Евангелия: “Претерпевый же до конца, той спасется” (Матфея 10, 22; 24, 13; Марка 13, 13) На фразу Е.А.Хитрово: “Замечательный стих, единственный, который против самоубийства.” – Гоголь возразил тут же: “Это такой нелепый грех, что невозможно было Христу о нём говорить. К чему?”10797
Психиатр Д.Е.Мелехов писал: “Состояние настолько тяжёлое, что повеситься или утопиться кажется ему единственным выходом. “Молитесь, друг мой, да не оставит меня Бог в минуты невыносимой скорби и уныния.”10898 Здесь речь о письме Гоголя к П.А.Плетнёву от 20 февраля 1846 года, где сказано: “…весь минувший год так был тяжёл, что я дивлюсь теперь, как вынес его. Болезненные состояния до такой степени (в конце прошлого года и даже в начале нынешнего) были невыносимы, что повеситься или утопиться казалось как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение. А между тем Бог был так милостив ко мне в это время, как никогда дотоле. Как ни страдало моё тело, как ни тяжка была моя болезнь телесная, душа моя была здорова;” (XIII, с. 38). Обрывочная цитата Мелехова, помещённая обратно в ткань текстового окружения, зазвучит, наоборот, оптимистично. Сонет № 66 Шекспира звучал бы суицидно без двух последних строк, но две строки о любви (к реальной даме) меняют смысл сонета на жизнеутверждающий гимн Любви, дар Бога за несение своего креста по via dolorosa земной юдоли. Человек “потрясавший копьём” был счастлив, любил. Шекспироведы до сих пор не установили личность англичанина, но, зато, понятно ли ложное толкование психиатра Д.Е.Мелехова? Цитату нужно понять в контексте, а не произвольно интерпретируя выхваченную часть высказывания, кусок предложения. Игнорировать и запятую (знак препинания), – ошибка герменевтики
