Я разные годы сближаю… бесплатное чтение
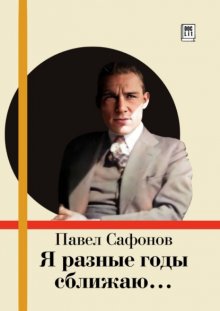
Составитель Наталья Павловна Коноплева
Дизайнер обложки Бондаренко Андрей Александрович
Корректоры Березницкая Валентина Филипповна, Литвинова Валентина Викторовна
© Павел Сафонов, 2025
© Наталья Павловна Коноплева, составитель, 2025
© Бондаренко Андрей Александрович, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0068-0219-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Профессия – первопроходец
Я – Наталья Сафонова, дочь автора этой книги, написанной в начале 1980-х годов.
Мой папа! Мой герой, смелый, умный, красивый! Прошедший много тяжёлых испытаний и вынесший из них только веру в людей, честность, порядочность. Настоящий Сталкер, приходящий туда, где до него никто не был, делающий дело, за которое до него никто не брался. Я много позже узнала, как опасны были порой условия его работы: голод, холод, цинга вдалеке от Большой земли; доброволец в московском ополчении с первых дней Отечественной войны; начинающий дипломат, изучающий китайский язык в послереволюционном Китае; Генеральный консул, верхом на верблюде доставляющий дипломатическую почту на пограничную заставу; мчащийся в «Газике» по бездорожью Синьцзяна в сопровождении банды басмачей… Первый советский человек на всём Австралийском материке, выходящий из самолёта один-одинёшенек под чужими звёздами Южного полушария, где никто не встречает, нет ни кола, ни двора…
В детстве он говорил мне, что я доживу до двухтысячного года. Этот разговор в тесной комнатке коммунальной квартиры навсегда запомнился. 1949 год, мне семь лет.
– Ты обязательно доживёшь!
О себе он так не думал, не надеялся дожить. В том коротком разговоре он передал мне эстафету!
Запомнился и его рассказ о «бомбе времени», стальном запаянном цилиндре с письмом в будущее. В 1933 году строители заложили в фундамент цеха завода в Комсомольске-на-Амуре послание будущим поколениям – о комсомоле, о построенном ими городе и заводе. Среди подписей строителей была и папина. Он рассказывает мне об этом вечером, придя с работы. Папа смотрит мне в лицо и улыбается. Он хочет, чтобы я запомнила. Прошла жизнь, и я помню.
Я дожила до XXI века. И теперь я – хранительница папиного мира, его мыслей, дел и воспоминаний, собранных в этой книге. Первое издание 1982 года имело успех и разошлось большим тиражом. Издательство попросило папу расширить книгу. Он с радостью взялся за работу и сдал рукопись в 1984 году. Хотел, чтобы книга была в твёрдом переплёте. Но книга вышла лишь после его смерти, – урезанной, в мягкой обложке… Многое вырезала цензура «из соображений времени».
Счастье, что сохранилась папка с машинописными листами под копирку. Я оцифровала всю рукопись, чтобы наконец издать книгу полностью. Эта работа для меня особенно волнующа – в ней часть и моей жизни. Я участвовала в некоторых событиях книги. Я добавила сюда эпизоды, подробности о которых узнала позже благодаря интернету, и ещё те, которые папа не мог включить тогда: о репрессиях, ошибках власти, о том, что скрывалось за «подпиской о неразглашении».
Будет ли эта книга интересна сегодня, через сорок лет и больше – людям, живущим совсем другой жизнью и другими интересами? Уверена – да. Эта книга о вечных ценностях, она – урок смелости, веры и достоинства, она о том, как оставаться человеком вопреки обстоятельствам.
Жизнь моего отца – путь первопроходца. Токарь, рабочий лесоповала, строитель, инженер, начальник цеха завода, который сам строил, офицер Красной армии во время войны… Эта школа пригодилась, когда судьба сделала его дипломатом. Он представлял свою страну в новых, подчас неизведанных условиях.
Он приезжал первым в Австралию, Канаду – после многолетнего разрыва дипломатических или консульских отношений. Один, как перст, Первопроходец, открывающий новое государственное представительство. Месяцами он совмещал роли генконсула, чрезвычайного посланника, завхоза, шофера, бухгалтера, столяра, слесаря… И даже когда прибывали его сотрудники, он по привычке продолжал нести множество обязанностей.
Описывая в книге жизнь бедных на Западе с сочувствием, он словно забывал, что его семья в СССР ютилась в коммуналке без удобств. Рассказывая о гонениях на инакомыслящих «там», он не упоминал о своих репрессированных соратниках, да и сам он чудом избежал репрессий…
Поразительно, как много сделали для страны люди того поколения, мало что получая взамен. Теперь понимаешь, на чём держалась та система: на энтузиазме, порядочности и честном труде таких людей, как папа и его современники.
Сегодня, в 2025 году, я одним нажатием кнопки публикую книгу, о которой мечтал папа.
В папиной книге не было эпиграфа. Пусть книгу откроют стихи папиного современника, писателя и поэта Ильи Эренбурга – яркие, торопливые, без рифмы, каким было многое тогда. Они – как раз о том времени и той среде, где жил, работал, страдал и радовался мой замечательный папа. И они обращены к людям будущего, то есть к вам.
Наталья Сафонова (Коноплева), составитель.
- …В те годы не было садов с золотыми плодами,
- Но только мгновенный цвет, один обречённый май!
- В те годы не было «до свиданья»,
- Но только звонкое, короткое «прощай».
- Читайте о нас – дивитесь!
- Вы не́ жили с нами – грустите!
- Гости земли, мы пришли на один только вечер.
- Мы любили, крушили, мы жили в наш смертный час,
- Но над нами стояли звёзды вечные,
- И под ними зачали мы вас.
Если бы свершилось чудо
Если бы свершилось чудо, и можно было повторить свою молодость, я начал бы с того же – снова стал бы строить Комсомольск!
Большинство из нас, первостроителей города Комсомольска, испытавших великую радость созидательного труда, считали само собой разумеющимся навсегда стать жителями этого города, выстраданного в трудностях первых лет его строительства и выпестованного в горячих мечтах наших. Но грянувшая война по-своему перекроила судьбы многих из нас. После войны в моей жизни произошёл крутой и неожиданный поворот – меня направили на дипломатическую работу, которая и стала основным делом всей моей дальнейшей жизни.
Более 15 лет провёл я за рубежом. Мне довелось побывать во многих странах, познакомиться с разными укладами жизни, увидеть много интересного и поучительного. На фоне калейдоскопических зарубежных впечатлений в моём сознании никогда не тускнел свет Комсомольска. Наоборот, этот свет становился всё ярче, всё отчётливее вырисовывалось величие и значение наших идей и наших дел. Именно на фоне моих зарубежных наблюдений, явлений и образа жизни иного мира глубже осознавалась и правильнее оценивалась наша действительность, которая зачастую кажется нам обыденной, потому что стала привычной.
Я взялся за перо, чтобы попытаться рассказать о юности моих сверстников – первостроителей Комсомольска, в которых я пожизненно числю и себя, а годы, отданные этому городу, считаю самой лучшей, яркой, созидательной и драгоценной порой жизни.
Быть счастливым на этой прекрасной земле юности, счастливым дружбой, работой, семьёй, как были счастливы здесь всем этим мы в то далёкое и близкое время, – вот моё пожелание молодым землякам-комсомольчанам и всем читателям этой книги.
Автор
1982 г.
Часть 1. Истоки судьбы
Всё начинается с детства
Жизнь моя с самого детства сложилась так, словно она специально готовила меня к трудным и интересным делам, формируя те качества характера, которые мне позднее очень пригодились в жизни, особенно в годы работы в Комсомольске. Если не рассказать об этом хотя бы кратко, то могут показаться непонятными и случайными те увлечения и трудовые успехи, которые сопутствовали мне в Комсомольске.
В раннем моём детстве (а родился я в 1913 году) семья наша жила на Кубани. Жили мы без особой нужды, отец был хорошим механиком по сельхозмашинам и зарабатывал достаточно.
Но отец и мать умерли почти один за другим от тифа во время свирепствовавшей здесь эпидемии. Мне тогда едва сравнялось шесть лет. Я, два моих брата и сестра остались на попечении родственников. Сестре, старшей из нас, было в то время двенадцать лет. Поэтому ещё до того, как поступить в начальную школу, в которой мне пришлось учиться буквально урывками, я фактически уже тогда начал свой трудовой путь. Пас скот. Выезжал со своим дядей, тоже механиком по сельхозмашинам, на сельхозработы. Работать так приходилось до глубокой осени, и только к зиме появлялась возможности идти в школу.
Сколько себя помню, я всегда был влюблён в технику – возможно, унаследовал это от отца. Когда мне было лет семь-восемь, я изобрёл и построил машинку для чистки сочных стеблей сурепки, которые мы в детстве в обилии поедали как лакомство. Помню, мои братья и другие старшие мальчишки потешались надо мной – эту сурепку лучше и быстрее чистили они руками, чем с придуманной мной машинкой. Но глотая горькую недочищенную сурепку, я всё же был горд тем, что применил своё изобретение. Затем была модель ветроавтомобиля, колёса которого приводились в движение от установленного на нём маленького лопастного ветрячка. По мысли изобретателя, это сооружение должно было двигаться в любом направлении, но оно почему-то никак не хотело двигаться против ветра.
Когда я пас скот, в моей голове буквально роились разные технические фантазии. То я обдумывал постройку машины для укладки соломы в высокие скирды, то – проект картофелекопательной машины, то конструкцию «завертальной» машины – нечто вроде самоката для пастухов, снабжённого механически действующим кнутом для того, чтобы заворачивать скотину, выходящую за пределы отведённого пастбища.
Я до сих пор сохранил в своей памяти почти в деталях долго вынашивавшийся мною в то время (а было мне девять-десять лет) грандиозный проект… целого хлебозавода, полностью автоматизированного. По идее в начале конвейера в бункер засыпалась мука и вливалась вода, затем после автоматического выполнения целого ряда операций, как они мне представлялись тогда, в конце конвейера выходили готовые свежеиспечённые караваи. Я вынашивал в голове этот проект долгое время и даже подробно нарисовал его, как мог, на бумаге.
Вспоминая об этом своём детском проекте, я часто поражаюсь удивительной человеческой интуиции, помогающей вкладывать в наши фантазии реальный смысл. Ведь в ту пору, вероятно, ещё нигде не было таких заводов, во всяком случае, я о них ничего не знал и не слышал. Но поразительно, что в те далёкие годы в моём детском уме зародились идеи, которые, как я убедился много позже, побывав на современном хлебозаводе, ныне почти полностью нашли практическое воплощение.
Забегая вперёд, хочу сказать, что эту влюблённость в технику я сохранил и поныне, хотя уже давным-давно сменил профессию, о чём всякий раз, когда вспоминаю о прошлом, думаю с какой-то безотчётной грустью. Я и теперь с интересом слежу за всякими техническими новинками, кое-что изобретаю сам и внедряю в быту у себя и своих знакомых. Находясь за рубежом, уже на дипломатической работе, я не упускал случая побывать на передовых заводах, приглядеться, а потом способствовать внедрению некоторых новшеств у нас в производстве, хотя это и не входило в мои служебные обязанности. Я люблю технику, и больше всего утилитарную, которая приносит практическую пользу людям. Это своё увлечение я не отношу к разряду «хобби». Кто-то однажды сказал: «Хобби» – это занятие бездельников». Не согласен со столь резким определением, но всё же скажу, что истинное наслаждение может доставить только такое увлечение, отдаваясь которому, человек приносит пользу другим людям.
В детстве же, я думаю, моё увлечение техникой не погасло потому, что его вольно или невольно поощряли и обогащали люди, с которыми довелось встретиться.
С большой теплотой я вспоминаю Григория Пантелеевича Марченко, машиниста по сельскохозяйственным молотилкам, к которому дядя определил меня в ученики и который первый заметил во мне тягу к мастерству и вкус к металлу. Он был большим техническим авторитетом во всей округе, и его наперебой приглашали для ремонта и эксплуатации молотилок, приводившихся в действие паровыми двигателями, отапливаемых соломой. По тому времени это был сложный машинный комплекс, и я с благоговением и завистью смотрел на Пантелеича (так все звали нашего машиниста) и его помощника кочегара Костю Бутко, весёлого парня во всегдашней засаленной кожаной кепке, когда они ловко колдовали около работающей молотилки. Пантелеич допустил меня к машине. Конечно, лишь смазчиком, которому точно указаны дырки, куда нужно подливать масло, когда молотилка останавливалась на перерыв.
Павка. Это его самый первый в жизни фотопортрет, сделанный бродячим фотографом на кубанском хуторе.
Но я гордился и этой работой и, чтобы никто не сомневался в моей принадлежности к мастеровым, всегда старался быть страшно измазанным – с моей одежды буквально капало масло, и Костя Бутко по этому поводу шутил: «Если у нас кончится смазка, мы сможем хорошенько выжать Павлушкины штаны, и этого масла нам хватит на несколько дней».
Пантелеич был для меня своего рода техническим богом, Я с благоговением наблюдал за ним, когда он, положив руку на мотылявший кривошип работающего паровика и как бы проверяя его пульс, глубокомысленно выпячивал губы и кивал головой в такт взмахов кривошипа или, приложив ухо к стенке гудевшей молотилки, долго к чему-то прислушивался. Мне тогда казалось, что Пантелеич, как волшебник, ясно видит и слышит всё, что совершается во чреве урчащей молотилки.
Впрочем, и в округе Пантелеича считали магом и волшебником от техники, а он всячески поощрял такое мнение о себе. И выражался поэтому иногда как-то по-своему, глубокомысленно и немного вычурно. Например, он, чеканя слог, произносил: «алектричество», или вместо «подшипник» говорил «подчёпник», а слово «пыль» произносил через «и». Общая грамотность его была, видимо, на уровне церковно-приходской школы, но, несомненно, он был опытнейшим человеком в области сельскохозяйственной техники того времени. А самое главное – был очень добрым и отзывчивым человеком, о машине рассказывал охотно и просто, без «вычурности», и я его искренне любил.
Страна на подъёме
Шёл тысяча девятьсот тридцать второй год. То было трудное, суровое время. В нашей стране широко развёртывалось индустриальное строительство. Главные трудности первой пятилетки остались позади. Уже вступали в решающую фазу строительства первые гиганты индустрии – Днепрогэс, Сталинградский тракторный, Магнитка, Нижегородский (ныне Горьковский) автомобильный завод и другие. А это в свою очередь усиливало всеобщий энтузиазм, особенно среди молодёжи, комсомольцев, которые стремились на самые трудные участки нашего строительства. Они были движимы не только высоким осознанием необходимости, но и романтическим пафосом, героикой строек, особенно в отдалённых и, казалось, экзотических местах.
В тот период стали много говорить о необходимости промышленного освоения нашей самой далёкой окраины – Дальнего Востока, а распространившаяся в начале 1932 году весть о предстоящей мобилизации комсомольцев на стройки этого края вызвала среди рабочих ребят много разговоров. Манили неизведанные дали, суровость и легендарность этого края…
Мне шёл 19-й год, я работал в Ленинграде на Василеостровском электроремонтном заводе токарем, а по вечерам учился на рабфаке. И то, и другое очень увлекало. Работа у меня была интересная, я бы сказал – творческая. Техника того времени требовала от рабочего-станочника профессиональных навыков, сноровки и смекалки. У меня через небольшой срок был уже пятый разряд, а от токаря такой высокой квалификации требовалось быть универсалом. На довольно громоздком и очень старом токарном станке приходилось выполнять такой обширный круг операций, что часто надо было самому не только изобретать, но и изготавливать всевозможные приспособления и инструменты, от самых примитивных до сложных комбинированных.
И какое же удовлетворение, бывало, я испытывал, когда удавалось справиться с очередным головоломным заданием! Помню, незадолго до моего отъезда на Дальний Восток в цех поступил срочный заказ – сделать многочисленные смежные сквозные отверстия длиной около 400 мм и диаметром 20 мм по ребру металлических плах, толщина которых превышала всего на 6—8 мм диаметр требуемых отверстий. Нужно было точно выдержать параллельность отверстий. Но соответствующих прецизионных сверлильных станков в цехе не было, и пришлось опять изобретать и приспосабливать для этого свой станок. Был изготовлен и установлен на планшайбу моего станка огромный угольник, к нему прикреплялись и с большой точностью центрировались обрабатываемые плахи. В заднюю бабку было установлено сверло с длинным наварным хвостовиком, а по медной трубке, уложенной в спираль сверла, к его режущей части подавалась мыльная эмульсия для охлаждения и смазки. Таким образом все плахи были обработаны в срок и доброкачественно.
