Смыслы цвета бесплатное чтение
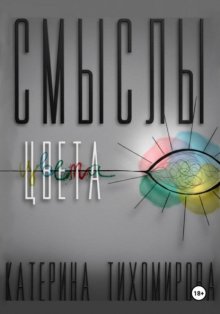
От автора
Эта книга выросла из моего постоянного столкновения с тем, как в повседневной жизни обращаются с цветом. В медиа, рекламе, социальных сетях мне раз за разом попадались советы о «правильном» использовании оттенков – для интерьера, для имиджа, для питания или даже зодиакального успеха. Повседневное информационное поле переполнено поверхностными толкованиями, выдаваемыми за знание.
Когда я писала первое издание, меня удивляло, насколько сильно культура «глянца» и псевдопсихология вытеснили научное понимание цвета. Но и сегодня, спустя годы, почти ничего не изменилось. Люди продолжают искать «свой» цвет, приписывают краскам мистические свойства и тем самым – часто неосознанно – примеряют на себя древние культурные коды или заимствуют значения из чужих традиций.
Подобные синкретичные интуитивные поиски говорят о том, что смыслы цвета продолжают создаваться. Человек не может обойтись без символики, и цвет остаётся одной из самых простых и вместе с тем глубинных форм высказывания. Цвет – часть языковой картины мира.
Сегодня перед нами открываются новые горизонты. В эпоху искусственного интеллекта цвета – часть алгоритмов, которые формируют наше восприятие действительности. Можно предположить, что вместе с этим появятся и новые культурные коды – такие же влиятельные, как когда-то сакральные палитры древности или цветовые символы религий и государств.
Эта книга – результат многолетнего изучения культурной палитры и её смыслов. Но я уверена: история цветовидения не завершена, она пишется прямо сейчас, и каждый из нас – её участник.
ВВЕДЕНИЕ
Мы редко задумываемся, что наша жизнь буквально погружена в цвет. Он повсюду: в одежде, которую мы выбираем утром, в еде на тарелке, в рекламных баннерах, в интерфейсе телефона, в картинах музеев. Кажется, что цвет – нечто само собой разумеющееся, как воздух или вода. Но стоит остановиться и задуматься – и он превращается в одну из самых загадочных составляющих культуры.
Что такое цвет? Физики скажут: это спектр электромагнитных волн. Художник заметит: это краска на палитре и способ передать настроение. Философ добавит: цвет – символ, знак, код, через который человек осмысляет мир. И все будут правы – но по-своему. В этом и состоит сложность: цвет одновременно принадлежит природе и культуре, он и физическое свойство, и человеческий смысл.
Интерес к цвету родился не вчера. Уже античные мыслители пытались объяснить, что скрывается за видимыми оттенками. Эмпедокл связывал цвет со стихиями, Демокрит – с мельчайшими частицами мира, Аристотель рассматривал его как свойство телесного, рождающееся на границе света и тьмы. Для Платона цвет был не просто физическим качеством, а знаком присутствия идейного, божественного. Средневековые богословы унаследовали этот взгляд и сделали палитру проводником высших смыслов: золото – сиянием рая, синий – знаком небес, белый – символом чистоты и духовной полноты.
С Новым временем на первый план вышла наука. Ньютон разложил солнечный луч на спектр и показал, что радуга скрывает строгую физику. Но даже после этого цвет не перестал быть философской загадкой. Именно в противовес Ньютону Гёте написал свою «Теорию цвета», где пытался доказать: одними формулами цвет не объяснить. Для него оттенки были связаны с человеческими переживаниями, с субъективным восприятием. Красный у Гёте становился символом страсти, синий – тоски и бесконечности, жёлтый – радости.
Эта линия была продолжена в немецкой классической философии. Гегель видел в цвете способ выражения идей: цвет – проявление духа через материальное. Для него живопись и палитра становились примером того, как бесконечное может находить выражение в конечном.
В XX веке к теме подключились физики. Эрвин Шрёдингер, один из создателей квантовой механики, посвятил отдельные исследования природе цвета и зрительного восприятия. Его выводы были парадоксальны: несмотря на все достижения физики, цвет остаётся прежде всего феноменом сознания. Мы не «видим» длину волны – мы переживаем её как красное, синее, зелёное. То есть цвет – не только результат физических процессов, но и способ работы ума.
Таким образом, от античности до современности философы и учёные вновь и вновь возвращались к одной и той же загадке: почему цвет так глубоко воздействует на человека? Почему чёрный ассоциируется со смертью, белый – с чистотой, красный – с кровью и страстью, зелёный – с надеждой и возрождением? Здесь физика уже не помогает: спектр один и тот же для всех, но значения – разные. Ответ кроется в культуре. Каждое общество создаёт свою палитру смыслов, где оттенки становятся знаками веры, власти, красоты, морали.
Цвета формируют культурные коды. Они разделяют «своих» и «чужих», выражают статус и принадлежность, маркируют сакральное и повседневное. В японской традиции белое лицо гейши означало принадлежность к миру красоты и эстетики. В Европе Средневековья пурпур был привилегией монархов. В исламской культуре зелёный связывался с религиозной чистотой и вечной жизнью. В России траурным цветом долго оставался не чёрный, а белый. Эти различия показывают: универсальные оттенки природы превращаются в неповторимые культурные палитры.
Современность только усложнила картину. Наука дала нам знания о физиологии зрения и нейронауках, но параллельно массовая культура наполнила пространство псевдознаниями: советы «выберите свой цвет по знаку зодиака» или «подберите гардероб для успеха». Смешение серьёзного и поверхностного лишь подтверждает: цвет продолжает оставаться предметом поиска. Мы всё ещё стремимся понять, почему он так сильно влияет на нас, и где граница между модой, суеверием и культурой.
Но важнее другое: цвет формирует нашу общую картину мира. Карта любой цивилизации всегда цветная – от наскальных рисунков и храмовых росписей до эмодзи в мессенджере. История культуры – история палитры, в которой человек описывает себя и реальность.
На цвет необходимо смотреть не как на набор оттенков, а как на систему смыслов. Далее мы проследим путь культурной палитры от архаики до XXI века, узнаем, как рождались универсальные значения (ночь и свет, кровь и трава), как возникали сакральные символы, как они превращались в социальные и политические знаки, как цвет становился инструментом искусства и моды. Мы увидим, что цветовидение – не только зеркало культуры, но и её двигатель.
Сегодня, когда визуальная среда задаётся соцсетями, брендами и алгоритмами, значение цвета становится особенно острым. Он направляет наше внимание, формирует эмоции, управляет выбором. И в этом новом контексте мы начинаем осознавать: цвет – это не украшение, а основа культурного опыта. Понять его смыслы – значит приблизиться к пониманию самой культуры.
ЧЕРНЫЙ: «НОЧЬ», «ЖЕНСКОЕ», «СМЕРТЬ»,
«ФИНАНСОВЫЙ УСПЕХ» И ДРУГИЕ ЗНАЧЕНИЯ
Количество основных воспринятых и освоенных культурой цветов на ранних этапах было различно. Древний Восток предполагал наличие пятиэлементного мира [50].113 У древних народов европейского региона фиксировалось три «основных» цвета – красный, жёлтый, синий; позже – красный, зелёный и синий; в ньютоновскую эпоху Нового времени стали «законными» семь цветов, в которые черный не входил. Почему? Потому что физика этого периода культуры нашла его не в свойствах света, а в свойствах тел. Теперь мы знаем, благодаря естественным наукам, что чернота есть свойство некоего тела поглощать любые излучения. Современная физика, изучая излучение, пришла к необходимости создать абстрактную модель подобного тела, назвав его «абсолютно черным». В природе абсолютно черное тело не существует. Те же объекты, которые мы воспринимаем как черные, на самом деле ими не являются. Например, астрофизики фиксируют излучения разного рода от находящихся в космосе черных дыр. То есть для физики черный не существует настолько, насколько он существует для культуры.
Черный никогда не занимал центральное место в культурной палитре. Однако особый набор значений в нормах культурного цветовидения он имел. Семантика данного цвета была окрашена в ос новном в негативные оттенки. Объясняется подобная характеристика черного природными и физиологическими причинами. Опасность темноты, ночи (как потеря жизненно важных огня и света, возможности видеть; беззащитность перед мраком), страх перед бездной (пещерой, ущельем, глубокой водой и пр.), отвращение к грязи, тлению (страх смерти) сформировали похожие эмоционально-окрашенные комплексы значений черного во множестве культур
Так, черный цвет стал олицетворением безликого или персонифици рованного зла, противопоставлением белому, свету – добру.
В более поздние времена – в эпоху древних цивилизаций – с появлением абстрактных понятий в рефлексии субъектом культуры мира, Другого и Я появились метафизические смыслы черного: он стал символизировать не только тайны и страхи темноты, но и мистику, сокрытость внутреннего мира – личности. Черный соотнесли с гордыней, завистью, злобой, подлостью, прелюбодеянием – сделали характеристикой человеческого. Надо ради справедливости отметить, что не все смыслы черного были одинаково негативными. Так, древние цивилизации Востока связали черный цвет с женским, увидев в нем и «магию» влекущего тела, и «цвет» земли как цвет дарящего жизнь начала.
Япония
«Восток» – культурный бренд, мировоззренческая традиция, тип духовности, специфическая картина мира, выразившая себя в особых феноменах, нормах, ценностях, традициях и артефактах.
Специфика Востока определена рядом характерных черт: особенностями восприятия бытия (видение действительности через сакральную призму), времени (цикличность), желанием реализоватьдуховные идеалы (согласно религиозной догматике), наличием характерного «обожествления» властных структур, общественными принципами (противоположные Западу коллективизм, традиционализм, солидарность и др.).
Данные черты свойственны Востоку как Единому, но имеют разные выражения во множестве культурных подтипов, включаемых в культурологическое понятие «Восток»: буддийско-синтоистский, конфуцианско-даосистский, индо-буддийский, арабо-мусульманский.
Японская культура не является исключением в ряду культур восточного типа по строгости соблюдения традиций, неизменности ценностных систем в ходе течения истории. Интересными для нашего исследования цветовидения выступают ценности социальных взаимоотношений, межполовой коммуникации («хоннэ» и «татэ- маэ»), самоограничения («хикаэ»), снисходительности к слабым («амаэ»), внимания к Другому («сэкэнтэй»), долга («гири») и красоты [152].
В ряду детерминант японской культуры и ее структур стоит отметить сложный достаточно длительный (I – XVI в. н. э.) период раздробленности, междоусобиц древнего японского государства (упомянутые в древнекитайских хрониках государства На и Яматай [52]). Только сёгуну Тоётоми Хидеёси удалось успешно объединить враждующие аристократические кланы [52]. Так, особенности японского цветовидения связаны с социально-этической направленностью системы ценностей – аутентичными принципами должного и стыдного; с политико-правовыми историческими обстоятельствами – периодом раздробленности и междоусобиц, формированием сёгуната и единого государства [152]; с сильным влиянием Китая и его культуры; с ценностями эстетики – принципами познания прекрасного; а также обусловлены природно-климатическими факторами.
Японцы всегда отличались личностно-интимным восприятием цвета. Внимание и любовь к цвету сочетались с чутким и чрезвычайно тонким отношением к природе. Потому краски в Японии получали названия не от материалов, из которых они сделаны, как это принято в Европе214, а от естественных носителей цвета. Поэтика природы звучит в именах цветов: «арахаиро» – «обратная сторона листьев и трав» – зеленовато-пепельный, глухой и мягкий цветовой тон; «угуисуиро» – «цвет крыльев японского соловья» – серовато- голубовато-зеленоватый; «акуиро» – «остывший пепел»; «сабииро» «ржавчина» и т. д. В процессе развития – в конце эпохи Мэйдзи – на смену природным красителям пришли синтетические красители. Названий цветов («iro») и их оттенков в современном японском язы ке множество. О них издаются справочники и энциклопедии, их учат различать в современной школе [142]. В ходе культур-истории в Японии закрепилось несколько цветовых канонов – религиозно-философский (связанный с синтоизмом, конфуцианством, буддизмом) и прагматично-повседневный (рожденный в текущих практиках субъекта).
Впервые цветоописание миров встречается в синтоистской картине мира. Структура мироздания виделась поделенной на зоны ответственности богами, духами стихий. Упоминания об этом нахо дятся в Кодзики – древнем сборнике японских мифов [66]. Высший мир (высокое небо) представлен как светлый, яркий. Ему соответ ствовали красный и белый цвета. Средний мир (тростниковые заросли) – природа, ветер, лес, горы; цвета – синий, зеленый. Низший мир (страна мертвых и духов) – в черном и желтом.
Влияние китайской культуры осуществилось позднее и выра зилось в «уточнении» мировоззренческих структур, в которые были введены китайские символы существующего – «инь» и «ян». В японской символике они имели те же, что и в Китае, цветовые обозначения: белое (светлое, мужское) и черное (темное, женское). В культуре Японии эти символы обозначали более глубокую идею гармонии мироздания через соединение двух начал: «саби» – сдержанный колорит внутренней красоты и «цуя» – яркость внешней красоты. Так, символическое значение цветов не отделялось от выразительного, что стало характерной чертой японского цветовидения.
Традиционные обозначения имен цвета были нормированы с введением в 603 г. принцем Сётоку «системы двенадцати рангов». Она основывалась на китайской натурфилософской традиции, со гласно которой универсум понимался как пятиэлементный. Симво лизм главных элементов и соответствующих им цветов отражался в структуре японского социокультурного пространства: на главные цвета имели право высшие слои общества. Запрещенные цвета – киндзики (禁色) разрешалось носить только знати. Например, цвет «отан» (жёлто-рыжий) был закреплён за кугэ, и использование этого цвета в одежде людей более низкого происхождения воспрещалось. Разрешённые цвета назывались юрусииро (許し色), их можно было носить всем японцам. Так, система Сётоку указывала каждому рангу цвет одежды.
Благодать (徳), человеколюбие (仁), вежливость (礼), вера (信), обязанность (義) и мудрость (智) – эти названия рангов были экстраполированы из этики конфуцианства. Цвета и ранги приводились в соответствие:
大徳Старшая благодать
小徳 Младшая благодать
大仁Старшее человеколюбие 小仁 Младшее человеколюбие 大礼Старшая вежливость
小礼 Младшая вежливость
大信Старшая вера
小信 Младшая вера
大義Старшая обязанность 小義 Младшая обязанность 大智Старшая мудрость
小智 Младшая мудрость
тёмно-фиолетвый светло-фиолетвый
тёмно-синий светло-синий тёмно-красный светло-красный тёмно-жёлтый светло-жёлтый тёмно-белый
светло-белый
тёмно-чёный светло-чёный
Черный цвет в японской культуре был обозначен как кэмпо, кэмпоиро (изначально ёсиока).
«Кэмпо» в адаптированном переводе на русский язык означает
«конституция» (или дословно 拳法 – «закон» и «кулак»). Этимоло гия названия основного оттенка черного не связана с «официально- стью» или «законностью». Вербальное обозначение цвета восходит к имени Ёсиока Кэмпо, мастера фехтования, который преподавал свое искусство в городе Киото (эпоха Муромати – конец XVI в.). По одной из версий мастер сам разработал немаркий колор для «спортивной формы» своих учеников, по другой – заказал поиск цвета красильщикам. В конце XVII в. «кэмпо» стал повседневным цветом одежды горожан [60].
Близкими к «кэмпо» оттенками черного в японской культуре были: «черный коршун», «цвет сырой стены», «тысячелетний зеле ный», «ржавая железная гардеробная» и «цвет грубой шерсти».
Эти «черные» имели общее значение – указывали на стабильность и постоянство. Потому их с удовольствием использовали в разнообразных практиках. Так, в ходе обрядов инициации – введении индивида во «взрослую» жизнь – юношам и девушкам чернили зубы. Этот акт обозначал верность молодого мужчины воина или чиновника господину. Для женщины черный маркировал подчиненность супругу. Кроме общей семантики, оттенки черного имели специфи ческие смыслы. Так, например, чёрный 黒 – «куро» – считался цветом радости и счастья. Потому в черном одеянии данного оттенка (с вышивкой других цветов) молодожёны вступали в брак. Много позже – в средневековой Японии – черный стал знаком печали и траура. Символика цвета использовалась японской культурой не только для визуализации структуры мироздания, ритуальных практик, регламентации дресс-кода сословий, но и в эстетической сфере – художественной культуре. Так, например, в традиционном театре кабуки цвет костюма связывался с характером персонажа, указывал на его социальное положение, пол и возраст. В живописи существовал канон, связывающий цвет и его культурное значение [152].
Китай
Китайская культурная традиция, как и японская, в основе своей имеет ритуализированную этику, однако обладает рядом отличий, связанных с природными факторами, территориальной спецификой: китайский восток – восток материковый. Так, природно- географические особенности плюс особенности развития политической, правовой, религиозной, эстетической сфер сформировали уникальные доминанты культуры Китая.
Древняя цивилизация Китая относится к ряду «речных» – зем ледельческих, сложившихся в долинах крупных водных артерий. Развитое сельское хозяйство поставило на приоритетные позиции китайскую государственность в сравнении с соседними кочевническими культурами. Уже в IX в. до н. э. древнекитайское государство Шань обладало профессиональным войском, календарем и письменностью [28]. Следующая эпоха – Чжоу, смешивая близкие регионально-этнические культуры, установила центральный принцип – общинность как основу жизнетворчества, связующее звено китайской системы ценностей. Именно в этот период возникли и получили распространение конфуцианство и даосизм. Буддизм придет в Китай в эпоху государства Хань – к I в. н. э. В Новейшее время эта культура вошла под руководством династии Цин, которую смели с трона волны восстаний и революций, докатившиеся из Европы в Китай.
Для того чтобы описать и понять значение китайского цвето видения, необходимо обратиться к понятию ритуала, которое сыграло большую роль в становлении культуры Китая в целом. Важно понимать, что неисчислимое множество обрядов, церемоний и риту- алов разной функциональности, бытовавших (и существующих ныне) в культурном контексте китайской истории, связано со значимостью ритуала как доминанты, как способа сохранения и трансляции культуры в социуме [117].
Религиозно-мифологическая система Древнего Китая имеет в своем содержании представления о структуре мироздания – картину мира – его деление на верхний, средний и нижний.
Нижний – мир черного, «подземное царство Юду» с черной горой в центре. В этом мире, согласно мифам, живут полумифические существа: черные птицы, черные змеи, черные барсы, черные тигры и черные лисицы с пушистыми хвостами и черные люди [88].
Вторым важным смыслом черного для китайского Востока выступила репрезентация им женского начала – таинственного и порождающего. В этом значении цвет нес надежду на возрождение жизни, пробуждение природы-матери после зимы. Черный как начало, а белый как конец равноправно использовались в многообразных церемониях (в том числе траурных).
Другими символическими ассоциациями, кроме мировоззрен ческих хтоники и маркировки смысла гендера, для черного стали природная стихия воды, зимы, северная сторона света. Так, текущий на север Амур получил соответствующее название – Хэйлунцзян,
«река черного дракона». Ассоциировалась с черным темнота ночного Великого неба, планета Меркурий, нота юй.
Поклонение силам природы, культ неба (абстрактно продол женный в даосизме) и культ предков оказали влияние на специфику символизма и характер атрибуции цвета. Китайская философия отмечала важность цвета в совершенствовании человека. Родоначальник даосизма Лао Цзы отмечал, что «пять цветов делают людей слепыми, а один – ведет к единству» [50]. Потому школа Дао выбрала чёрный цвет в качестве символа закона вселенской гармонии – Дао. До сих пор китайские ученые предпочитают носить черные одежды, вероятно, обращаясь к данной культурной традиции.
В повседневной культуре Древнего Китая сформировались строгие нормы дресс-кода, в соответствии с которыми определялся характер окраски ритуальных, парадных и обыденных костюмов. Черный (или темно-синий), согласно этим указаниям, носили чиновники [60].
Таким образом, сформировавшиеся в ходе культур-истории значения черного не имели моносемантического оттенка, не трактовались в положительном или отрицательном ключе.
Индия
Индийская культура относится к типу культур Востока по основным своим компонентам: ирригационному характеру хозяйствования, традиционализму, цикличности восприятия времени, общинности, эстетической и созерцательной специфике рефлексии в отношении к миру, Я и Другому. Культурные доминанты формировались под влиянием природно-климатических (влажный, жаркий климат, гористая местность), этнополитических (этническое многообразие, миграции, периоды междоусобиц, военные конфликты и экспансии) особенностей.
По времени возникновения Индию считают одной из древнейших культур в мире. У ее истоков стоит цивилизация Хараппы (3–1,5 тыс. до н. э.), основанная дравидами. Последующие периоды культур-истории Индии принято делить на ведический (по факту возникновения ведизма и брахманизма, их расцвета, влияния на сферы жизнедеятельности и итогового кризиса – 1,5–1 тыс. до н. э.),буддийский (возникновение буддизма, попытки создания единого государства Ашоки из династии Маурьев – 1 тыс. до н. э. – II в. н. э.), классический (стабилизация религиозной, правовой, экономической и социальной систем, «золотой век» династии Гуптов – II–V вв.), средневековый (начало захватнических войн и колониальных движений – V–XIX вв.), новейший (период движения к суверенитету и его обретение – XX–XXI вв.) [119].
Основы индийского цветовидения, как и у других древних во сточных культур, необходимо искать в мифорелигиозных традициях, так как именно они на первых этапах становления культуры отразили сущность рефлексии Я на мир, в рамках которой далее происходило продуцирование конкретных культурных продуктов (феноменов, явлений, артефактов в их секуляризованных для сферы повседневности форм), атрибуций смыслов.
Центральными понятиями для практически всех религиозных культов Индии выступали понятия: дхармы – долга, кармы – последствий поступков, сансары – веры в перевоплощение душ и мокши – веры в освобождение от перерождений. Эти категории имеют общие корни в ведизме и брахманизме, специфические выражения в буддизме и индуизме, также они отчасти представлены и в многообразных индийских анимистических религиозных представлениях как Северной, так и Южной Индии [117].
Первым источником, в котором упоминается цвет, являются упанишады.315 В них черный толкуется как «инобытие» белого – яркого, ослепляющего цвета, который не может быть воспринят человеком. Черное и белое считались тождественными и являлись символом саморазвития как работы над собой, прихода к сакральному знанию, преданности божественному.
В мифорелигиозной системе Индии черный служил репрезен тацией богини Кали (Парвати, Шакти, один из аспектов Шивы [87]) – абсолютной тьмы, матери, яростно разрушающей невежество. Так, черному в Индии приписывалась положительная интенция – отпугивать зло и незнание: детям ставили черную отметку на лбу, щеке или где-то в незаметном месте.
Другим комплексом значений для черного был «тамас» – состояние сдавленности и угнетенности. Суеверные люди до сих пор не надевают одежду черных цветов на детей, свадьбы, дни рождения или во время беременности.
В ходе генезиса индуизма черный был наделен негативными коннотациями – стал символизировать грязь и невежество, потому шудры, представители самой низшей, всеми презираемой варны, были обязаны носить только черные одежды [60].
Черный в Древнем Египте и арабо-мусульманской культуре
Древняя египетская цивилизация просуществовала c IV тыся челетия до н. э. по, примерно, V в. н. э. (включая додинастический, династический, эллинистический, римский и византийский периоды развития), вплоть до эпохи арабской экспансии (VII в.).
Культура Египта формировалась на типичных для всех древних цивилизаций основаниях: рабовладении, деспотизме, бюрократизации государственного аппарата, традиционализме, патриархальности, строгой сословной дифференциации и т. п. Уклад жизни базировался на сложной системе религиозных представлений, ищущей ответы на мировоззренческие вопросы о вере в загробную жизнь. Мифологическая рефлексия Египта имела более сложный характер, чем рефлексия бесписьменных культур: сюжеты уже затрагивали абстрактные понятия (Маат -справедливость, истина; Амон – творение, скрытое; Бастет – красота, любовь, радость; Исида – судьба; Ниау – ничто; Сиа – мудрость [118, 82]). «Загробный» характер мифологической рефлексии определил содержание и специфику становления предфилософского и преднаучного знания, повлиял на искусство, правовые, этические нормы, повседневное бытие и, конечно, обусловил коннотации цветов.
Египтяне представляли цвет как некую особую субстанцию. Каждый цвет играл свою роль, но нередко символика пересекалась, сливаясь в единую гармонию. Религиозные представления египтян – вера в бессмертие, возможное в подземном мире – обусловили положительное отношение к черному цвету. Примером служит пантеон божеств и их цветовые атрибуции. Так, Анубис – бог с телом человека и головой черного шакала, «полезный» для будущей жизни египтян покровитель некрополей, один из судей загробного мира, хранитель лекарств и ядов. Еще одним «хорошим» черным божеством считался Апис – бык, находящийся в близком отношении с не менее важными Нилом и Мином – богом плодородия. Апис обеспечивал плодородие – полноводность великой реки Нил. Жрецы считали, что в плоть реального быка снисходит дух Аписа. За избранным животным тщательно ухаживали, воздавали почести, затем умертвляли во время жертвенного обряда, а дух заново «переселялся». Образ Аписа полон земледельческого символизма, связанного с полноводием Нила, круговоротом времен года, с возможностью посмертия.
Третьим божеством черного являлся Осирис – бог подземного мира, часто изображаемый с темной кожей. Его сестра и жена Исида также ассоциировалась с этим цветом.
Египтяне связывали черный с цветом таинства мистерий, ночью, тьмой, ночным небом и морем, с цветом волос, угля и богатой, щедрой почвы. Так, скарабеев, творящих совершенные шары и жизнь, «произошедших» из плодородной кеми (земли как материи), иногда рисовали черным. В повседневных культурных практиках Древнего Египта тоже благоволили к этому цвету – распространившаяся мода на макияж подтолкнула и женщин, и мужчин подводить глаза черной краской.
В культуре Египта основные цвета связывались с определенными предметами, что нашло отражение в канонах искусства и законах иероглифики (одними и теми же цветами предписывалось рисовать фигуры, аксессуары, атрибутику, писать конкретные слова). В целом египетская палитра на протяжении многих веков состояла из шести основных оттенков. Такое небольшое разнообразие было обусловлено естественным происхождением красителей. Их получали из цветных металлов и камней. Изготавливался краситель из угля, жженой кости, свинца. Постепенно палитра оттенков черного расширилась благодаря разбелке, что делало цвет боле легким и прозрачным и позволяло играть с символикой.
Рассматривать историю цветовидения, генезис представлений о цвете в арабо-мусульманской культуре без обращения к древним языческим корням невозможно. То, что сегодня определяется исследователями как принадлежащее к типу культуры Востока, по наличию особых черт (коллективизма, сакрализации власти, харизматичности восприятия действительности и пр.), включает в себя крупный пласт языческих и мусульманских культур, зародившихся на юго-западе Азии, севере Африки и Аравийском полуострове. В ходе обращения к этой части культур Востока необходимо помнить, что хронологические рамки, принятые по отношению к этим общностям, весьма условны.
Главным фактором становления культурной системы арабского Востока были природно-климатические особенности: пустыня, скудность водных и пищевых ресурсов. Выживание в таких суровых условиях обусловлено сплоченностью коллектива – племенной общины. Члены общины были связаны друг с другом кровным родством и традициями предков. Наличие коллективных прав предполагало коллективную ответственность, которую разделяли все субъекты. Кроме общинности, ценностями культуры были: подчинение старшим, помощь слабым, щедрость, мужественность и настойчивость. К VI в. с приходом ислама культурные доминанты языческого периода сохранились и составили основу арабо-мусульманского культурного типа, которому в ходе исторического развития пришлось выступить против экспансии Запада [42].
Средневековая арабская история – время появления раннегосударственных образований (Минейского, Сабейского государств, Кида, Гассанидов и др.), период объединения Аравии в Халифат, становления монотеизма, вторжения монголов, турок, европейцев, распада Халифата на шиитские и суннитские государства [17].
Эпоха Средних веков для арабской культуры стала временем появления культа знания (расцвет философии, наук и генезис системы образования), формирования ценностей эстетической и направлений художественной культуры (живопись, скульптура, архитектура, музыка, литература, театр и др.). Здесь прослеживается генезис арабского цветовидения и его особенности.
За каждым цветом из четырёх «главных» арабских цветов – белым, черным, зеленым, красным – закрепились династийные илиэпохальные значения. Для тюрков арабского происхождения черный стал означать величие, силу и могущество власти. Также халифы династии Аббасидов предпочитали одежду черного цвета. Знамя их также было черным. Амир Хосров Дехлеви пишет [9]:
Цвет славных Аббасидов – черный цвет. Принадлежит он первой из планет,
И мрак ночей всегда бывает черным, Нисходит он покоем животворным. И родинка красавицы черна,
Как смоль, ее густых волос волна.
Цвета использовали монохромно согласно священным предписаниям хадисов. Монохромность – отличительная черта именно раннего ислама, она являла собой символ скромности, умеренности и минимализма, духовного роста и очищения416, сумев в полной мере отразить единство и универсальность ислама. Знамена и флаги времен Мухаммеда не имели никаких надписей и изображений, а состояли из полотен одного цвета.
Чёрный цвет – один из важнейших в культуре ислама, был любимым цветом аскета Мухаммеда. В день завоевания Мекки, по свидетельствам, на пророке была одежда черного цвета. Потому му сульманские священнослужители и сегодня предпочитают этот цвет. Черными являются большинство мусульманских святынь: священный камень Каабы, напоминающий человеку о вечности загробной жизни, и покрывало на Каабе. Черными чернилами написан Коран. Так, в исламе Тьма не противоположна Свету, а находится с ним в причинной связи. Темнота – это одеяние ночи, тень – создание солнца. Аль-Фараби писал: «В каждом цвете скрывается отсутствие другого цвета, но присутствие белого цвета – не от отсутствия черного». Потому белое и черное – часть единого плана Аллаха [99, 129].
Эстетика арабского прочтения черного представлена в худо жественно-литературных текстах, например, в «Тысяче и одной но
чи» темнокожая невольница восхваляет себя следующими словами:
«Разве не знаешь ты, что приведено в Коране…слово Аллаха вели кого: Клянусь ночью, когда она покрывает, и днем, когда он забли стает! И если бы ночь не была достойнее, Аллах не поклялся бы ею и не поставил ее впереди дня, – с этим согласны проницательные и прозорливые. Разве не знаешь ты, что чернота – украшение юности, а когда нисходит седина, уходят наслаждения и приближается время смерти? И если бы не была чернота достойнее всего, не поместил бы ее Аллах в глубину сердца и ока. А в числе достоинств черноты то, что из нее получают чернила, которыми пишут слова Аллаха… И к тому же, разве хорошо встречаться влюбленным иначе, как ночью?…».517Отсюда вышла еще одна любопытная коннотация черного: «чернота глаз» означает возлюбленную, а «чернота сердца» – любовь.В повседневных практиках арабской культуры черный не имеет негативных значений. Этот цвет маркирует гендерные различия: женщины в качестве символа мужской тени носят черное [60]
Соответственно, белый – мужская символика, связанная со светом и богатством.
Иногда черный цвет связан с недобрыми делами и мщением. Потому одетые в черное арабские мужчины и женщины репрезенти руют в цвете одежды отрицательные смыслы.
Черный в африканских культурах
На формирование африканского культурного типа оказали влияние жаркий климат, богатый животный и растительный мир, локальность и удаленность от быстро развивающихся западных и азиатских культур. Потому доминантами культуры выступили: традиционализм, экспрессивность, декоратизация художественных форм культуры, раскрывающих взаимоотношения человека и мира, символизм (представления о бытии в обобщенных образах), мифологическая рефлексия, патриархальность и обрядовая специфика социализации [117].
Также на развитие культуры Африки оказала влияние ее бли зость к Евразии – захваты северных территорий римлянами в V в. до н. э. (финикийско-карфагенская цивилизация, развивающаяся в XII–II вв. до н. э.), вандалами и берберами в III в., Византией в VI в., к VII в. в Африку проникли арабы. Европейская колонизация черного конти нента (формирование государств, зависимых от метрополий) нача лась гораздо раньше (XVII в.), чем колонизация Океании (XIX в.).
Почти все страны Европы приняли участие в захвате территориальных, человеческих, ископаемых ресурсов и принуждении континента к индустриализации [40].
Самой значимой и могущественной культурой в этом регионе был Древний Египет. Но по характеристикам его относят к типу древних восточных цивилизаций. Страны Северной Африки – Тунис, Ливия, Алжир, Марокко также относятся к Востоку, а в этом разделе мы обращаемся только к тем субкультурам, которые по совокупности до минант относятся к типу архаичных – восточная (суахилийская), западная (суданская), центральная (бурундийская), южная (бантуязычная), юго-восточная (зимбабвийская) Африка [59, 117].
Африку населяет множество племен [40]: кочевники афары и горцы амхары – в Эфиопии; аканы, эве, адангбе, га, груси, гурма, гуан – в регионе Ганы; земледельцы баконго живут на территории Анголы и Конго; скотоводы и земледельцы бамбара и догон, кочевники фулани – в Мали; бемба – в Замбии; в Кот-д' Ивуаре – дан, ани, бауле, аовин, акан, синуфо, аке; яо, сена, нгонде, чева, тумбука, ньянджа, ломвэ, нгони, тонга – Мали.
Одной из главных культурных ценностей этих и других этнических групп черного континента, проявившей себя в фольклоре – сказке, выступает приоритет социума – родоплеменных и семейных норм и традиций. Эта особенность культуры – соотнесение своих мыслей и действий с благом большинства – связана, как и в типе культуры Востока, как и в «океаническом» юге со спецификой взаимоотношения человека и природы, со способами освоения окружающей среды, которые обусловлены в первую очередь климатом и экосистемными сервисами. Жара, засушливость, бедность почв, отсутствие достаточного количества воды, пищи, наличие хищников и других опасных для человека естественных врагов (земноводных, насекомых, микроорганизмов и вирусов) сделали необходимым условием выживания коллективное бытие с сопутствующими ему нормами и
ценностями в сфере хозяйства, права, искусства, познания, религии [117].
Африканским этническим бесписьменным культурам свойственен мифологический тип рефлексии на культуру, в котором посредством мифа и его символов происходила передача ценностных систем. Актуализация мифологического рефлексирования связана с предрелигиозными верованиями и осуществляется посредством многообразных церемоний, ритуалов, обрядов и мистерий. Большинство из них отражают представления о силах природы, их роли в судьбе индивида и общества. Стоит отметить такую особенность африканских религиозных представлений, как синкретизм магического и мистического начал, который оказался возможным в условиях существования специфических политеистических верований. Суть этого синкретизма в одновременности веры в приоритет некоего сверхъестественного сознания и веры в возможность на это сознание повлиять. Синкретический лейтмотив сопровождает все культы, верования и мистерии бесписьменных архаических и древних языческих культур, в том числе культуру африканского юга.
Вместе с ходом истории африканского континента формировались смысловые комплексы культурного цветовидения. Африканская палитра включает в себя множество цветов, среди которых черному уделено особое место, ибо он – цвет кожи большинства населения Африки. Его абсолютная причастность человеческому телу обусловила основные коннотации: обозначение лучших человеческих качеств – упорства и достоинства, смелости, искренности и пр.
Конечно, у африканских народов имеются тонкости в воспри ятии и смысловом наполнении черного – в зависимости от региона оттенки черного наполняются мистикой и опасностью, указывают на обладание знанием и мудростью, маркируют успех.
Как и во многих древних культурах, у архаических общностей Африки черный связан с природной стихией – водой – опасностями, таящимися в ее глубинах, а также с важностью воды для человека. Так, сезон дождей – темных влажных деревьев – объединяет значе ния неизвестности водной стихии и трудолюбия в период плодо творного земледелия. Многие ритуалы вызова дождя, распростра ненные у местных народностей, требуют от жрецов, одетых в черные одежды, черных жертв: у африканского племени ндембу во время специальных «дождевых» обрядов и ритуалов приносят в жертву черных животных и птиц [114].
Кроме того, у ряда племен черный – символ женского, не менее таинственного и глубокого, чем вода. Тайной и темнотой покрыта любовная страсть; так, черное выступает метафорой сокровенного и страстно ожидаемого. Потому черный приобретает фаллический окрас – указание на половое влечение или возможный брак. Некоторые африканские общности особо ценят женщин с очень темной, почти черной кожей.
Еще одной стороной для африканского черного выступают смерть, зло, опасность и болезнь (вода и женщины все-таки опасны, о чем напоминают себе мужчины). «У народа Уганды баньоро, – пишет В.Б. Иорданский, – черный связан с ночью, смертью, злом и опасностью…В жертву богам баньоро обычно приносили белых жи вотных, и наличие хотя бы черного волоса в хвосте жертвенной ко ровы могло лишить действенности весь обряд. Напротив, когда че ловек бывал одержим злыми духами, то им (духам) жертвовали чер ную козу или курицу. Черное банановое волокно носили в знак траура. Бог преисподней у баньоро ел с посуды, покрытой сажей. Его пища была закопчена, а молоко, которое он пил, получалось от черной коровы» [59].
Черный в Америке
В западном полушарии после открытия Колумба европейцы обнаружили древние этносы, культуры которых были специфичными. Встретившись, Европа и Америка приобрели разные результаты. Развитие Старого Света значительно ускорилось благодаря освоению и колонизации новых земель, обогащению за счет ресурсов Нового Света (природных ископаемых, человеческих). Для американской культуры контакт с Европой стал печальным итогом развития – многие из субкультур претерпели метаморфозы, а некоторые полностью прекратили свое существование [117]. Интерес к доколумбовой Америке, ее истории для нас обусловлен необходимостью знать отличия и сходства в видах, методах и технологиях развития культур и цивилизаций, которые нашли свое выражение в специфике цветовидения.
История культуры Америки доколумбового периода – одна из малоизученных страниц истории человечества. На сегодняшний день известно небольшое количество русскоязычных источников, которые более-менее приоткрывают культур-историю американского континента. Отечественных и мировых ученых можно поделить на два крупных исследовательских направления. Одно (признанное в академической научной среде) представляет эту часть всемирной истории в становлении и развитии локальной индейской культуры ацтеков, инков, майя и других племен вплоть до контакта с культурой Старого Света. Другое направление – так называемые альтернативные историки, ищущие скрытые смыслы и эзотерические знания древних американцев [43, 117].
Хронологические рамки генезиса и особенности расцвета данной культуры специфичны, с одной стороны (по уровню развития), ее можно приравнивать к культурам Древнего Египта, Древнего Китая, Древней Индии, с другой (по времени) – к ренессансной Европе. Природно-климатические, историко-культурные факторы обусловили культурное цветовидение Америк. Дифференцировать его смысловые узлы можно на индейский (северные, мезоамериканские и южноамериканские «палитры»), креольский (испано-португальские – от периода начала колониального движения; в них реализовано европейское влияние) и афроамериканский (период рабовладения).
До появления «белых» европейцев – контакта западной культуры и индейской архаической – коренные жители американского континента использовали в сакральных и повседневных культурных практиках различные природные красители – сок растений, толченые минералы и насекомых, некоторые породы глины и пр. Равнинные кри, чтобы получить черный цвет, смешивали жир, древесный уголь и графит. Скиди-пауни покрывали лицо сажей, получаемой при сжигании травы. С появлением торговцев индейцы стали покупать европейские красители, заменяя ими природные.
К черному индейцы относились крайне серьезно – «по- боевому». Команчи и осейджи наносили черную краску перед битвой. Так, черные круги вокруг глаз давали воину магическую возможность победить врага ночью или неожиданно напасть на него и победить. Черные горизонтальные линии на одной щеке свидетельствовали о том, что воин убил врага. Диагональные черные линии на бедрах указывали на то, что воин сражался в бою пешим. Черные кресты на бедрах свидетельствовали о конном сражении. Черный цвет у большинства племен (сиу, шайеннов, арапахо, пауни и др.) служил цветом победы. Он значил прекращение вражды, символизируя затухание угля вражеских костров и вражеские жизни, которые покинул воинственный дух. Так, раскраска воина сообщала о принадлежности к военному клану, о боевых заслугах, о «политическом» состоянии племени. Абсолютный траур обозначали полностью выкрашенным в черное лицо.
Воины, которые смогли проявить себя на тропе войны, имели право раскрашивать лица своих жен. Если у мужчины не было боевых заслуг, то этой привилегии он лишался. Лошади также раскрашивлись, а их гривы и хвосты украшали орлиными перьями и цветными лентами. Обычай раскрашивать коней перед битвой существовал у всех племен. Лошадей темной масти раскрашивали белой или желтой краской, а светлой масти – красной. Вокруг глаз боевого коня рисовали круги, чтобы усилить зрение скакуна. Существовало множество символов, которые наносили на тело животного. Например, у сиу отпечаток ладони на лошади означал, что воин дотронулся до врага.
Отечественный черный
Уникальность географического положения – размещение России между Востоком и Западом – определила качественные, характерные черты как самой культуры, так и ее продуктов, в том числе рефлексии цвета.
Пространственно-ментальные границы нашей культурной общности в ходе истории испытывали прямое воздействие извне (войны, конфликты), а также воздействие парадигмальное, исходящее из контакта культур, связанное со свободным или насильственным приятием ценностных и нормативных систем соседей. Так, отечественная культура стала полем, на котором развернулась борьба и гармоничное сосуществование центральных доминант Востока и Запада. В этом сложном процессе осуществлялся генезис характерных черт культуры России. Среди них: соборность – специфический метод коллективного жизнетворчества, понимание единства как совокупности личных свобод и ответственности каждого за каждого. Соборность, по сути, отлична от восточного коллективизма, выстроенного на традициях религиозно-нормативного подчинения младших – старшим, настоящего и будущего – прошлому, периферии – центру. Также наша соборность отличается от западной христианской общинности, идентифицирующей себя как единство трудящихся индивидов в ядре сакральной библейской этики, общинности, осуществляющей свою актуализацию не циклично, а поступательно вперед – в соответствии и в направлении второго пришествия.
Вторая черта отечественной культуры, без которой не мыслится первая, – православие. Благодаря приятию монотеистической христианской традиции, ее морально-нравственных положений произошло единение субъектов в общее культурное поле. А нюансы православной ветви религиозной традиции сыграли особую роль в становлении государственности. Третьей доминантой отечественной культуры выступает державность – патриотическое самосознание народа, связанное с утверждением могущества страны. Сформирова лись также такие доминанты, как мессианство, самопожертвование, софийность, философия пассивности, страдания, надежды на чудо.
Таким образом, черты отечественной культуры сложились, имея в источнике благоприятные для человека природные условия и универсализм традиции вопрошания человеком о смысле существования [117]. Нюансы отечественной культурной динамики, конкретные содержания законов преемственности и прерывания традиций, нашли воплощение в продуктах отечественной культуры – явлениях, феноменах, артефактах, среди которых «палитра» цветов.
В русской культуре символика черного цвета несла и носит до сих пор негативный характер. Черный цвет символизировал и в язы ческий, и в христианский период отказ от мира и размножения. Потому его предпочитали использовать либо давшие обет безбрачия и аскетизма священнослужители, либо волею судеб оставшиеся без семейного счастья люди – старые девы, вдовцы, пожилые. Однако на необъятных просторах нашей родины обнаруживаются исключения для смыслов черного: в некоторых центральных черноземных обла стях этот цвет носили в качестве свадебного, обращаясь к его плодородной коннотации.
В народной художественной культуре черный не соотносили со смертью, аскезой, ночью [30, 110]. Триединство «красный/белый/черный» широко применялось в народных искусствах и промыслах. Черный служил акцентным цветом, маркером, выделяющим главное [49]. Им обводили контуры, использовали как фон (лаковые поделки Палеха, Мстеры, жостовские подносы, городецкая роспись и т. д.). Получали этот пигмент сначала с помощью «чернильных орешков», затем из сажи.
Античность и черный
Античная культура, с которой взял начало «европейский за пад», оставила в наследство современности полисную демократию, мифотворчество, глубокую литературу, эстетические законы гармо нии красоты тела и природы и, конечно, философию. В античной культуре сформировался рациональный подход к пониманию мира, не отрицающий эмоционально-эстетического восприятия, индивидуального своеобразия в решении смысложизненных проблем.
Динамизм, мобильность, антропоцентризм, индивидуализм – доминанты античности, проявившие себя в ходе генезиса и развития античного рефлексирования субъектом Себя, Другого и Мира. Центральной доминантой эпохи стал агон – борьба индивида за славу, доблести и признание среди родовой знати. Агон оказал влияние на становление политической и правовой систем, на характер экономической культуры, на эстетическую сферу, тем более на повседневность. Жизнь богов, героев и людей протекала в перманентном соревновании, чтобы определить, кто быстрее, умнее, сильнее, красивее, кто должен занять лучшее место и быть достойным признания окружающих. В этом соревновании активно участвовал культурный набор цветов, среди которых был черный.
Как мы отмечали в начале данного исследования, проблема бытия цвета существовала в Античности не только как часть повседневных практик, но и как часть философских изысканий. Натурфилософы пытались обозначить сущность цвета вообще и значение конкретных цветов. Так, Эмпедокл, связывающий цвета со стихиями природы, относил черный к воде. Демокрит отмечал, что черное – шероховатое, неровное и неодинаковое. Позднее, в классический период, Аристотель, дифференцируя цвета, выделял основные: белый, желтый и черный. Платон считал, что черный концентрирует все: «…этот невидимый глазом свет, тождественный мраку, – не что иное, как бог, непознаваемый в своей сущности».
Расцвет древней Эллады оказался «греческим чудом» – во всех областях культуры грекам удалось достичь качественных высот. Позаимствовав многие идеи у своих соседей (египтян и вавилонян), греки довели их до классических форм и подлинного совершенства [24]. Природные условия Греции не дали значительных бонусов для культурного развития аграрного характера, как в Индии, Китае или Мезоамерике: плодородной земли в Греции было немного, климат засушливый, отсутствовали крупные реки, потому создание оросительной системы, как в речных цивилизациях Востока, оказалось невозможно. Компенсацией отсутствию массового земледелия стало садоводство и разведение скота. Важную роль в развитии греческой культуры сыграло море. Его воспевали в мифах и стихах, изображали на фресках. Море кормило, способствовало торговле, военным победам. Оно было неотделимой частью эстетики и практики универсума. Совокупность природных факторов, взаимодействие с соседними культурами Египта, Месопотамии обусловили становление доминант культуры, которые нашли отражение в становлении и развитии культурного цветовидения.
Цветовая палитра греков была разнообразной, и ее символика плотно связывалась с природностью сакрального мира – мира богов: Зевсу как небесному покровителю соответствовал голубой, земной Гере – зеленый, воинственному Аресу – кроваво-красный, хтоническому Аиду – черный и т. д.
Мудрецы, стремящиеся к раскрытию тайн бытия, сделавшие философию образом жизни, были меньшинством. А общая масса греков жила просто: воспринимая цвета природы, не углубляясь в их мировоззренческие глубины. Люди отображали эту природность цвета не в философской рефлексии, а в повседневных текущих практиках – моде на одежду и внутреннее убранство жилищ.
Окраска зданий, статуй, предметов быта и тем более тканей не сохранилась до нашего времени. Цвета чудесных творений скульпторов и архитекторов были разрушены ветрами, влажным приморским воздухом, дождями. Сохранились только фрагменты окрашивания – в потаенных деталях зданий, на защищенных негладких поверхностях. Органические краски не смогли выдержать испытания временем. Например, черный цвет получали из сажи испепеленных костей. Как закрепить такой краситель надолго? Однако греки, не преуспев в создании долговечных красок, добились другого – они вычленили их из природы, довели их использование до совершенства.
Античные ткани до нашего времени не сохранились. Об их окрашивании мы можем судить только по упоминаниям в научных трактатах и художественных текстах. Тканей с набивными узорами не было, их делали однотонными, украшали полотно вышитым разноцветьем. Черный цвет для одежных тканей не применяли, однако использовали его, как и в нашей культуре, как цвет-акцент, цвет- контур (дополняющий, не самостоятельный).
Ткали полотно в Древней Греции ручным способом, окрашивали натуральными красителями. Деятельность красильщиков и ткачей считалась очень почетной. Так, в Древней Греции мир был красочным и дорогим – работа специалистов по росписи домов, тканей, посуды оплачивалась очень щедро.
Культура Древнего Рима, также интересующая нас как этап становления цветовидения, просуществовала с VIII в. до н. э. и до 476 г. н. э. Римляне во многом были похожи на эллинов, но вместе с тем существенно отличались от них. Система римских ценностей была основана на социополитических принципах: равенстве всех перед законами Рима, патриотизме, долге гражданина.
Римляне не разделяли греческого прославления свободной личности, допускающей нарушение установленных законов обществ. Напротив, они всячески возвышали роль и ценность закона, его соблюдения, вылившуюся в стремление к строгой социальной стратификации [31]. Колорирование окружающего пространства производилось согласно выработанным общественным законам, что и стало спецификой римского цветовидения.
Узаконенная на государственном уровне палитра римлян почти не отличалась от древнегреческой, поменялись только имена богов, с которыми ассоциировались основные коннотации реальных цветов. Черный был отнесен к хтоническим божествам и использовался для обозначения сферы смерти [88].
Также разделение использования смыслов цветов в римской культуре произошло по гендерному признаку: краски стали мужскими и женскими. Такая тенденция стала свидетельством динамики процесса самоидентификации субъекта в культуре, обозначив цветовой личностный стереотип.
Так, античная любовь к краскам как любовь к богам, гармонизирующим мир человека и мир природы, стала фундаментом важной доминанты – творческого усовершенствования мира – трансформированной затем в ценность концепта человека-творца в зарождающейся европейской культуре [117].
Европейский черный: от Средних веков к Новому времени
Колыбелью западной (европейской) культуры (согласно онтологии по М. Петрову [97]) считается пространство Европы618 и, прежде всего, античная традиция, включающая в себя крито- микенскую, греческую и римскую культуры. Кризис античности обусловили внутренние политико-экономические проблемы Рима, принятие и легализация христианства, последующая экспансия варварских племен, завоевания сформировавшихся в эпоху Средневековья европейских государств, географические открытия эпохи Возрождения и Нового времени. Крушение античного типа культуры расширило границы Запада не только на всю территорию Европы, но и позволило преодолеть океаны. Агрессивная политика колонизации новых земель привела к поглощению аутентичных культур Америки и Австралии с заменой их ценностных систем на доминирующие западные. В Средиземноморье начались процессы романизации и христианизации. Люди принимали религию и образ жизни Рима, нормы строительства, торговли, экономики, права, политики и пр. Культурное значение всех этих процессов (миграций, романизации и христианизации) велико – оно обусловило слияние культур, поглощение слабых сильными, становление языкового, религиозного, экономического и политического противостояния, которое отчасти сохранилось до сих пор. Все это ознаменовало переход к новой культурной парадигме – парадигме Средних веков [71].
Так, становление средневековой культуры происходило в ре зультате драматического и противоречивого процесса столкновения двух культур – античной и варварской, сопровождавшегося, с одной стороны, насилием, разрушением античных городов, утратой выда ющихся достижений античной культуры719, с другой – взаимодей ствием и постепенным слиянием христианизированной римской и варварской культур [68].
Переход от мифологической к религиозной рефлексии в европейской средневековой культуре характеризовался одновременным существованием языческих традиций и принятием христианской системы ценностей. Данная особенность культуры оказала влияние на формирующиеся цветопредставления Средневековья. В коннотациях цветов реализовалась склонность этого периода культуры к метафоричности, символизму, аллегории и иносказанию.
Библейские тексты, диктующие каноны цветопредставления, не оставили никаких сомнений в аксиологии цветов: все, что создано
Богом, мудро и совершенно; творение Абсолюта не может подвер гаться человеческому переосмыслению. Потому «божественность» цветов – значение каждого, смыслы сочетаний мыслились неруши мыми. Иконопись выступила визуализацией христианского осмыс ления цвета как моста-связки в ситуации дифференциации мира на «божественный» и «человеческий»:
белый – святость, божественная власть; черный – ночь, смерть, ад;
голубой – величие, красота, ясность, печаль;
красный – неустрашимость перед жертвой и страданиями; золотой – верность, правда (честность), постоянство царствия
небесного;
зеленый – человеческая надежда, земная свобода, жизнь; желтый – трусость, предательство [2, 27].
Значение черного, как мы видим, стало негативным. Он теперь служил зримым выражением мрака и тьмы, соотносился с дьяволом, антихристом, злом, преисподней и муками грешников, смертью во всех ее проявлениях. Черные глубины иконописных пещер повествовали зрителям-христианам о могильной глубине и адской пропасти. Эта сакральная смысловая наполненность была абсолютно доминирующей и довлела даже над «светской» живописью: черного старались избегать, используя вместо него темно-синий или темнокоричневый.
Черные образы-детали также имели отрицательный подтекст: ворон служил знаком беды, а черный дрозд – эмблемой искушения. Иногда черный цвет для иконописцев обретал не только трагическое значение – угольно-темная сфера в верхней части иконы могла означать и великую божественную тайну.
Черный, связанный в христианской художественной культуре в основном со значениями греха, в повседневной практике стал обозначением процесса очищения, выбора аскетического пути. Папа римский Невинный III примерно в 1200 г. объявил черный цветом покаяния и скорби, необходимым для атрибутики и одеяний в период Великого поста. Так, этот цвет стало носить духовенство. Одежда священников выступала метафорой мертвой плоти, смерти для мира (светского общества), отказа от греховных помыслов ради души и ее вознесения.
В средневековом оккультизме черный имел прямое отношение к темной магии – вредоносному чародейству и колдовству, к ведьмам и колдунам, чернокнижникам и приверженцам дьявола, состоящим в тесном союзе со злыми силами [126, 131]. К черной магии причисляли общение с умершими, «неконтактное» покушение на жизнь и здоровье («порча»), любовные привороты и отвороты. Оккультные процедуры требовали специальных условий и атрибутики – темноты, подземелья, черной одежды, черных жертвенных животных, черной крови, свечей и талисманов. Так, например, гагат, который в дохристианские времена наделяли значением оберега от дурного глаза, зла, болезней, кошмаров, страха, теперь использовали для контактов с мертвыми душами.
В средневековой алхимии, ставшей мостом между мирами, но не только между сакральным и человеческим, а между культурой Востока и Запада, символика черного цвета, как и других, была позитивной. Из цветов (как, впрочем, и из иных символов – камней, растений, птиц, животных, планет) выстраивалась алхимическая картина мира. В «палитре» алхимика цвета делились на два класса. Первый – наиболее важный: черный, белый, красный. Второй: серый (между черным и белым), зеленый, голубой, желтый, оранжевый (между белым и красным). Черному отводилась важная роль фундаментального цвета, первоцвета (вероятно, первовещество черное). Этот цвет, как полагали алхимики, помогал раскрывать тайное, продвигать к совершенству (изменение цвета металла в горне при переплавке – от черного к золоту, «муки Христовы»; то есть черный – ключ к поиску философского камня).
Алхимия выступала на языческих «натурфилософских» осно ваниях, потому коннотации цвета в ней имели «физические» – сти хийно-природные истоки. Цветопонимание алхимиков соответство вало реальным цветовым превращениям химического порядка, трансформам элементов и веществ, которые можно вызывать, которыми можно управлять и которые можно наблюдать. Поэтому алхимически цвет считался физической реальностью – свойством вещи, имеющим и метафизический смысл – зрительно воспринимаемого Логоса. Если убрать метафизику, то в этом отношении к цветам веществ мы увидим начала химии и физики, открытые средневековыми алхимиками.
Черный цвет служил герметикам знаком земли, его считали первой частью Великого Делания – символом состояния, пережива емого философским камнем. Алхимик Н. Вачта писал: «Материя, приведенная в движение соответствующим жаром, начинает делаться черной. Этот цвет является ключом и началом Делания. В нем заключаются все другие цвета: белый, желтый и красный» [102]. Позже Роджер Бэкон добавляет к этому следующее: «Первому процессу Делания дали название гниения, ибо в это время наш камень черен» [102]. Так, у алхимиков черный предстал источником, порождающим другие цвета, началом преобразования.
Традиционный для христианства символ ворона разворачи вался алхимиками аллегорией лабораторной деятельности, описанием «научного» метода: как ворона не заботится о потомстве до появления черных перьев, так и алхимик не должен вмешиваться в процесс трансформы вещества до его почернения. Далее пласт сюжетов образа ворона раскрывал значения метафизической смерти и гниения, соединения мужского и женского начал – серы и ртути820.
В этой связи эзотерики, позже последующие алхимикам, например Блаватская, указывали на библейские сюжеты: Ной выпу стил черного ворона из ковчега прежде, чем выпустить белого голубя. Образу черного ворона посвящено множество современных исследований. В большинстве символика трактуется близко к алхимической – связи с первоначальной бессознательной мудростью, по Леви- Строссу, происходящей из скрытого источника вечной женственности. У Юнга дается указание на сходство «черной ночи» Иоанна Кре стителя и «зарождения во тьме» алхимического nigredo [103].
В других оккультных эзотерических практиках, например в более позднем возникшем на волне нововременного увлечения Востоком масонстве (XVIII в.), черному и другим цветам также были аттрибутированы специфические значения:
белый – непорочность, беспристрастие; серый – каббалистический цвет мудрости;
черный – печаль, смерть;
пурпурный – символ власти, царственности, высоты духа; красный – цвет крови, гнева, мести, войны, возмездия, верности; розовый – любовь, вечность жизни;
золотой – символ чистоты, благородства побуждений; зеленый – одоление, победа;
голубой (синий) – цвет неба, возвышенности устремлений, совершенствования духа.
В средневековой повседневной культуре с черным обраща лись достаточно вольно, однако, насыщали его метафорическими значениями. Теперь его носили в десакрализованных, но высоких человеческих смыслах – для маркировки нравственных, социальных достоинств. Так, знать использовала черный в геральдике, где он нес смыслы постоянства, скромности, покоя, траура и смерти. В военном деле Средневековья черный цвет служил стигмой рыцарской славы. Его носили: шотландский национальный герой Черный Дуглас (1286–1330); Эдуард Уэльский Черный Принц (1330–1376) – герой Пуатье, разгромивший армию французов и пленивший короля Иоанна II; польский рыцарь Завиша Черный – активный участник грандиозной Грюнвальдской битвы (1410 г.), ставший нарицательным образцом рыцарских добродетелей [93].
Кроме рыцарства к черному и его «постоянству» обращались знатные влюбленные, которые носили его в знак меланхолии.
В VIII в. этот цвет по приказу Карла Великого стали носить и более низкие сословия средневекового общества – крестьяне. В X–XI вв. в Западной Европе начали расти старые города и появляться новые. В городах зарождался новый образ жизни, новое видение мира, новый тип людей. Новый город – другое, отличное от феодального поместья, социокультурное пространство. Субъект этой среды – горожанин. Горожане деятельно включались в строение культуры – профессионально, как ремесленники, социально – как члены объединения (например, цехового комитета), экономически – как интересанты торговли, психологически – как субъекты сложной связи Я – Другой. В городах, свободных от сеньората, устанавливалось самоуправление. Будучи в центре экономической жизни, горожане были более информированы, обладали широким кругозором и видели жизнь иначе, чем крестьяне [19, 45]. Начался путь по формированию другого типа личности – ренессансной и нововременной – которая имела иные ценностные установки, иначе отражала культуру в представлениях о цвете.
В начале Ренессанса черный по-прежнему символизировал смирение. Люди продолжали носить этот цвет в знак траура, печали и уныния. Его носил Филипп Добрый, герцог Бургундский после 1419 г., чтобы помнить о смерти своего отца, король Испании Филипп Габсбург и другие европейские монархи. А с принятием специальных «антироскошных» законов, которые запрещали дорогие платья и ткани, черный стал первым «разрешенным» цветом для итальянцев, а затем и для остальной Европы (особенно северной). Достаточно посмотреть мужские портреты Тициана, Тинторетто и картины голландских мастеров, где доминируют дамы и господа в черных костюмах, подразумевающих серьезность, опыт, мудрость, элегантность, важность, сложность и большие достоинства. Министры ряда королевств (например, Франции, Англии, Испании) носили черный в знак покорности воле государя. Примерно в то время черный получил популярность и у приверженцев идей Реформации. Этот цвет сохранится в одежде священников, чиновников и судей до наших дней – останется важным для всех тех, у кого он, по уже сложившейся традиции христианизированного европейского цветовосприятия, символизировал высокую нравственность, мудрость и смирение.
В XV в. регулярно носить черный цвет стали купцы, особенно генуэзские и венецианские. Торговцы и сенаторы этих республик считали черный символом республиканской добродетели. Под этим видением черного на самом деле скрывалась обида на «регальный» запрет: как непривилегированное сословие купцы не имели права на одежду пурпурного цвета, потому черный стал для них знаком протеста. И вдруг произошло чудо: выяснилось, что черный цвет может быть изысканным и соблазнительным. В Италии не осталось ни одного дворянина, который бы не купил себе костюм из черной ткани. Скоро эта мода распространилась по всей Европе. Не было в это время такого короля или владетельного князя, в чьем гардеробе не хранилось бы изрядное количество черной одежды (как из шерстяных, так и из шелковых тканей), а также мехов. Так, черный выступил цветом знатных и богатых, маркером изысканности и сословных различий, вместо пурпура и красного. XV в. стал триумфом черного [96]. К Новому времени символический посыл черного о скромности, умеренности и дисциплине заменил на большей части Европы прошлые значения цвета. Черные одежды носили уже все европейские чиновники, представители ученого сословия, английские пуритане, крестьяне и горожане, а жителей Дании за особое пристрастие к этому цвету даже прозвали «черными датчанами».921В 1809 г. герцог Фридрих Вильгельм для борьбы с Наполеоном создал ударный корпус «черных брауншвейгцев» – солдат в черном обмундировании. Так, если в Европе в раннем Средневековье было неприятие черноты в ее полярности божественному свету, то теперь он стал крайне популярным. Мода на цвет «серьезности», «мудрости», «верности» (и генуэзского богатства!) оказалась крайне устойчивой и продержалась вплоть до Новейшего времени.
Интерес к христианским представлениям о черном и других цветах в целом сошел на нет. Цветовидение стало светским, а цвето вая религиозная символика практически вышла из употребления и стала забываться. Философский интерес к цвету и его влиянию на человека обозначился с иной стороны – физики и естественных наук. Первыми отметились просвещенцы, которые подвергли скепсису мистику и религиозность цвета. Далее знаковыми стали исследования Гегеля и Гете.
Практики Новейшего времени: черный в политической и экономической культурах
В современных культурных практиках, в разных сферах культуры Новейшего времени у цветов неисчислимое множество значений. Структуры культуры усложняются, что выражается в многозначности их свойств, в том числе в атрибуциях цвета. Важно отметить то, что единого преставления о коннотации цветов нет.
Современная политическая культура являет специфические примеры цветовидения, равно далекие от стихийно-природного, свойственного древнему периоду культур-истории, и религиозного прочтения.
Черный цвет трактуется теперь совершенно по-разному. В странах Центральной, Северной и Восточной Европы он отож дествлялся в основном с клерикалами. С начала 1830-х гг. в Южной Европе, особенно в Испании, Италии, Франции, он стал служить обозначением борьбы рабочих за свои права. Позднее «борьба» была трансформирована в «бунтарство». Макс Люшер – психолог, исследователь цвета – писал по этому поводу, что черный выразил идею «ничто» абсолютного отказа в боевом протесте [75].
В России в 1879 г. черный был признан народовольцами из объединения «Черный передел», в начале XX в. им «вооружились» ярые защитники самодержавия – черносотенцы из «Союза русского народа» и «Союза Михаила Архангела».
К середине XX в. черный во многих странах (Россия, Эстония, Италия – фашисты-чернорубашечники Муссолини и пр.) стал цветом ультранационалистов.
На сегодняшний день политический черный остается в зоне негатива. Его по-прежнему предпочитают радикалы и националисты всех мастей, террористические группировки, анархисты. Вербально
«черный», «чернильница» – ругательство, стоящее на грани обсценной лексики, заключающее в себе значение маркировки национальности или расы.
В экономической культуре черный занимает положительную нишу. Его трактуют как выражение весомости, значимости, автори тарности, успеха и прибыли. Несомненно, данный «экономический» контекст ведет свое начало от амбициозных европейски придворныхминистров и итальянских купцов, сделавших этот цвет выражением своего карьерного и финансового успеха. Черные автомобили, меха, одежда – «иконописный» канон современного видения успешности. В моду прочно вошли «маленькие черные платья» Коко Шанель, черные туфли-лодочки и сумки, лимузины, черная икра и даже черный хлеб. Экономически черный – цветное выражение денежного успеха.
Черный в художественной культуре Живопись и графика
В художественных практиках – живописи, архитектуре, лите ратуре, музыке – существуют специфические представления о зна чении и смыслах цвета. Традиции применения цвета формировались, прежде всего, на основе физических особенностей – возможностей цветовосприятия субъекта и возможностей получения пигмента (ве щества, которое преломляет свет в теле, способствуя цветовосприя тию). Так, краски художественной картины мира первобытного че ловека были репрезентацией природы, но ее реализация не была полной из-за скудных возможностей – неумения добыть пигмент.
С появлением методов получения естественных и искусственных красителей у художников-живописцев сформировались каноны значимости и применимости цветов. Основными цветами считаются: красный, синий и жёлтый. Чёрный и белый – не главные, но их отсутствие невозможно: они указывают на состояние наличия света и цвета. От смешения главных цветов производятся составные – оранжевый, зелёный и фиолетовый. Вместе с тремя основными первичные смешанные составляют «живописный» спектр: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, фиолетовый. Голубой цвет считается производным от сине-зеленого. При дальнейшем смешивании этих шести цветов получается двенадцать, соответствующих европейскому темперированному звукоряду:
1)
красный;
2)
оранжево-красный;
3)
оранжевый;
4)
оранжево-жёлтый;
5)
жёлтый;
6)
жёлто-зелёный;
7)
зелёный;
8)
сине-зелёный;
9)
синий;
10)
фиолетово-синий;
11) фиолетовый;
12)фиолетово-красный.
Эти цвета, которые смог получить человек применяя специ альные технологии, есть доступная обычному человеческому зрению «октава» цвета.
В истории живописи от эпохи к эпохе главенствовали определенные цвета из этой «октавы». Приоритет цвета, как мы выяснили на примере анализа черного в истории культуры, определялся тем значением, которым он выражал свойства структур культуры, находившихся в зависимости от специфики ценностных установок историко-культурного периода (языческих, монотеистических, эзотерических, социальных, экономических, политических и пр.). В дошедших до нашего времени списках названий [3] живописных «цветов» есть удивительные названия, вербально указывающие на культурные свойства цвета: «вежливость», «гниющая листва» – японские; «кеми» – египетский, «бедро испуганной нимфы», «голубиная шейка»,
«опавшие листья», «резвая пастушка», «тертая земляника» и т. п. – цвета эпохи рококо; «цвет трубочиста», «цвет короля», «цвет пыли»,
«цвет пепла», «жемчужный», «серый нищенский», «серый джентль менский», «крысиный», «цвет волос молодых женщин» «цвет поце луй меня, милашка», «цвет потерянного времени» и т. д.
Таким образом, передача цвета в живописи очень сложна, потому что обусловлена и качеством пигмента, и особенностями физиологии субъекта, и смыслами цветовидения той культуры, к которой принадлежит художник. Самым известным живописцем, работающим с черным, является К. Малевич (1879–1935), который создал несколько «черных квадратов» – изображений простой геометрической фигуры на белом фоне. Ни один из вариантов не был похож на другой – ни фактурой, ни оттенком черного. Сам Малевич отмечал, что цвет заложен внутри организма человека, и именно оттуда проистекают требования цветности [77].
Великим мастером черного цвета можно считать и голландского художника XVII в. Франса Халса (1582–1666). На его полотнах встречается более сорока оттенков черного (например, «Банкет офицеров стрелковой роты св. Георгия»). Стоит упомянуть и Веласкеса (1599–1660), Эль Греко (1541–1614), Питера Рубенса (1577–1640), которые создали массу «черных» портретов.
Особым направлением для применимости черного и артикулирования его культурных коннотаций в художественной культуре выступает графика – «искусство черно-белого».1022 В XII в. графитный карандаш выполнял только второстепенную роль, а для современной графики характерно буйство света и тени [32]. Основные технологии данного художественного направления получили развитие в эпоху барокко – были обнаружены выразительные возможности резких светотеневых контрастов, открыт контражур (светящийся контур). Оказалось, что градациями черного и белого графика может передавать структуру материала, оптические и осязательные свойства поверхности, ритм, оттенки цвета и тона, теплого и холодного, голубого неба и зеленой лужайки – обладать красочностью. Признанными мастерами графитного карандаша считаются Да Винчи, Дюрер, Энгр, Гойя и др.
Литература
Многообразие игры с видением цвета обнаруживается в другой форме художественной культуры – литературе. Особенности лингвистики цвета таковы, что писатель не называет цвета всех и вся в своем тексте. Цветовые эпитеты – результат интуитивного художественного отбора творящего субъекта. Они имеют важный выразительный функционал: смысловой (красный цвет лица – признак стыда или злости героя); описательный и эмоциональный (требующий эмотивно-чувственного отклика читателя).
Многоцветье, яркость практически всегда вызывают у читателя ощущение радости, праздничности. К приему одноцветности также прибегают для придания особой выразительности. И в том и в другом случае цвет указывает не столько на свойства внешней литературной реальности, сколько на внутренний мир персонажей, на изменения в нем. Используемые словесные обозначения цвета воздействуют на читателя так же эмоционально, как и краски художника. Более того, в литературном тексте действуют те же правила цветовых сочетаний: одни вызывают радость, другие – горе или уныние, третьи – злость.
У великих писателей, как и у живописцев, колористические средства выразительности представляют собой многоуровневые метафоры смыслов, взаимообусловленных друг другом. И нет сомнения, что, воздействуя на мышление и чувства читателя, донося свою мировоззренческую позицию, творцы нередко обращаются и к его цветовому зрению. Этим приемом пользовались: Л. Толстой, Ф. Достоевский, Э. Ремарк, Э. Хемингуэй, Г. Маркес, В. Пелевин и др.1123
К черному цвету в литературе особенно часто обращались реалисты, романтики и символисты. Среди отечественных поэтов Серебряного века «черно-красный» А. Блок и его «Пляски смерти» [21]:
Старый, старый сон. Из мрака Фонари бегут – куда?
Там – лишь черная вода,
Там забвенье навсегда…
Скелет, до глаз закутанный плащом, Чего-то ищет, скалясь черным ртом… Живые спят. Мертвец встает из гроба. И в банк идет, и в суд идет, в сенат… Чем ночь белее, тем чернее злоба,
И перья торжествующе скрипят.
У С. Есенина были свои отношения с черным и его символикой. В строках одного из последних стихотворений звучали страшные предзнаменования личной трагедии [51]:
«Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль. То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем, Толь, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.
Голова моя машет ушами, Как крыльями птица.
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь. Черный человек,
Черный, черный, Черный человек
На кровать ко мне садится, Черный человек
Спать не дает мне всю ночь. Черный человек!
Ты прескверный гость. Это слава давно
Про тебя разносится.
Я взбешен, разъярен
, И летит моя трость Прямо к морде его,
В переносицу…
. . . . . . . . . . . . .
…Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет. Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала? Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет. Я один…
И разбитое зеркало…»
У И. Бродского тоже есть «черные» стихотворения [26]:
«Был черный небосвод светлей тех ног, и слиться с темнотою он не мог».
В тот вечер возле нашего огня увидели мы черного коня.
Не помню я чернее ничего. Как уголь были ноги у него.
Он черен был, как ночь, как пустота. Он черен был от гривы до хвоста.
Но черной по-другому уж была спина его, не знавшая седла.
Недвижно он стоял. Казалось, спит. Пугала чернота его копыт.
Он черен был, не чувствовал теней. Так черен, что не делался темней. Так черен, как полуночная мгла.
Так черен, как внутри себя игла. Так черен, как деревья впереди,
как место между ребрами в груди.
Как ямка под землею, где зерно. Я думаю: внутри у нас черно.
Но все-таки чернел он на глазах! Была всего лишь полночь на часах.
Он к нам не приближался ни на шаг. В паху его царил бездонный мрак. Спина его была уж не видна.
Не оставалось светлого пятна. Глаза его белели, как щелчок. Еще страшнее был его зрачок.
Как будто был он чей-то негатив. Зачем же он, свой бег остановив, меж нами оставался до утра?
Зачем не отходил он от костра?
Зачем он черным воздухом дышал? Зачем во тьме он сучьями шуршал?
Зачем струил он черный свет из глаз?
Он всадника искал себе средь нас. (1962 г.)
Архитектура
Сегодня перед цветом стоит множество задач: во-первых, это требования физики – особенности энергосбережения, которые выражаются в тепловых свойствах красящего поверхность вещества; во-вторых – это художественно-эстетический посыл, направленный на эмоционально-чувственный ответ субъектов; в-третьих – историко-культурные требования, которые основаны на принятых в культуре цветовых коннотациях.
Так, черный цвет присутствовал в традиционной архитектуре множества культур, в которых была известна технология обработки дерева смолой или нефтью. С течением времени обработанный сруб темнел, образуя черные поверхности крыш или стен. В сочетании черного с белыми элементами (стены, окантовка оконных проемов, покрашенные мелом, известью и т. д.) рождалась особая контрастная эстетика фахверка, замковой архитектуры, «прусской стены», норвежской ставкирки (каркасной церкви, крышу которой, кстати, покрывали дефицитным русским дегтем).
Сегодня для окраски внешних ограждающих конструкций черный почти не используют. Чаще он применяется в роли детализатора, контраста, акцента на деталях – балюстрадах балконов, решетках, водосточных трубах, подоконниках, орнаментах и пр., а также покрытия крыш в северных регионах [3, 4, 110].
Во внутреннем дизайне помещений у черного наличествует подтекст, соответствующий современным социально-культурным запросам финансовой «успешности», «уникальности» субъекта: черные стены, мебель, ткани, постельное белье или столовая посуда призваны указывать на «особенные» достижения владельца, на
«специфику» его внутреннего мира.
Психологические прочтения черного
Особой областью образования и применения символики черного выступает психология теоретическая и практическая. Психологи множества направлений и школ пытаются прояснить значения цветов вообще и дать советы по их применению. Сразу стоит оговориться, что эта психологическая «колористика» – продукт западной научной традиции, которую с большим удовольствием продолжают и некоторые отечественные исследователи [100, 101, 151]. У большинства из них нет обращения не только к историко-культурной традиции толкования цвета, но даже к физике. Потому цветам приписываются значения и значимость, выведенные на основе экспериментов, проводимых на основе малой выборки, не учитывающих расовые, национальные, этнические, пространственные, временные характеристики культур, составляющих мировое единство. Из поля зрения практически всегда выпадают архаические и восточные смыслы цвета. Большая часть рекомендаций дается европейцами для европейцев (около европейских культур, например у Люшера [75, 76]).
В особом ряду подобных практик стоит диетология, которая регламентирует культуру питания. Конечно, еще в древних цивилизациях была распространена медицинская рекомендация – лечение болезней цветной едой. Чаще всего «лекарство» выбиралось по принципу подобия цвета: желтуху лечили желтыми продуктами и слабость – красными и т. п. Современные диетологи, по сути, продолжают ту же линию. Справедливости ради стоит отметить, что теперь под диетологические советы подведены научные исследования состава веществ продуктов. Так, продукты черного окраса – рис, чечевица, фасоль, соя, чай – как считают специалисты, содержат больше антиоксидантов, чем их светлые собратья из-за высокого содержания особого пигмента1224, соответственно, способствуют выведению вредных веществ из организма, предотвращают разнообразные заболевания. Но реальная польза продуктов черного или иного цвета не подтверждена стопроцентно, и советы могут оказаться обычными финансовыми манипуляциями.
Среди множества современных психопрактик, использующих восприятие цвета в своих методах и инструментах, также существует цветотерапия – метод, использующий «целительное» влияние различных цветов на организм человека. Цветолечение было известно еще в эпоху древних цивилизаций – в египетских храмах были обнаружены помещения, конструкция которых способствовала преломлению солнечных лучей в тот или иной цвет спектра: жрецы-врачи, вероятно, «окунали» больного в потоки лучей. Современные последователи цветотерапии полагают, что данный метод является одним из перспективных в лечении и оздоровлении человека. Это положение они основывают на странном факте – якобы мозг способен принимать цвет, как пищу. Цветотерапевты отмечают [22, 48, 149], что особенно важна работа с цветом для женщин, у которых гораздо сильнее развиты цветовые рецепторы (действительно, научно доказанный факт). Поэтому желание поменять цвет обоев в спальне или сменить цветовую гамму гардероба – это не прихоть и не каприз, как воспринимают окружающие, а внутренняя потребность женского Я создать комфортное цветовое пространство ради гармонии внешнего и внутреннего
Цветотерапевты дают следующие «полезные рекомендации»:
Носить одежду определенного цвета.
Использовать определенную цветовую гамму в интерьере.
Носить украшения или использовать целебные свойства минералов и драгоценных камней с учетом их цвета.
Употреблять в пищу продукты определенного цвета (так называемое кормление цветом, с которым нужно обращаться очень осторожно, так как включение в повседневный рацион большого количества желтых и оранжевых цветов приводит к избыточной выработке желчи и ее застою в организме).
Мысленно насыщать себя необходимым цветом с помощью медитации (или просто долго и пристально рассматривать «носитель» необходимого цвета, которым может быть, например, лист цветной бумаги).
Использовать свою интуицию и творчество, внося необходимый цвет в свою жизнь.
У этих советов есть один существенный плюс – «таблетки цвета» не могут нанести очевидный вред, равно как и пользу.
В практической психологии распространены убеждения о том, что люди, предпочитающие черный, – загадки, что они неосознанно желают внимания окружающих, так как черный цвет – цвет тайн, страхов и мистики. Черному также приписывается возможность влиять на обретение собранности, дисциплины, выдержки и стойкости.1325
Считается, что если человек носит только черное, то это свидетельствует о том, что ему не хватает в жизни чего-то существенного, что он прячется от неприятной действительности. В психологии этот цвет обрел символику неуверенности, мрачного восприятия жизни: тот, кто предпочитает одеваться в черное, нередко воспринимает жизнь в темных тонах, неуверен в себе, несчастлив, склонен к депрессии, поскольку не сомневается, что его идеалы в жизни недостижимы (тут надо саркастично вспомнить фашистов, националистов, Коко Шанель и черные дорогие авто). В норме черный цвет, как считает психология, отвергается.
КРАСНЫЙ: НЕ ТОЛЬКО «КРОВЬ» И «ВИНО»
Первым цветом, воспринятым в природной действительности в ходе мировоззренческой рефлексии, был, вероятно, красный – цвет крови, огня и солнца. Естественная принадлежность красного миру природы – его прямая связь с жизнью – обусловила первоочередность культурной рефлексии цвета, репрезентацию его смыслов.
Первоначальные значения красного были связаны с попытками субъекта архаичной культуры «физически» объяснить свое происхождение, истолковать наличие жизненного начала, жизненных сил. Так, красная кровь как сила, энергия человека отождествлялась с самой жизнью, полученной человеком от богов.
В ряде архаических культур охру как источник красного пигмента символически связывали (и связывают до сих пор, например, в Австралии, Индонезии, Африке) с антропогоническими мифологическими сюжетами о первочеловеке. В ранних мифах множества культур обнаруживаются истории о творении человека из красной глины. Так, в антропогонических мифах острова Пасхи есть сюжет о создании человека из «цветной земли» – вулканического туфа; один из индейских богов – Магадео – вылепил из глины первых мужчину и женщину; еще один индейский праотец (племя майду, современная Калифорния) творил людей из глины (справедливости ради надо отметить, из белой, но глаза его перволюдей были все равно красными); титан Прометей также стал создателем человека из популярного подручного материала – глины [126, 87].
Позже, в эпоху древних цивилизаций, с появлением политеистических культов значение «красное – жизненное» дополнилось представлениями о душе (и в прометеевских глиняных болванчиков душу вложила Афина). Идея о связи крови и души как личностного начала углубилась в ряде религиозных правил и предписаний в качестве строгих сакральных запретов на прикосновение к крови [127], пищевых запретов и пр.
Сюжетные линии о творении человека из красной глины продолжились и в более поздние времена – в период сложения первых линий монотеизма: иудейский Адам был создан Яхве из красной земли «адама» («адам» – «человек», «Едом» – «красный» [131]).
Япония
На японском Востоке красный также появился одним из первых и вошел в палитру главных цветов культурного мира. Красный, черный и белый считались настолько важными в мироустройстве, что первыми получили обозначения в языке. Данная триада служила материализации мировоззренческих идей – японской картины мира.
Цветовая репрезентация смыслов представлений о мире имела свою специфику, прежде всего, в сфере сакрального – в содержании религиозных, культовых и мистериальных практик. В их основе лежало поклонение силам природы: солнцу, земле, небу, ветру, водной стихии и т. д. – восхищение природой, стремление к гармонии, к осознанию мира и себя в качестве вместилища для ками (божеств, духов). С ходом времени в Японии сформировался синтоизм, сочетающий в себе культ предков, культ солнца и культ императора как потомка солнечной богини (или «великого солнечного Будды») [117, 108]. Синтоизм ощутил на себе влияние внешних религиозных трендов – конфуцианства, даосизма и буддизма, выразившееся в становлении общего для Востока принципа: человек – ядро государства. Подобный синкретизм породил соответствующие прочтения коннотаций цвета.
Запрет на искренние прилюдные выражения (личных, не общественных) чувств и эмоций в японской культуре сформировал скрытые формы чувственности, воплощенные в эстетике. Одной из таких форм стал цветовой канон. В нем были реализованы основные социально-религиозные культурные нормы. Государство строго регламентировало применение цветов во всех видах культурных практик – от религиозных ритуалов до дресс-кода и макияжа. Известно о существовании законов, регулирующих вид, качество, стиль, покрой, цвет и рисунки на ткани для одежды подданных: каждое время года, каждый торжественный или особый случай должны были иметь для каждого сословия свои колористические особенности [60, 152].
Глубокий красный цвет японцы получали с помощью натурального красителя, изготавливаемого из корней многолетнего растения, которое называли «аканэ» – марена пурпурная (лат. «Rubia Cordifolia L»). Марена – невысокое полевое травянистое растение, которое цветет летом или в начале осени мелкими белыми цветами. В Японии особо ценились дающие красный пигмент корни марены, потому название растения писали двумя иероглифами: «ака»+«нэ», то есть «красный корень», «корень, дающий красный цвет». Сейчас цвет и сама марена имеют общее название, записываемое единым иероглифом – «аканэ».
Самый ранний свод религиозных текстов «Кодзики» [66] уделяет красному несколько строк, подчеркивая в оттенках цвета оттен ки культурных смыслов:
大礼Старшая вежливость – тёмно-красный;
小礼 Младшая вежливость – светло-красный;
«аканеиро», «аканэ», «аканэиро» – мареновый красный цвет (глубокий);
赤 «акаи» – цвет опасности, гнева и ярости.
Значения слова «красный» в японском языке этимологически связаны также с религиозной синтоистской символикой – с утренним небом, гармонизирующим, защищающим мироздание. Эти смыслы были перенесены позднее на культуру видения красного, понимаемого уже шире – как символ мира, безопасности, процветания, семьи; позже к значениям данного цвета добавились коннотации природных циклов – лета, а также маркеры атрибутов сословной дифференциации – власти и богатства.
Эпоха буйства красного началась в Японии в VI–XVIII вв.:
«Мы, люди, наполняемся благоговением, когда розовое солнце появляется над горизонтом, даря тепло, а значит, жизнь или, наоборот, касаясь линии, нагоняет страх перед неизвестностью. Мы можем контролировать огонь и использовать его для обогрева и приготовления пищи. Вот почему мы чувствуем определенное почтение перед солнцем и огнем» [66]. В период праздников столы для торжеств в храмовых комплексах стали покрывать красными полотнами и коврами. Да и сами храмы, а иногда и дома знати часто красили красным.1426
Пользуясь красным в повседневных текущих практиках – окрашивая культовые предметы для бытового употребления, японцы полагали, что тем отпугивают злых духов, привлекают удачу и счастье. Так, например, талисманы, призванные защищать детей и оберегать взрослых от оспы, представляли собой небольших красных коров.1527 Еще одним из самых известных, сохранившихся до сегодняшнего дня в обиходе амулетов является фигурка медитирующего монаха красного цвета; для совершения обряда исполнения желания ему закрашивают один глаз, после реализации – второй. Одежда настоящих монахов также была красной, потому не только упомянутый амулет, но и фигуры культовых божеств, стоящих на территории храмов, красили краской или покрывали материей данного цвета.
