«О доблестях, о подвигах, о славе…» На перекрестке открытых вопросов бесплатное чтение
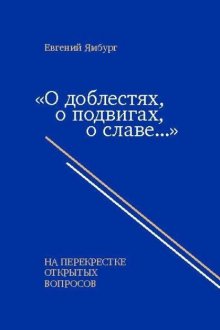
© Ямбург Е. А., 2025
Введение
Читателю может показаться странным, что автор в качестве названия книги, призванной помочь учителю в гражданско-патриотическом воспитании, использовал хрестоматийно известное стихотворение Александра Блока.
Казалось бы, оно совсем о другом: о горестях неразделенной любви, о личной драме, перед которой меркнет жажда подвига во имя служения отечеству. Налицо махровый индивидуализм и эгоцентризм поэта, да и только. Наверное, нашим современникам более созвучны строки некогда широко известной комсомольской песни: «Раньше думай о Родине, а потом о себе…»?[1] Но не будем спешить с выводами. Восстановим в памяти бессмертные строфы Блока.
- О доблестях, о подвигах, о славе
- Я забывал на горестной земле,
- Когда твое лицо в простой оправе
- Передо мной сияло на столе.
- Но час настал, и ты ушла из дому.
- Я бросил в ночь заветное кольцо.
- Ты отдала свою судьбу другому,
- И я забыл прекрасное лицо.
- Летели дни, крутясь проклятым роем,
- Вино и страсть терзали жизнь мою…
- И вспомнил я тебя пред аналоем,
- И звал тебя, как молодость свою…
- Я звал тебя, но ты не оглянулась,
- Я слезы лил, но ты не снизошла.
- Ты в синий плащ печально завернулась,
- В сырую ночь ты из дому ушла.
- Не знаю, где приют своей гордыне
- Ты, милая, ты, нежная, нашла…
- Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
- В котором ты в сырую ночь ушла…
- Уж не мечтать о нежности, о славе,
- Все миновалось, молодость прошла!
- Твое лицо в его простой оправе
- Своей рукой убрал я со стола.
Обратимся к историческому контексту. Позорное поражение в русско-японской войне 1904–1905 годов, революционная смута, предчувствие грядущей катастрофы, мировой войны, и последовавшего за ней крушения старого мира. Поэты – провидцы, они предчувствуют будущее. В годы Первой мировой Александр Блок служил в инженерной части Всероссийского земского союза, где занимался строительством укреплений и отчетностью. Он служил под Пинском на территории нынешней Республики Беларусь, здесь узнал о крушении монархии в феврале 1917 года. (Замечу в скобках, что на войну он пошел добровольно, ибо призыву не подлежал.)
В начале мая 1917 года Блок был принят на работу в «Чрезвычайную следственную комиссию для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданских, так и военных и морских ведомств» в должности редактора.
В августе Блок начал трудиться над рукописью, которую он рассматривал как часть будущего отчета Чрезвычайной следственной комиссии и которая была опубликована в журнале «Былое» (№ 15, 1919), а также в виде книжки под названием «Последние дни Императорской власти» (Петроград, 1921). Как видим, поэт не прятался в башне из слоновой кости. Гражданской активности ему было не занимать.
Итак, обратимся к центральному вопросу этой книги: совместим ли индивидуализм с общественным служением и жертвенностью? На мой взгляд, это противоречие мнимое, ибо человек – часть социума и не может быть полностью свободен от общественных интересов. Во взаимодействии с другими раскрывается смысл его существования в мире.
Еще один тонкий вопрос – о ценности человеческой жизни, которая неизбежно падает в годину военных испытаний. Блок был свидетелем патриотической истерии августа 1914 года, сопровождавшейся погромами немецких магазинов и аптек, сменившейся по ходу войны в результате бесчисленных потерь настроением, которое хорошо выразил Александр Вертинский:
- Я не знаю, зачем и кому это нужно,
- Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
- Только так беспощадно, так зло и ненужно
- Опустили их в Вечный Покой!
- Осторожные зрители молча кутались в шубы,
- И какая-то женщина с искаженным лицом
- Целовала покойника в посиневшие губы
- И швырнула в священника обручальным кольцом.
- Закидали их елками, замесили их грязью
- И пошли по домам – под шумок толковать,
- Что пора положить бы уж конец безобразью,
- Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать.
- И никто не додумался просто стать на колени
- И сказать этим мальчикам, что в бездарной
- стране
- Даже светлые подвиги – это только ступени
- В бесконечные пропасти – к недоступной Весне!
Мировая бойня привела в России к революционному взрыву.
Черты варварства и жестокости, душевной загрубелости, которые проявились в ходе Гражданской войны, приписывают исключительно жителям России, находя им объяснение в тех мерах обуздания и устрашения, которым подвергался народ в продолжение веков. Между тем все гражданские войны отличаются взаимным озверением, и на первых порах патриотическая истерия охватила население всех воюющих стран.
Существуют две присказки, которые якобы дают представление о цене человеческой жизни у нас и на Западе. Английская: «время – деньги» – и русская: «жизнь – копейка». Их сравнение якобы дает представление о ценности человеческой жизни в России и в Европе. Тотальная жестокость у нас и бережное отношение у них. Однако не все так однозначно. Сравнительный анализ преступлений, за которые XVIII веке полагалась смертная казнь, показывает, как утверждают историки, что в России таких преступлений было 60 видов, а в Англии – 200!
На Руси арестантов, даже совершивших жестокие преступления, часто называли «несчастненькими». На Пасху люди навещали заключенных в тюрьмах, угощали их куличами и яйцами.
Строго говоря, весьма сомнительно приписывать повышенную жестокость какой-либо одной культуре. Вольфганг Мюллер-Функ в своей книге «Жестокость. История насилия в культуре и судьбах человечества»[2] справедливо замечает, что в определенной ситуации каждый из нас, вне зависимости от религиозной принадлежности, накопленного слоя культуры, гуманистической личностной позиции, способен на проявление крайней жестокости. Так что жестокость совершается не только безумцами или «прирожденными» злодеями, но и вполне себе нормальными людьми. В определенной ситуации каждый из нас может оказаться на месте преступника.
Индивидуальное и общественное – как сочетаются эти две грани? Для разъяснения вопроса обратимся к другому классику, Льву Николаевичу Толстому – человеку, который не понаслышке знал о войне. Его «Севастопольские рассказы» пропитаны «окопной правдой». «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги», – частушки на слова Л. Н. Толстого, распеваемые солдатами в Севастополе. Это, по сути дела, репортажи с полей сражений позорно проигранной войны. Вся наша советская «лейтенантская проза» (В. П. Некрасов, Ю. В. Бондарев, Б. Л. Васильев, Ю. А. Богомолов, В. П. Астафьев) выросла из них. В центре – судьба отдельного человека на войне, а не взгляд сверху на перемещение воинских контингентов на карте полководцев. «Я раньше думал: „лейтенант“ звучит вот так: „Налейте нам!“ / И, зная топографию, он топает по гравию» (М. В. Кульчицкий) – современный, двадцатого века, перепев толстовских частушек.
Романтической жаждой подвига во имя отечества, которое в опасности, приподнятым и возвышенным состоянием благородного человека Лев Николаевич сполна наделяет князя Болконского, участвующего в битве под Аустерлицем. (Напомню, что сражение было бездарно проиграно, а сам император Александр едва не попал в плен.)
Князь Андрей стыдится того, что часть русского войска сбежала из-под огня. Под обстрелом французов он подбирает упавшее знамя и зовет солдат в бой.
…князь Андрей, чувствуя слезы стыда и злобы, подступавшие ему к горлу, уже соскакивал с лошади и бежал к знамени.
– Ребята, вперед! – крикнул он детски пронзительно.
«Вот оно!» – думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно направленных именно против него. Несколько солдат упало.
– Ура! – закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжелое знамя, и побежал вперед с несомненной уверенностью, что весь батальон побежит за ним.
Действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат, и весь батальон с криком «ура!» побежал вперед и обогнал его. Унтер-офицер батальона, подбежав, взял колебавшееся от тяжести в руках князя Андрея знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей опять схватил знамя и, волоча его за древко, бежал с батальоном.
Толстой Л. Н. Война и мир.Том 1, часть 3, глава XVI
Затем он получает ранение и теряет сознание:
Но князь Андрей не видал, чем это кончилось. Как бы со всего размаха крепкой палкой кто-то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову. <…> «Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются», – подумал он и упал на спину.
Толстой Л. Н. Война и мир. Том 1, часть 3, глава XVI
Нет, Л. Н. Толстой не отрицает величия жертвенных подвигов на войне, на которые идут люди в годину смертельной опасности для отечества. Но, безжалостно срывая романтический пафос, он повествует не о том, что «Есть упоение в бою у бездны мрачной на краю» (А. С. Пушкин, «Пир во время чумы»), а о силе духа рядового ратника, делающего свою работу, стоящего насмерть на отведенных рубежах. Батарея капитана Тушина тому пример.
Не отрицая благотворного влияния примеров воинской доблести на патриотическое воспитание юношества, хочу отметить, что наряду с воинскими подвигами существуют подвиги нравственные, которые в истории и для воспитания подрастающего поколения значат не меньше. Они не так приметны, и потому о них знают немногие.
Декабрист Никита Муравьев – офицер, участник войны с Наполеоном, кандидат физико-математических наук, – оказавшись в вынужденной ссылке, самостоятельно выращивал хрен и вместе с женой продавал его на местном рынке. Он прекрасно общался с крестьянами, тут же переходя с супругой на французский, и был при этом более понятен простому люду русской глубинки, нежели ссыльные народники, которые, казалось бы, по своему происхождению стояли к ним ближе.
Тоталитаризм опасен в любом его изводе, вне зависимости от идеологической подоплеки. Успех тоталитарных режимов зависит не от публичной поддержки народных масс, а только и исключительно от их равнодушия. «Кровожадность Гитлера… подчинена логике насильственного порабощения отдельного индивида государством во имя коллектива, стоящего выше с идейной точки зрения. И как ни называй этот коллектив: „класс“, „народ“, „раса“, – различия лишь внешние»[3].
Отвага нужна и в том случае, когда все вокруг говорят «да», а ты, оставаясь в явном меньшинстве, говоришь «нет». В людоедские эпохи отстаивание собственной индивидуальности и свободы требует невероятного мужества и самопожертвования. Среди мучеников свободы немало российских людей разных национальностей. И когда в «Разговорах о важном» мы ищем свои корни, то непременно находим в родной истории примеры людей, которыми может гордиться российский ребенок. Было бы по меньшей мере неразумно обойти молчанием их жизни и судьбы.
Одно дело – жертвовать собой, например, за идеи фюрера, и совсем другое – «никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей»[4]. Одно дело – сплочение на основе ненависти против кого-то, отличающегося от тебя цветом кожи, классовой принадлежностью, религией, мировоззрением и так далее, и совсем другое – сплочение на основе любви.
Я не случайно расположил классификацию «чужих» именно в данной последовательности. Для обывателя проще всего идентифицировать «врага» по внешним признакам (цвет кожи, ношение национальной одежды и прочее). Но попробуйте по внешнему виду отличить католика от протестанта! В данном случае на дьявола вам укажут правящие элиты: divide et impera – разделяй и властвуй. Старо как мир. Такой способ управления обществом оборачивается личной трагедией для всех его членов.
К глубокому сожалению, идее «арийской расы господ» поддались в том числе люди высокого интеллекта, выдающиеся передовые умы своего времени. Среди них был немецкий философ Мартин Хайдеггер. В 1933 году его избрали ректором Фрайбургского университета, а 1 мая того же года он вступил в нацистскую партию. В ноябре подписал клятву верности профессоров немецких университетов и гимназий Адольфу Гитлеру и немецкому государству и оставался членом нацистской партии до 1945 года. Принимал участие в событиях Второй мировой войны в подразделении фольксштурма.
Увы, он был не одинок, погружаясь в бездну пещерного национализма. Немецкий философ Карл Ясперс, обладая созидательным мировоззрением, сознательно уделял больше внимания не темным разделяющим эмоциям, которые дремлют в сознании каждого, а возможностям человека через коммуникацию и открытость по отношению к другим найти путь к более светлой и свободной жизни. Но и он не удержался от срыва в бездну.
Они оба были основоположниками экзистенциализма (философии существования). И оба оставили глубокий след в судьбе будущего знаменитого политического философа Ханны Арендт, исследовательницы тоталитаризма. С Хайдеггером ее, немецкую еврейку, связывали любовные отношения, что не помешало ему стать деятельным приверженцем идеологии антисемитизма.
Болезненно восприняла она письмо своего учителя Карла Ясперса, который сообщал ей, что, издавая труд социолога Макса Вебера, специально выбрал для этого националистическое издательство. В предисловии к изданию он писал, что у националистической молодежи много искреннего пыла и добрых намерений. Вебера он называл великим немцем, эталоном «немецкой природы и рассудительности». В ответном письме к нему Ханны Арендт были такие строки:
Вы понимаете, что, будучи еврейкой, я не могу ответить ни да ни нет, а мое согласие будет так же неуместно, как и мои аргументы против. <…> Для меня Германия – это мой родной язык, философия и поэзия. За них я могу и должна нести ответственность. Но я вынуждена держаться в стороне, я не могу быть ни за, ни против, когда читаю бесподобные пассажи Макса Вебера о том, что ради восстановления Германии он готов на союз с воплощением самого дьявола. И в этом пассаже для меня заключена вся суть.
