Русский авангард: принципы нового творчества бесплатное чтение
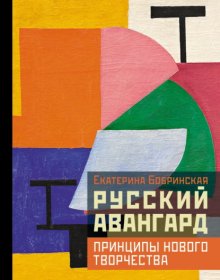
Серия «История и наука Рунета. Лекции»
© Е. Бобринская, текст, фото, 2025
© ГТГ, иллюстрации, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025
Предисловие
В эту книгу вошли тексты, написанные автором в разное время (1990—2020), однако, так или иначе связанные с изучением «принципов нового творчества» в русском искусстве начала XX столетия. Формируя этот сборник, я не стала располагать тексты в соответствии с хронологией их создания, а собрала в тематические блоки, представляющие устойчивые направления в моих исследованиях русского авангарда. Мне хотелось прежде всего представить не историю моего развития как искусствоведа, а выделить проблемные поля, привлекавшие меня на протяжении достаточно долгого времени, к которым я обращалась не раз и на разных этапах. Некоторые из этих текстов – главы из уже опубликованных книг, другие – отдельные статьи в сборниках или каталогах. В последнюю часть я включила несколько текстов из незаконченной на сегодняшний день книги о лучизме М. Ларионова.
Расположение текстов в сборнике следует принципу от общего к частному: от общих вопросов, таких как «мифология истории», мифология толп, тема нового человека или трансформация традиционных границ искусства, к проблемам индивидуальных интерпретаций «принципов нового творчества» у Е. Гуро, И. Зданевича, А. Крученых и В. Матвея или контекстуальных связей только одного течения – лучизма М. Ларионова.
Конечно, за время, прошедшее с момента публикации в середине 1990-х годов ряда статей, включенных в этот сборник, изменились представления об авангардном искусстве, появился обширный фактический материал, сложились новые методологические подходы к искусству и в моих собственных работах, и в работах моих коллег. Тем не менее я сочла возможным не вносить какие-либо корректировки в написанные ранее тексты. На мой взгляд, искусствоведческие тексты (как и произведения искусства) также представляют собой исторические свидетельства, также связаны со своей эпохой. Время, в которое они создаются, также оставляет в них свои следы, свои знаки и смыслы. Исходя из этого, я позволила себе посмотреть на собственные работы отстраненно как на исторические документы, не дополняя или исправляя несовершенства, очевидные для меня с дистанции времени.
Первоначальным стимулом к написанию многих текстов этого сборника было ощущение недостаточности формально-стилевого подхода к искусству, особенно остро, на мой взгляд, проявившееся в 1990-е в изучении русского авангарда. И тогда, в 90-е годы, и сегодня мне представляется, что социокультурные практики, переживание жизни и миропонимание (Weltanschauung) той или иной эпохи неизменно влияют на искусство, независимо от того занят ли художник репрезентаций реальности или формальными поисками, создает ли он фигуративные или беспредметные произведения. Привычки и стереотипы мышления и видения, свойственные той или иной эпохе, находят свое преломление не только в традиционном искусстве, но и в поисках «принципов нового творчества» художниками авангарда.
В моих исследованиях русского авангарда я стремилась не забывать, что манера видеть и излагать языком образов те или иные идеи, то есть то, чем всегда заняты художники, связаны с окружающим контекстом культуры, с идеями философскими, научными, социальными и политическими, с самим способом бытия-в-мире. Меня всегда интересовал вопрос: какие общекультурные мифологемы или философские и социальные концепции можно распознать в поисках художниками начала XX века новых принципов творчества, новых форм искусства. Вероятно, именно так я могу сформулировать внутренний сюжет этой книги, связывающий разные тексты.
Интеллектуальная традиция, с которой я соотношу мои собственные исследования, всегда предполагает готовность к включению в сферу внимания искусствоведа материала дисциплин, не связанных напрямую с привычной историей искусства, замкнутой лишь на произведениях художников, на истории форм и стилей. Ориентация на расширение и углубление интерпретационного пространства вокруг искусства, обнаружение порой неявных и ускользающих связей между конкретным произведением и его культурным контекстом в самом широком смысле этого слова – вот приоритеты в моих исследованиях авангарда на протяжении многих лет. Однако при всех расширениях интерпретационных полей вокруг авангарда мне всегда казалось важным удерживать связь с конкретным произведением искусства, сохранять собственную специфику искусствоведческой дисциплины, вовлекая ее во взаимодействие с другими сферами гуманитарного знания, но не заглушая ее уникального голоса.
Большинство текстов, представленных в этом сборнике, посвящено изучению тех связей, которые возникают между историей искусства и историей идей, точнее – историей расхожих мифологем, сопутствующих искусству, исподволь проникающих в изобразительный язык, а иногда в значительной мере его формирующих. Отдельно хотелось бы подчеркнуть мой интерес к стереотипам мышления, к коллективному знанию, рассеянному и в самой атмосфере культуры, и в разных текстах в массовой прессе или в массовой изобразительной продукции. Эта новая информационная и образная среда, возникающая на рубеже столетий в эпоху формирования интенсивных информационных потоков и новых массмедиа, оказала, на мой взгляд, существенное влияние на разных представителей авангардного искусства.
В предисловии к собранию этих текстов мне также важно отметить ту роль, какую сыграли в моих исследованиях труды ученых, кого я считаю своими учителями, – Д. Сарабьянова и М. Алленова. В их работах меня всегда восхищало и увлекало стремление к расширению пространства для интерпретации и понимания искусства; включение аргументов из области социально-политической истории или теологии, филологии, философии, практик социального бытования искусства или естественно-научных дисциплин. Неустанный поиск новых подходов к изучению искусства в их книгах, статьях или докладах на конференциях, а также особый опыт, навсегда оставшийся в воспоминаниях после их лекций и семинарских занятий в МГУ, неизменно был и остается для меня источником вдохновения и плодотворных дискуссий.
Наконец, я хочу с сердечной благодарностью вспомнить моих коллег из Института искусствознания и тех, кто уже покинул нас, и тех, с кем сегодня я имею настоящее удовольствие общаться на заседаниях нашего отдела искусства Нового и Новейшего времени. Многолетнюю практику, всегда доброжелательного, но одновременно – строгого обсуждения разнообразных текстов, которые создают члены нашего научного сообщества, я без сомнения могу считать не только особой научной школой, стимулирующей мои искусствоведческие изыскания, но и той дружеской средой, в которой я с равным интересом и благодарностью встречаю и поддержку, и критику своих текстов.
В предисловии к своей первой книге, посвященной русскому авангарду[1], я приводила цитату из статьи А. Михайлова. Это размышление не утратило своего значения по сей день и по-прежнему представляется мне принципиально важным при изучении искусства XX столетия. «Каждое произведение, – подчеркивал Михайлов, – есть некоторый бесконечный облик смысла, смысла, который нам одновременно дан как целое, и в то же время мы знаем, что раскрыть его до самых последних окончаний и концов мы никогда не будем в состоянии»[2]. Эти же характеристики искусства подчеркивали многие русские живописцы и поэты авангарда. «Каждый смысл, – писала, например, Е. Гуро, – вмещает бесконечность смыслов, так как смысл (закон) всякого смысла – бесконечность»[3].
Я также хочу обратить внимание на открытую перспективу моих исследований. Именно поэтому я включила фрагменты из книги о лучизме М. Ларионова, над которой работаю в настоящее время, подчеркивая незавершенность моих исследований «принципов нового творчества». Сборник этих статей я рассматриваю как возможность не столько подвести какой-то итог, сколько наметить основные линии продолжающихся сегодня и предполагаемых в будущем поисков бесконечных смыслов, которые раскрывает и в то же время скрывает искусство.
I. мифология истории
«Скифство» в русской культуре начала XX века и скифская тема у русских футуристов
«Мы на крайнем пределе веков!» – этот лозунг первого футуристического манифеста Маринетти сфокусировал в себе кардинальные для мироощущения авангарда мотивы: устремленность к предельным состояниям, к экстремальному опыту сознания, в которых пересекаются образы апокалиптические и образы «райского» бытия, вернувшегося к своим истокам. В русской культуре начала XX века многие описания истории рождения футуризма воспроизводят аналогичное видение мира у предела: «Мы словно дошли до предельной черты, за которой хаос и мрак неведения, эта конечность поражает наблюдателя наших дней, он приходит к выводу, что положенный круг бытия стремится сомкнуться, а может быть, уже и замкнут… Прислушайтесь к голосам вокруг – и вы поймете, что настало время всеобщей ликвидации… Старый мир кончен… Строительство будущего на развалинах разрушенного мира, строительство из ничего, новою божественною волею человека-творца – вот идеал футуризма»[4]. Именно этот эмоциональный фон, сопутствующий рождению авангардного искусства, определил принципиальные свойства его эстетики и сообщил многим течениям авангарда интонации мистической революционности.
В русской культуре конца XIX и начала XX века революционно-мистические настроения времени находили для себя разные сферы и формы реализации. Религиозный нигилизм сектантства и мистицизм соловьевцев, культивировавших радикальные концепции отрицания старого мира, революционное движение народников с очевидными религиозными мотивировками, неоязыческие и гностические увлечения многих деятелей искусства формировали то парадоксальное соединение политического и религиозного радикализма, которое было, пожалуй, основным лейтмотивом в русской культуре начала XX столетия. Одной из важных характеристик мироощущения, основанного на мистическом и политическом радикализме, была, условно говоря, «архаизация» культурного сознания, проявлявшаяся и в актуализации мифотворчества, и в культе бессознательных и стихийных начал, и в непосредственном историческом и археологическом интересе к архаике, и в радикальных экспериментах авангарда, иногда апеллировавших прямо к «первобытным» формам художественного творчества.
Мистический нигилизм, мистическая революционность стали также той почвой, на которой в русской культуре родился и просуществовал вплоть до начала 1920-х годов скифский миф. В конце XIX и начале XX века скифская тематика оказалась в русской культуре тем центром, в котором неожиданным, на первый взгляд, образом соединились мистические историософские концепции, оккультизм, радикальная революционность и реальная политическая практика. Увлечение скифским сюжетом преломлялось на свой манер в разных художественных объединениях, сохраняя, однако, неизменными определенные свои характеристики. Именно эти устойчивые мотивы, сопутствующие скифскому мифу, дают возможность обозначить некоторые сквозные тенденции в культуре того времени и неожиданные пересечения между, казалось бы, враждующими и противоположно ориентированными художественными течениями.
Специфический «эзотерический» и революционный подтекст скифской темы был сформирован еще до 1917 года. Однако наиболее отчетливые формы революционно-мессианской идеологии «Скифство» получает в первые годы после Октябрьской революции. Революционные события дали импульс для раскрытия некоторых тенденций времени, существовавших в культурном сознании в значительной степени на уровне бессознательного. Скифский сюжет в культуре начала XX столетия стал своего рода метафорой этих бессознательных устремлений.
Скифская мифология изначально базировалась на двух тенденциях: революционной и мистической. Главный идеолог «Скифства» как целостного культурного течения Иванов-Разумник его революционную генеалогию возводил к высказыванию Герцена в одной из глав «Былого и дум»: «Я, как настоящий скиф, с радостью вижу, как разваливается старый мир, и думаю, что наше призвание – возвещать ему близкую кончину». Образ скифа – варвара, несущего очистительную бурю в ветхий старый мир, – стал символическим воплощением революционных и нигилистических тенденций времени. Революционная линия «Скифства» всегда была окрашена в антизападнические тона. Причем важно подчеркнуть, что антизападное мыслилось тождественным антибуржуазному. «Что же есть „Скифство“, как не духовный максимализм, – писал Иванов-Разумник. – И в Европе реакционной, и в Европе революционной, в самом духе „пригожей Европы“ он (скиф. – Е. Б.) видит глубокую внутреннюю противоположность свойственного России духа „максимализма“»[5]. Неприятие «глубокой ненормальности» западного стиля жизни можно отметить и в творчестве крупнейших представителей символизма – А. Белого и Д. Мережковского. «Религия современной Европы – не христианство, а мещанство», – писал Мережковский[6]. Е. Лундберг – один из активных участников скифского движения в послереволюционное время – подчеркивал этот радикальный антизападный тон «Скифства»: «…скифство это направлено не внутрь, не те или другие настроения культивирует, а направлено против европейской культуры и метко бьет в наиболее подлые ее места»[7].
Мистическая версия скифской темы – выступавшая иногда явным, а иногда скрытым фоном для ее версии революционной – формируется во второй половине XIX века прежде всего в некоторых оккультистских и теософских кругах как один из вариантов мессианского расового мифа. Центральным мотивом скифской мифологемы как особой расовой мистики было настойчиво утверждавшееся родство между скифами и «белой расой», с которой связывались истоки европейской культуры, религии и сознания. О связях скифов с таинственным племенем гиперборейцев – часто подразумевавшимся под определением «белая раса» и игравшим в расовой мифологии конца XIX и начала XX века особую роль, писал еще Геродот[8]. Интересно, что в воспоминаниях Е. Лундберга есть эпизод, указывающий на вполне осознанное оперирование мифологемами мистической скифской истории у главного идеолога «Скифства» Иванова-Разумника. «Еще в эпоху „Заветов“ избрал Иванов-Разумник псевдоним – Скиф. С тех пор этот тон в его писаниях окреп и покрыл другие тона. „Мы гипербореи, – любовно цитирует он Ницше. – Мы достаточно хорошо знаем, как далеко в стороне мы живем от других“. „Ни по земле, ни по воде ты не найдешь пути к гипербореям“, – так понимал нас еще Пиндар. По ту сторону севера, льда, смерти наша жизнь, наше счастье»[9]. Надо отметить, что в культурном сознании XIX века существовал устойчивый стереотип восприятия России как северной страны, во многом послуживший основой для параллелей между гипербореями, скифами и русскими. «Восприятие России как страны Севера было настолько устойчивым, что даже шведы (!) воспринимали Россию и Малороссию (!) как страну севера… благодаря чему Западная Европа прямо наследует и прочно удерживает античное восприятие Скифии (отождествляемой затем с Россией) как Севера»[10].
Наибольшее распространение в десятые годы получили оккультистские и теософские трактовки скифского мифа. Согласно им скифы были непосредственно связаны с легендарным Рамом и «белой расой», спустившейся на европейскую территорию с Севера. Мистическая версия скифской темы неоднократно рассматривалась в сочинениях Папюса. В одной из статей, опубликованных в журнале «Изида», он, излагая свое эзотерическое толкование истории, подчеркивал особое значение России как центра, с которым, собственно, и была связана изначальная история мессианской расы. «Белые (под которыми в концепции Папюса прямо подразумеваются скифы. – Е. Б.) спустились с севера, из Ross-Land, или „Земли лошадей“, теперешней России»[11]. Знаменитый оккультист Сент-Ив д’Альвейдер (чья деятельность была достаточно тесно связана с Россией) отождествлял белую расу в целом с кельтами и рассматривал кельтов, туранцев и скифов как родственные племена, расы, связанные с циклом Рама[12].
Э. Шюре – член антропософского общества Штайнера (о связях штайнерианства и «Скифства» в послереволюционное время еще будет идти речь) – обращался к этой теме в духе теософской расовой теории. В своей книге «Великие посвященные», в 1910-е годы переведенной и несколько раз переиздававшейся в России, Шюре излагает в беллетризированной форме теософскую версию четырех рас, последняя из которых – белая раса – наделена особой мессианской ролью. «Расцвет белой расы (которую он в целом отождествляет со скифами. – Е. Б.) совершался под ледяным дуновением северного полюса. Греческая мифология называет белых гиперборейцами». «Скифы, сыны гиперборейцев…» – отмечает Шюре[13]. Далее в его повествовании рассказывается история преодоления скифскими племенами под предводительством Рама грубой и лишенной духовности религии друидесс и перемещения скифов в результате этой борьбы в Азию. «Великое переселение, предводительствуемое Рамой, пришло в движение, медленно направляясь в центр Азии… Он заключил дружественный союз с Туранцами, скифскими племенами с примесью желтой расы, которые занимали возвышенности Азии; он увлек их к завоеванию Ирана, откуда окончательно изгнал черных, желая, чтобы чистая белая раса занимала центр Азии и оттуда светила всем другим народам как яркий светоч»[14]. Эта история содержит в себе завязку одного из центральных сюжетов для всей скифской идеологии – перемещение мессианского центра на Восток и мотив «ухода», «отказа» от Запада.
Близкие трактовки скифского мифа можно найти и в других сочинениях теософского и оккультистского толка. Эти мифологические конструкции, разрабатывавшиеся часто в сферах, далеких от искусства, оказывались нередко основой для мифологии культурных движений.
Важно отметить, что мистический аспект скифской темы формировался, с одной стороны, на фоне кризиса ортодоксальной религии, а с другой – на фоне оживления интереса к языческим и гностическим культам и философии. Скифская мифология в русской культуре со всей очевидностью была связана с этими неоязыческими увлечениями. Кроме того, мифология «отверженности», сложившаяся вокруг нового искусства (начиная с «проклятых» поэтов Франции), нередко соприкасалась и пересекалась в это время с революционным бунтом, на знамени которого часто были начертаны имена отверженных и повергнутых богов. М. Элиаде в статье «Оккультизм и современный мир» писал об этой тенденции в искусстве Франции, проявившейся у символистов и подхваченной затем художниками и поэтами авангарда: «Они отрицали современную официальную религию, этику, социальные устои и эстетику. Некоторые из них были не только антиклерикалами, как большинство французских интеллектуалов, но и антихристианами. Они отвергали фактически все иудейско-христианские ценности, так же как греко-римские и ренессансные идеалы. Их интересовали гностики и другие секретные объединения не только из-за редкостных оккультных знаний, но также потому, что они подвергались преследованиям со стороны Церкви. В оккультной традиции эти художники искали доиудейско-христианские и доклассические (догреческие) элементы, т. е. египетские, персидские, индийские или китайские творческие методы и духовные ценности… Стефан Малларме утверждал, что современный поэт обязан преодолеть Гомера, потому что с него начался упадок западной поэзии. А когда интервьюер спросил: „Но какая же поэзия существовала до Гомера?“ – Малларме ответил: „Веды!“»[15] Очевидно, что этот процесс носил общеевропейский характер и в России его своеобразие заключалось главным образом в той особой роли, какую играли в этом движении многочисленные русские секты, соединявшие в своих доктринах глубоко архаичные элементы и революционный дух своего времени. «Я не мыслю себе Россию без этих людей и этого рода духовных движений, – писал о сектантах Н. Бердяев. – Это есть характерное русское странничество… Все эти искатели праведной жизни в Боге, которых я встречал в большом количестве, были революционерами, хотя революционность их была духовная, а не политическая. Все они были религиозные анархисты»[16].
В русском искусстве основные параметры скифского мифа были сформулированы первоначально в творчестве символистов. В конце XIX и начале XX века скифский сюжет занимал воображение многих поэтов-символистов, как правило, сопрягаясь с темой очищения, освобождения через приобщение к варварской, первозданной стихии.
У большинства символистов, обращавшихся к скифской теме, господствовали мотивы, с одной стороны, окрашенного ностальгией воспоминания о мифологических истоках, а с другой – узнавания в себе, в современном человеке, – глубинной связи с духом своих предков:
- Если б некогда гостем я прибыл,
- К вам, мои отдаленные предки, —
- Вы собратом гордиться могли бы,
- Полюбили бы взор мой меткий…
- Словно с детства я к битвам приучен!
- Все в раздолье степей мне родное!
- И мой голос верно созвучен
- С оглушительным бранным воем…
Скифская тема неизменно была связана с мотивами свободы и особым, подобным «мистической сопричастности», чувством слитности с природой:
- Мы блаженные сонмы свободно кочующих скифов,
- Только воля одна нам превыше всего дорога…
- Нет ни капищ у нас, ни богов, только зыбкие тучи
- От востока на запад молитвенным светят лучом.
Номадизм, не только как историческая форма быта скифских племен, но и как особое состояние духа, устремленного к неизвестному, пребывающего в вечном движении и странствии, был постоянным компонентом скифской темы:
- Без оглядки стремимся к другой непочатой стране.
- Наше счастье – война, наша верная сила – в колчане,
- Наша гордость – в не знающем отдыха быстром коне.
Еще один неизменный мотив скифского мифа – воинственный скифский дух и трактовка войны как очистительной, жертвенной мистерии:
- Мы – те, о ком шептали в старину,
- С невольной дрожью, эллинские мифы:
- Народ, взлюбивший буйство и войну,
- Сыны Геракла и Эхидны, – скифы…
- Мы ужасали дикой волей мир,
- Горя зловеще, там и здесь, зарницей…
- Только богу войны темный хворост слагаем мы в кучи
- И вершину тех куч украшаем железным мечом…
С темой войны в символистской мифологеме самым тесным образом связана и одна из центральных идей «Скифства» – стихия, вырывающаяся на поверхность культуры, взрывающая все ограничения, максимализм и даже экстремизм в требовании безграничной свободы:
- Стены Вольности и Прав
- Диким скифам не по нраву.
- Guillotin учил вас праву…
- Хаос – волен! Хаос – прав!
- Нам, нестройным, – своеволье!
- Нам – кочевье! Нам – простор!
- Нам – безмежье! Нам – раздолье!
- Грани – вам, и граней спор.
О значении стихийных мотивов в творчестве «младших» символистов писали многие исследователи. З. Минц в одной из своих статей подчеркивала: «…символизму 1890-х гг. зачастую присущ антиэстетизм, а символизму 900-х гг. – отождествление красоты с хаосом, дисгармонией, „стихией“»[17]. Основные сюжеты скифской мифологемы согласуются у символистов с увлечением проявлениями стихийного начала в современности. Такими значениями мифологизированных стихийных сил наделяются прежде всего понятия «народ», «природа», «революция» и различные формы сектантских движений как образцы стихийного религиозного творчества.
В культуре тех лет скифство также прочитывалось как один из мотивов, указывающих на скрытые стихийные энергии и связи с дохристианской традицией, сохранившиеся в современности, точнее – пробуждающиеся в глубинах современного духа. Кроме того, в скифской мифологеме подспудно присутствовал еще один существенный мотив: жажда не просто обновления, но – принципиально новых форм культуры, новой цивилизации. Предчувствие катастрофы, которым был пропитан воздух тех лет, связывалось часто напрямую с трагической и в то же время «желаемой» гибелью современной – христианской – цивилизации. Лундберг описывал эти настроения в своих воспоминаниях: «Историк с удивлением укажет на то напряженное ожидание мировой катастрофы, которым больны мы все… Не хочется понаслышке пересказывать конкретные случаи ожидания мировой катастрофы. О них много знают московские религиозные кружки, группирующиеся около Н. А. Бердяева и Е. К. Герцык. Московские чайные, извозчичьи трактиры, часовни с ночными богослужениями слышат то, что не звучало с петровских времен, что, казалось, замерло в скитах и на Керженце. Катастрофа мыслится раньше всего как гибель христианства»[18].
Еще одним постоянным – подспудным или выраженным со всей резкостью – мотивом в скифской мифологии символистов было роковое противостояние и противоположность Запада и Востока, воплощавших не столько географические или этнокультурные традиции, сколько два типа мироощущения, два типа человеческой породы, существовавшие извечно и извечно враждующие. «Восточные» и «западные» люди могли жить в географических измерениях, отнюдь не совпадающих с их духовным статусом. Противостояние между ними мыслилось в категориях борьбы изначальных сил человеческой истории, сопрягаясь с самыми древними формами космогонических мифов.
Проблема Востока и Запада именно как двух духовных типов и Востока как мистического исторического пути для России звучала уже у Соловьева:
- О Русь! в предвиденье высоком
- Ты мыслью гордой занята;
- Каким же хочешь быть Востоком:
- Востоком Ксеркса иль Христа?
Запад, в соответствии с устойчивой мифологией, трактовался многими символистами как страна смерти:
- Ветер с западной страны
- Слезы навевает;
- Плачет небо, стонет лес,
- Соснами качает.
- То из края мертвецов
- Вопли к нам несутся.
Но и Ex oriente lux (свет с Востока) не всегда был окрашен в однозначно положительные тона. В лагере символистов тревога в отношении этого lux была выражена, в частности, в известном стихотворении В. Соловьева «Панмонголизм», где тема рождения новой стихийной силы в человеческой истории, силы, преображающей облик мира, была представлена как пророчество о гибели России – Третьего Рима – под натиском «пробудившихся племен» Востока.
Скифство в этой дилемме духовного «востока» и «запада» получало особый статус, отождествляясь с некой третьей стихией, третьей силой истории. С одной стороны, она явно противопоставлялась западу, но с другой – отнюдь не отождествлялась напрямую с востоком. Ее выход на историческую арену означал прежде всего возврат к своим мистическим истокам и близкий конец старого мира. Иными словами, скифская мифология для символистов отражала в себе две центральные в культуре начала XX века темы: эсхатологические предчувствия катастрофических перемен и связанные с ними ожидания нового золотого века.
На фоне этой устойчивой мифологии в 1910-е годы русские футуристы (прежде всего те, кто был связан с объединением «Гилея») также обращаются к скифской теме. Основные характеристики скифского мифа футуристами были восприняты от символизма: «варварство» как спасительная сила для современной культуры, война как сфера духовной реализации, культ архаической сопричастности природным ритмам, стихийность, экстатичность мироощущения и мифология свободного кочевья. Так же как и у символистов, скифский сюжет пересекается у футуристов с увлечениями язычеством и сектантством.
В. БУРЛЮК. ОБЛОЖКА КНИГИ В. ХЛЕБНИКОВА «УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК». 1912
Как и символистское, так и футуристическое скифство окружено рядом устойчивых мотивов, сопутствующих скифской мифологии в русской культуре. Многие из них тематически не связаны со скифами, но воспроизводят настроения и мироощущение, так или иначе представленные в скифском мифе, – либо в его мистической, либо в его революционной версии. К началу 1910-х годов – то есть к моменту формирования футуристических группировок – скифский миф уже приобрел в русской культуре отчетливый эсхатологический и мессианский характер, и достаточно широкий спектр тем в футуризме был связан именно с этими характеристиками скифской мифологемы.
Пожалуй, наиболее последовательно скифскую тему разрабатывал в своем творчестве В. Хлебников, обращавшийся непосредственно к этому сюжету не раз: «Скифское» (конец 1908), «Семеро» (1912), «Скуфья скифа. Мистерия» (1916). Скифские мотивы встречаются и в других вещах Хлебникова и – что особенно важно подчеркнуть – сопрягаются иногда с его историософскими теориями, в которых порой проступают концепции скифства как «осевой», мессианской силы в истории. В своей работе «Спор о первенстве» Хлебников, весьма показательно увязывая скифскую и северную темы, замечает: «Отыскивая земное в земном, можно сказать: ум от звезд, сердце от солнца. Но Ислам возник в знойном поясе, вблизи от Солнца. Месть и страсть. Вера ума не должна ли родиться вдали от солнца, у льдов севера? Табити и холодный рассудок. Скифы. Ось»[19].
В. Бурлюк не раз обращался к скифской тематике в своих рисунках, публиковавшихся во многих программных футуристических сборниках. Воины – стрельцы или мчащиеся на колесницах всадники – были главными героями его скифских сюжетов, вполне соответствовавших тому культу воинственности, который неизменно сопутствовал скифской теме. Соединение археологически достоверных деталей в изображении костюмов и вооружения с примитивистской стилистикой, иногда непосредственно отсылающей к образцам скифской графики (вырезанным на каменных поверхностях изображениям всадников или воинов), связывало эти рисунки с той тенденцией в русском неопримитивизме, которая была ориентирована на самые архаичные пласты культуры.
Позднее, в воспоминаниях Б. Лившица, образ скифского воина – всадника и стрельца – превратился в символическую эмблему для всего русского футуризма, в которой для Лившица соединилась и расовая, и историософская мифология его времени: «…мне, охваченному нелепейшим приступом своеобразного „гилейского“ национализма, в котором сквозь ядовитый туман бейлисиады пробивались первые ростки расовой теории искусства, рисовалась такая картина: навстречу Западу, подпираемые Востоком, в безудержном катаклизме надвигаются залитые ослепительным светом праистории атавистические пласты, дилювиальные ритмы, а впереди, размахивая копьем, мчится в облаке радужной пыли дикий всадник, скифский воин, обернувшись лицом назад и только полглаза скосив на Запад, – полутораглазый стрелец!»[20]
В более эпизодической форме скифские мотивы можно отметить в творчестве других художников и поэтов, в той или иной мере связанных с гилейцами. Одним из излюбленных скифских сюжетов у футуристов стали так называемые каменные бабы – скульптуры, встречающиеся в скифских курганах или непосредственно рядом с ними. Н. Гончарова провозглашала, что именно эти «каменные пустынницы» (как именовал их Хлебников) были подлинными источниками новаторского стиля в русской живописи. На одной из картин Гончаровой («Каменная баба», 1908. Областной музей изобразительного искусства, Кострома) древний идол водружен на стол рядом с набором кистей – символичное сочетание, прямо указующее на связь творчества современного живописца и его архаических прообразов[21].
В одном из стихотворений С. Боброва скифские истуканы описаны как молчаливые зрители многовековой истории человечества, протекающей перед ними, истории, с которой они тем не менее сохраняют таинственную связь:
- В степи седеющий курган
- Ты издали заметишь темный,
- На нем – горбатый истукан,
- Он серо-желтый и огромный.
- На степи он и на закат
- Бросает неживые взоры, —
- На дымы отдаленных хат,
- На возмущенные просторы.
- Ты издали к нему взирай,
- В гигантскую обрубка муку.
- Поднимет на печальный край
- Он неослабнувшую руку…
- Он разобьет, загрохотав,
- Твои лукавые реченья…[22]
На иллюстрации Н. Гончаровой в сборнике Боброва «Вертоградари над лозами» сюжет этого стихотворения (особенно отчетливо это представлено на подготовительном рисунке) воплощен через символическое и драматическое сопоставление двух образов-знаков: крохотной христианской церквушки, затерянной в пустынных пространствах, и гигантской фигуры древнего идола, низвергнутого со своего пьедестала, но угрожающего в своем падении разрушить все вокруг. У Хлебникова в поэме «Каменная баба» (написана уже в 1919 году) воссоздается близкий мотив оживления, тревожного и воинственного вторжения в нынешний день глубинных архаических пластов, запечатленных в каменном идоле, внезапно обретшем зрение, когда на его мертвый каменный глаз сел пестрый мотылек:
- Камень кумирный, вставай и играй
- Игор игрою и грома.
- Раньше слепец, сторож овец,
- Смело смотри большим мотыльком…
- Камень, шагай, звезды кружи гопаком[23].
Игра с временными пластами – их наложение друг на друга, произвольная перетасовка, алогичное нарушение однонаправленности временного потока – путешествие по времени и игровая легкость обращения с историей, угадывающиеся в этих скифских мотивах у футуристов, в общем контексте футуристической эстетики прочитываются не просто как разрушение привычных норм восприятия, оживляющее уставшее от неизменной логичности сознание. Эта футуристическая борьба со временем и абсолютизацией исторического сознания является частью общей мифологии будетлян, со всей очевидностью отсылающей к традиционным эсхатологическим темам «выхода» из времени. «Ожившее» скифство было одной из граней этой мифологии побежденного времени и разрушенной исторической логики.
Н. ГОНЧАРОВА. КАМЕННАЯ БАБА. 1908. ОБЛ. МУЗЕЙ ИЗОБР. ИСК., КОСТРОМА
Известно, что архаичные и парадоксальные феномены творчества нередко становились для художников авангарда источником вдохновения и моделью в их поисках новых форм искусства. Кубизм Пикассо тесно связан с его интересом к африканскому искусству, сюрреалисты исследуют автоматическое письмо медиумов и диаграммы оккультистов, шаманская экстатическая практика привлекает внимание Арто и Хлебникова, алхимия вдохновляет Дюшана и Эволу. Очевидно, что данный список можно было бы расширить и продолжить без особого труда. Подобный круг интересов связан с центральной для авангардной философии творчества идеей преображения и трансформации наличного порядка вещей, методика которого открывалась часто в самых парадоксальных и неожиданных сферах. Усвоив и развив символистский образ художника-демиурга, созидающего в своем творчестве новые миры и преображающего реальность, живописцы и поэты авангарда, однако, были в значительно большей степени, чем их предшественники, озабочены поиском конкретных техник такой трансформации. Поэтому в противоположность символистской ностальгии об утраченной стихийной энергии предков будетляне стремились культивировать непосредственное ощущение скифства в собственной крови, рассматривая его как один из рычагов преображения мира.
Н. ГОНЧАРОВА. КАМЕННАЯ БАБА. ЭСКИЗ ИЛЛЮСТРАЦИИ ДЛЯ СБОРНИКА С. БОБРОВА «ВЕРТОГРАДАРИ НАД ЛОЗАМИ». 1913. ГТГ
Футуристы воспринимали скифство в большей степени как стиль – конкретный образ действий, технику творчества и «технику» поведения. Философские идеи, сопутствующие этому сюжету, были для них второстепенны. Точнее – центр тяжести в скифском мифе они переносили в сферу конкретного действия. Неслучайно скифская стилистика и скифские археологические реалии рассматривались ими прежде всего как источники для новых форм искусства, для конкретной творческой практики. Оживление, возрождение в новом искусстве этого скифского стиля способно преобразить ветхий современный мир, вернуть ему энергию молодости. Поэтому в отличие от символистов скифская тематика у футуристов приобретала не только сугубо литературный, но и своеобразный жизнетворческий характер, влияя часто на мифологию поведения и «персонажные» облики.
Уже само название кубофутуристической группировки – «Гилея» – отсылало к скифской тематике. Чернянка – имение, где в 1910-е годы жила семья Бурлюков, располагалось в легендарном месте бывшей Таврической губернии, в древности носившем имя Гилея. Гилея – древняя скифская земля, родина скифских царей. Именно здесь, как писал Д. Бурлюк, «в древней Гилее, между гирлами Днепра и Джарылгачем (полуостров, где жила Гидра, убитая в древние века Геркулесом)»[24], зарождался русский футуризм, с самого момента своего появления непосредственно соприкасавшийся со скифской мифологией. Гилейская мифология как одна из центральных при формировании футуристической группы была описана также в воспоминаниях Лившица. Причем важно подчеркнуть в этом описании, во-первых, мотив возврата к истокам и, во-вторых, связанного с ним космогонического мифа, мифа созидания нового мира: «Возвращаясь к своим истокам, история творится заново. Ветер с Эвксинского понта налетает бураном, опрокидывает любкеровскую мифологию, обнажает курганы, занесенные летаргическим снегом, взметает рой Гезиодовых призраков, перетасовывает их еще в воздухе, прежде чем там, за еле зримой овидью, залечь окрыляющей волю мифологемой. Гилея, древняя Гилея, попираемая нашими ногами, приобретала значение символа, должна была стать знаменем»[25]. То, что интерес к скифской тематике не был чистым совпадением, рожденным лишь стечением житейских обстоятельств, подтверждает также сознательное использование скифской мифологии в кругу будетлян. Так, именем скифской богини Табити было названо одно из издательств футуристов. Именно под маркой этого издательства был выпущен известный антизападный манифест Б. Лившица, Г. Якулова и А. Лурье «Мы и Запад».
Скифская тематика – зачастую в силу обстоятельств жизни – непосредственно вторгалась у футуристов в бытовую, повседневную реальность. Место жительства Бурлюков среди скифских курганов (где, кстати, в это время проводились активные археологические исследования) как будто само провоцировало на увлечение скифскими древностями. А возможность прямого, в буквальном смысле осязательного контакта с ними позволяла преодолеть музейность и академическую отстраненность в восприятии истории. Братья Бурлюки довольно активно участвовали в археологических изысканиях на гилейской земле[26]. Лившиц вспоминал, например, об участии Владимира Бурлюка в раскопках скифских курганов: «Владимир, в летние месяцы вдохновенно предававшийся раскопкам, находил скифские луки и тулы и вооружал ими своих одноглазых стрелков на смертный бой с разложенными на основные плоскости парижанками»[27].
Скифство угадывается в качестве своеобразного источника вдохновения для некоторых типично футуристических черт поведенческого стиля и жизнетворческих мифов. Кульбин именовал «богатырями Гилеи» Бурлюков и их соратников. Хлебников использовал тот же принцип мифологического уподобления в одной из дарственных надписей на книге «Игра в аду», где Гончарова названа «скифской жрицей»[28]. Эпитеты «варвары», «дикари» прочно приклеенные критикой к футуристам, также вполне соответствовали скифской мифологии, находившей свое воплощение и во взрывном, бунтарском, провокационно варварском стиле поведения будетлян. Варварство акцентировалось «богатырями Гилеи» именно как продуманный стиль поведения. При этом само увлечение скифством приобретало у футуристов свойства театральной маски, позволяющей разыгрывать на «сцене» современного им искусства определенную роль. В контексте культуры начала XX века футуристы демонстративно и прямолинейно – конечно, не без игровых и пародийных интонаций, – реализовывали символистскую мифологию стихийных творческих энергий, словно провоцируя негативную, «трусливую» реакцию у ее создателей, не желавших узнавать в них «ожившие» образы своих литературных мечтаний. Кроме того, отождествляя себя со скифами и варварами, вторгающимися в ветхий мир современной культуры, футуристы в какой-то мере проецировали на себя и мессианскую мифологию, связанную со скифским сюжетом. Определение «новые люди», ставшее одним из устойчивых самонаименований у футуристов, вполне отчетливо отсылало к разного рода мессианским мифам о новых расах и новых людях, весьма популярных в культуре начала XX века.
В этой связи важно подчеркнуть принципиальную установку футуризма именно на игровой, театрализованный стиль. «Поэзия описательная (правда жизни) и поэзия символическая, – утверждал В. Каменский, – быстро сменяются поэзией представления – где все форма, все поза, все маска, все игра»[29].
Трактовка игры и театральности в футуристических кругах во многом близка к теоретическим разработкам Н. Евреинова, в которых принцип театральности рассматривается как квинтэссенция творчества как такового – как «творчество новой действительности», как «преэстетическая» деятельность. Архаическо-революционный колорит этой теории, описывающей театрализацию как «некоего рода предискусство» и апеллирующей к глубинным и извечным архетипам человеческой психики и культуры, был сродни архаическо-революционному скифству футуристов. В теории Евреинова мистика разрушения эстетических канонов и мистика созидания нового мира соединяются самым непосредственным образом. «Человеку, — писал Евреинов, – присущ инстинкт… преображения, инстинкт противопоставления образам, принимаемым извне, образов, произвольно творимых человеком… И какое мне (черт возьми!) дело до всех эстетик в мире, когда для меня сейчас самое важное стать другим и сделать другое, а потом уже хороший вкус, удовольствия картинной галереи, подлинность музея, чудо техники изысканного контрапункта! …что мне толку в эстетике, когда она мешает мне творить свободно другую жизнь, быть может, даже наперекор тому, что называется хорошим вкусом, творить, чтобы противопоставить мой мир навязанному мне, творить совсем с другою целью, чем произведение искусства – последнее имеет в виду эстетическое наслаждение, произведение же театральности – наслаждение от произвольного преображения, быть может, эстетического, а быть может, и нет, что неважно»[30]. Чувство театральности, о котором пишет Евреинов, – «анархическое чувство каждого из нас, которое хочет прежде всего настоящего и до безумия смелого преображения»[31] – было также близко тем революционно-мистическим концепциям, которыми была буквально пропитана атмосфера культуры начала XX века. «Разве сущность театра, — подчеркивал Евреинов, – не в том, чтобы прежде всего выйти из норм, установленных природой, государством, обществом?»[32]
Н. ГОНЧАРОВА. СОЛЯНЫЕ СТОЛПЫ. 1910. ГТГ
Именно этот аспект понимания театра позволяет, как мне представляется, понять акцентированный театральный, игровой стиль поведения и – шире – «стиль» действия в культуре, разрабатывавшийся футуристами. Театрализация оказывается одной из самых парадоксальных граней их эсхатологического видения современного мира, находящегося в критической точке смерти и преображения. Она позволяла футуристам с лекгостью примеривать к самим себе различные культурные «маски», среди которых «скифская», окрашенная в революционно-мистические и эсхатологические тона, занимала одно из главных мест. Скифская мифологема воспринималась футуристами не просто как умозрительный сюжет, но, проникая в повседневную реальность, оказывалась источником ее театрализации и одновременно революционного отвержения.
Нарочитая балаганность «стиля» футуристического поведения вполне укладывалась в рамки «предискусства», а в некоторых случаях непосредственно пересекалась с эсхатологической тематикой. Своеобразные версии театрализованной (в евреиновском значении этого слова) эсхатологии – находящейся за границами эстетического – часто встречаются в творчестве Крученых. В одном из стихотворений в сборнике «Дохлая луна» он рисует во многом пародийную картину конца мира, в которой расхожие «цитаты» апокалиптической образности предстают в деформирующем и огрубляющем свете балаганного театра:
- Мир кончился. Умерли трубы…
- Птицы железные стали лететь.
- Тонущих мокрые чубы.
- Кости желтеющей плеть.
- Мир разокончился… Убраны ложки.
- Тины глотайте бурду…
- Тише… и ниже поля дорожки
- Черт распустил бороду.
Антизападнические мотивы у футуристов также связывают их с устойчивым кругом тем, сопутствующих скифской мифологеме в русской культуре. В отличие от символистов, ставивших акцент на «апокалиптической мертвенности европейской жизни» (А. Белый), футуристы отстаивают в большей мере «антизападную» форму, «антизападный» стиль действия и творчества. Большинство претензий к Западу со стороны художников и поэтов авангарда связано с некими искажениями стиля, с отсутствием в западной культуре духовных ресурсов для создания новой формы: «Европейское искусство архаично, и нового искусства в Европе нет и не может быть» («Мы и Запад»); «Мы против Запада, опошляющего наши и восточные формы и все нивелирующего» («Лучисты и будущники»). В каталоге выставки иконописных подлинников и лубков Гончарова утверждала: «Во все времена Запад Европы в своих лучших проявлениях исходил прямо или косвенно от Востока… И все же оставалась разница. Разница, коренившаяся в самом духе народов запада и востока. В большей цивилизованности первых и большей культурности, глубине духа и близости к природе вторых»[33]. Именно способность к мистической сопричастности природным ритмам, способность, коренившаяся в глубоко архаичном видении мира, составляла одно из принципиальных отличий «восточного», «азиатского», по терминологии футуристов, творческого метода, недоступного Европе. «Не во внешних обнаружениях черпаем мы доказательства нашей принадлежности Востоку, – подчеркивал Лившиц. – Несравненно глубже – наша сокровенная близость к материалу, наше исключительное чувствование его, наша прирожденная способность перевоплощения, устраняющая все посредствующие звенья между материалом и творцом, – словом, все то, что так верно и остро подмечают у нас европейцы и что им от века запрещено»[34]. Эта архаическая способность следовать за стихийными ритмами природы, как уже отмечалось, была важнейшим компонентом в скифской мифологии начала XX века.
Скифская мифологема в культурном сознании начала XX века выступала в качестве одной из примет мифологизированного типа мышления, которое в равной мере было присуще и символистам, и футуристам и, более того, пропитывало собой не только художественную, но и политическую жизнь. Процесс мифологизации культуры самым непосредственным образом был связан с идеей преображения старого мира, его трансформации в новое качество. Одно из направлений этого преображения трактовалось как обращение к истокам и первоначалам, при этом сам тип мифологизированного мышления рассматривался как пример этого истокового сознания. Другое – ставило акцент на самом процессе трансформации, на центральном сюжете практически всех мифологических конструкций – метаморфозе, переходе в новый образ, новый исторический период, новый тип культуры. Футуристы, сумевшие прочитать скифский миф сквозь призму конкретики художественного творчества, конкретного стиля действия и поведения, быть может, ближе всех подошли к той границе, когда «мифология» начинала вторгаться в реальную жизнь.
В 1917 году (а если точнее, то уже в военное время) восприятие реальности сквозь призму устойчивых мифологических структур стало основой для мифологизации конкретных исторических событий. Революции 1917 года для многих деятелей русской культуры предстали прежде всего в ореоле ожившего мифа, в котором органично уживались самые парадоксальные, антиномичные и алогичные трактовки революционных «испытаний в грозе и буре». Рассуждая о поэзии первых послереволюционных лет, Лундберг подчеркивал: «Вкус к мифу. Это сильно – в революционной поэзии; и – правильно»[35].
В первые годы после революции «Скифство» становится основой для самостоятельного течения в культуре. В 1917–1918 годах группа литераторов и общественных деятелей выпускает два номера альманаха «Скифы». Главными идеологами «Скифства» принято считать Иванова-Разумника, С. Мстиславского, А. Белого. Вокруг них сложилось объединение, в деятельности которого с разной степенью интенсивности принимали участие А. Блок, С. Есенин, Н. Клюев, А. Ремизов, В. Брюсов, Е. Замятин, О. Форш, К. Эрберг, Е. Лундберг и др. Из художников, сотрудничавших с этой группой, прежде всего надо назвать Петрова-Водкина, оформившего оба номера альманаха «Скифы». Эта группа объединила в 1917–1919 годах тех деятелей культуры (не принадлежавших к «левому» лагерю), которые приняли большевистскую революцию и пытались разработать основы для новой идеологии послереволюционного времени[36].
К. ПЕТРОВ-ВОДКИН. ОБЛОЖКА АЛЬМАНАХА «СКИФЫ»
Несмотря на целый ряд различий как в эстетике, так и в определенной далекости житейских и социальных позиций футуристов и «Скифов», тем не менее помещение футуристической мифологии скифства в общий культурный контекст времени позволяет указать на некоторые моменты, принципиальные для эстетики и мироощущения нового искусства и связывающие его с одной из центральных для русской культуры того времени тенденций.
Непосредственных контактов и совместных выступлений «Скифов» и представителей «левого» искусства в 1917–1918 годах не было. Набор авторов, перечисленных выше, на первый взгляд, совершенно далек от футуризма. Однако при более внимательном исследовании идеологии «Скифов» целый ряд мотивов и тем, разрабатывавшихся ими, оказывается актуален и для футуризма. Эта возможность определенных точек пересечения обнаружилась позднее – в начале 1920-х годов – в деятельности «Скифской академии», как именовали иногда Вольную философскую академию (ассоциацию) ее создатели[37].
Первый сборник «Скифы» был подготовлен для печати к концу 1916 года, но появился лишь после Февральской революции. Ключевым в нем был своеобразный манифест «Скифства», опирающийся на уже существовавшую в культуре мифологему и намечающий основные координаты особой скифской идеологии и основные полюса противостояний: «Племя – таинственного, легендой повитого корня, с запада на восток, потоком упорным, победным потоком брошенное в просторы желтолицых… нет Бога, который нашептал бы сомнения, там, где ясен и звучен призыв жизни. Бог скифа – неразлучен с ним, на его поясе – кованый Бог. Он вонзает его в курган вверх рукоятью и молится… Но в разрушении и в творчестве он не ищет другого творца, кроме собственной руки – руки человека, вольного и дерзающего…не Эллин противостоит Скифу, а Мещанин – всесветный, „интернациональный“, вечный. В подлинном „эллине“ всегда есть святое безумие „скифа“, и в стремительном „скифе“ есть светлый и ясный ум „эллина“… И здесь – их вечная вражда, здесь – их „смертная борьба“, борьба реакционности в самых разных масках – в маске „прогресса“, в маске „социализма“, в маске „христианства“ – с революционной сущностью, с „волей до конца“ во всех областях, во всех кругах жизни и творчества – в политике, в науке, в искусстве, в религии»[38].
Одно из важных мест в идеологии «Скифства» занимала особая мифология почвенничества, мифология освобождающейся в революционных бурях земли: «…от этой воли и проникающей все существо близости к земле… полнится и ширится грудь»; «На наших глазах порывом вольным, чудесным в своей простоте порывом, поднялась, встала от края до края молчавшая, гнилым туманом застланная земля»[39]. Эта мифология наиболее определенно выражалась в творчестве таких «Скифских» поэтов, как Есенин, Клюев, Орешин. У футуристов своеобразная мифология земли разрабатывалась еще в 1910-е годы. Как известно, русский футуризм был, в отличие от итальянского, весьма враждебно настроен к современной цивилизации, к миру машин. Вместо машинного искусства русский футуризм стремился утвердить версию искусства органического, культуры, базирующейся на естественных, природных ритмах. И особой мифологии земли – как стихии, в наибольшей мере соответствующей этой органической ориентации новой футуристической культуры, – принадлежало у будетлян не последнее место.
«Духовный максимализм», «вечная революционность», мифология Земли, упоение стихией жизни, «катастрофизм, динамизм» в восприятии исторического процесса – все эти императивы «Скифства» оказываются близки и многим футуристам. В одной из своих работ Иванов-Разумник писал о футуристах в тоне явного сочувствия определенным тенденциям внутри этого течения, а именно тем, которые позволяли угадывать в футуристах черты духовного скифства. «Хотя на зубах навязли слова о страсти разрушения как созидательной страсти, но надо помнить, что она лишь расчищает место для возведения новых ценностей. В глубине этих ценностей – душа футуризма… Футуризм… восстал против царства мертвых душ… боль, ненависть, крик приводят футуризм к „кинжалу“ – приводят его к революции»[40].
Характерно, что в некоторых исследованиях 1920-х годов, пытавшихся наметить политический контур футуризма, он оказывался в непосредственном соседстве со «Скифством». Неонародничество – этот термин по отношению к футуризму впервые применил еще в начале 1920-х годов Я. Шапирштейн-Лерс в своей книге «Общественный смысл русского литературного футуризма» (М.,1922). Почвенничество с революционным уклоном, а если следовать более конкретной политической терминологии, левое народничество – таково политологическое определение «Скифства». «Наиболее важным выражением идеологии левого народничества, — подчеркивал в своем исследовании М. Агурский, – стал сборник „Скифы“… Он объединил вокруг себя деятелей культуры, рассматривавших революцию как мессианское антизападное русское народное движение, в основе которого лежит религиозный пафос»[41].
Скифский сюжет в лагере «левого» искусства непосредственно возникает в революционные годы в манифесте, где, помимо собственной скифской мифологии футуристов, угадываются отзвуки новой революционной идеологии «Скифства», а мистико-революционный подтекст этой темы прочитывается вполне определенно. Манифест был опубликован в 1918 году в нижегородском сборнике «Без муз». Среди его сотрудников числятся многие деятели футуристического и – шире – «левого» лагеря: Н. Асеев, К. Большаков, В. Гольцшмидт, Р. Ивнев, В. Маяковский, В. Хлебников, С. Третьяков, В. Шершеневич. Сам манифест подписали В. Хлебников, Ф. Богородский, Предтеченский, А. Митрофанов, Б. Гусман, Ульянов, С. Спасский. В основе его лежит революционно-мистическая утопия создания коммуны-монастыря для поэтов и художников – «Скит работников песни, кисти и резца», как он именуется в манифесте. По сравнению с прежним воспеванием необузданной вольности и стихийности акцент ставится на новый созерцательный мотив в скифской теме, сближающий прежний образ скифского воина с образом скифского посвященного, культивировавшимся некоторыми членами скифского движения: «Седой насильник Скиф удаляется в Скит, чтобы там в одиночестве прочесть волю древних звезд»[42]. Сектантский мотив, подспудно угадывающийся за этими утопиями скифского монастыря, также отсылает к революционно-мистической проблематике, постоянно сопутствующей скифской теме в культуре начала XX века. Мистический подтекст создания новой Скифии, новой России звучит в манифесте со всей определенностью: «Руководимые в своих делах седым Начальником Молитвы, мы, может быть, из песни вьюги и звона ручьев построим древнее отношение Скифской страны к Скифскому Богу»[43]. Слово «древнее», не раз упоминающееся в тексте, отсылает к одному из центральных в скифской мифологии мотиву – мотиву истока, а новое в этом контексте прочитывается как очищенное древнее, истинное, истоковое.
Обобщая, можно выделить несколько центральных для скифской тематики в русской культуре мотивов, характерных как для символистов, так и для футуристов и «Скифов». Прежде всего это – «миф истока» и связанный с ним комплекс мессианских и эсхатологических сюжетов.
Скифская тема, непосредственно связанная с «мифом истока», в русской культуре начала XX века предполагала не только возврат к первоначальному, очищенному от энтропийных начал цивилизации видению мира, не только археологический интерес к исследованию древностей, но также определенные мессианские и расовые мифы. В европейской культуре эти концепции сосредоточились вокруг арийского мифа, сформировавшегося еще в первой половине XIX века. К началу XX столетия эта тема с наибольшей интенсивностью и последовательностью развивалась в Австрии и Германии, где к этому времени сложилось целостное ариософское движение. Ариософия, если не углубляться в эту тему, представляла собой вариант народнической идеологии, движения фёлькиш (volkisch), смешанных с теософией и оккультистской мистикой. Немецкая ариософия, соединяя фёлькиш и мифологию возврата к истокам с оккультными идеями, кроме того, испытывала сильное влияние социального дарвинизма с его резкими расистскими выводами.
Ариософская проблематика интенсивно пропагандировалась в России через Э. Метнера и издательство «Мусагет», причем она разрабатывалась не просто в германофильском, а в пангерманистском ключе. На русской почве эта линия в деятельности Метнера была окрашена в подчеркнуто антиславянские и прозападные тона. «Россия должна отстоять от Востока Запад; принять западный оккультный импульс… и защититься от оккультного ориентализма», – писал Метнер[44]. Важно также отметить, что у Метнера националистические концепции были основой для его резких выпадов против социалистической идеологии. Конспектируя и комментируя работу Х. С. Чемберлена «Культура и раса», Метнер подчеркивает: «Социализм опасен не государственной идее (ибо он есть абсолютное государство), а национальной. Социализм есть замаскированный империализм и реорганизованное мессианство»[45]. Иными словами, на русской почве ариософия оказывалась явно антискифской тенденцией. Скифская мифологема в русской культуре по своей сути противостояла сугубо националистической позиции. Неслучайно идеологи послереволюционного «Скифства» настойчиво подчеркивали его ненационалистическую окраску, используя, например, такие определения, как «вечное скифство», «интернациональное скифство» и проч. В этом плане вполне закономерны также и социалистические симпатии «Скифов».
Тем не менее скифская и ариософская темы имели в культуре начала XX столетия явные точки пересечения и в какой-то мере схожие исторические биографии. С одной стороны, параллели могут быть отмечены на уровне исторических и лингвистических концепций, разрабатывавшихся в это время. Например, в сочинениях Отто Шрадера, чьи работы переводились и обсуждались в России еще во второй половине XIX века, подчеркивалась непосредственная связь скифских и арийских племен: «Соединительным звеном между арийцами и прочими индоевропейцами могли быть только северные скифы, населявшие под различными племенными наименованиями северные побережья Черного и Каспийского морей… В основе скифских наречий лежал язык, весьма близкий к арийскому»[46]. С другой стороны, аналогичная связь скифов и арийцев утверждалась в теософских и оккультистских сочинениях. «К числу арийских племен мы причисляем также все белые народы, оставшиеся в древности в состоянии бродячем и варварском, как, например, скифы, гэты, сарматы, кельты и позднее германцы», – отмечал в своем известном сочинении Шюре[47].
Среди самих идеологов «Скифства» мистико-историческая интерпретация скифства-арийства развивалась наиболее последовательно А. Белым. В речи «Памяти А. Блока», произнесенной на специальном заседании Вольфилы, он так сформулировал свою теорию: «Россия есть первая целина, она не Восток и не Запад, она – не варвары и не эллины. Шрадер в своих работах доказывает, что первейшее праарийское племя было расселено на юге России, и что уже потом две ветки индоарийского племени расселились – на Запад и на Восток. По теории Шрадера оказывается, что была исконная раса, и что стволом, не стволом даже, а между двухствольным маленьким завитком были скифы, т. е. те первичные обитатели, которые в себе сохранили что-то от исконного, исконно арийского; и несомненно – я уже говорю теперь символически – есть какой-то образ скифианина, который встречается у нас, у современных искателей; это был “скифский посвященный”, это был духовный скиф»[48]. Россия-Скифия наделяется в концепции Белого особым значением мессианского центра – ни Востока, ни Запада, но «первой целины», где сохранилось что-то «от исконного» и где возможно новое открытие этого первичного состояния.
Очевидно, что две основные темы связывают «Скифство» и ариософию – миф истока и мессианский миф. Но если в ариософии эти мифологемы сопрягались с темой исправления и очищения современной цивилизации через очищение и исправление расы, то в России «Скифство» (подразумевавшее под скифами некую духовную расу людей) связывалось в своих глубинах не с национальной или расовой проблематикой, а с исправлением духовного состояния современного человечества, с «исправлением» христианства. «Неудавшееся» христианство – одна из центральных (особенно в послереволюционное время) тем «Скифов». Об «исправлении» христианства через духовное скифство писал неоднократно Иванов-Разумник: «Два врага стоят лицом к лицу: русский „Скиф“ и европеец, „мещанин“, новая Россия и старая Европа. И если есть у России миссия, то вот она: взорвать изнутри старый мир Европы своим „Скифством“, своим духовным и социальным „максимализмом“ – сделать то самое, что когда-то старый мир сделал в обратном направлении с духовным и социальным максимализмом христианства. Старый мир вошел в это „варварство“ и взорвал его изнутри: он омещанил собою христианство. И вот теперь миссия новой России – насытить духом максимализма „культурный“ старый мир. Ибо только этот духовный максимализм, это „Скифство“ – открывают путь к тому подлинному освобождению человека, которое так и не удалось христианству, ибо само христианство „не удалось“»
