Под другими звёздами бесплатное чтение
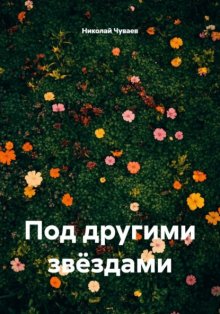
Пролог
Каменистая осыпь, нагретая за день до зноя раскалённых углей, медленно остывала, отдавая вечернему воздуху сухое тепло. Сверху, цепляясь корнями за трещины в скале, нависала одинокая берёза-коряга, её кора в бликах заката казалась чеканной. А в самом сплетении её корней, словно чёрная дыра, проваливающаяся в нутро горы, зиял неширокий, но пугающе правильный проём, привлекший внимание троих друзей – любителей находить загадки в тех местах, где, казалось бы, всё давно уже известно.
– Нет там ничего, Оганез! Почудилось, – Матвей Гладышев, снимая каску и вытирая пот со лба, устало опустился на камень. – Обычная расселина. Кончается через пятнадцать метров глиняной пробкой.
Виктор Казанцев молча кивал, сверяясь с картой на планшете. Все логичные аргументы опытного спелеолога были на его стороне.
Но Оганез Карапетян не слушал. Он стоял на коленях перед чёрным провалом – каким уже по счёту в его жизни? – уперев руки в бока, и всем существом чувствовал странность этого места. Не просто пустоту, а именно странность. Воздух, выходящий из отверстия, был не спёртым и влажным, как в любой пещере, а сухим и теплым, с едва уловимым, незнакомым запахом – словно из огромного, давно запертого подвала, где пахнет не сыростью, а пылью чужих миров.
– Нет, – тихо, но с железной уверенностью сказал он, не отрывая взгляда от темноты. – Там не пробка. Там… поток.
– Какой поток? – флегматично спросил Виктор. – Водный? Воздушный?
– Поток другой, – Оганез обернулся к друзьям, и в его глазах, обычно весёлых и насмешливых, горел непривычный огонь одержимости. – Доверьтесь. Я не могу это объяснить. Но я чувствую. Эта дыра… она не заканчивается.
Он снова склонился над провалом, и его фигура на фоне огромного алтайского неба казалась вдруг нелепо маленькой и в то же время бесконечно значительной – фигурой человека на пороге. На пороге того, что должно было навсегда перевернуть не только их жизни, но и сам мир, хотя они этого ещё не знали.
Оганез вдохнул странный, прохладный воздух и сделал шаг вперёд, в темноту, которая оказалась не концом, а началом.
Глава первая. Тоннель
Последний звонок прозвенел где-то глубоко внутри, отзвучал и растворился в майском мареве. Барнаул плыл за окнами трамвая второго маршрута, раскалённый и сонный. Казалось, сам асфальт источает пар, а с Шинного завода ветер приносил запах металла, резины и тяжёлое, сладковатое дыхание нагретого бетона.
Я ехал домой, и в кармане у меня лежал табель о завершении восьмого класса – очередная страница жизни была перевёрнута с лёгким, почти неслышным шелестом. Впереди – три месяца свободы, бесконечные, как это небо. А пока трамвай, позванивая на стыках рельсов, вёз меня через весь город.
За пару остановок до своей, я, как по команде, встал и начал готовиться. Снял с плеча сумку, достал из неё свёрнутый китель кадета МЧС. Надел его, застегнул на молнию, поправил воротник. Потом – оранжевый берет. Глупая, упрямая надежда, что в форме ты нравишься девчонкам больше. Может, дело в погонах? На моих погонах не было никаких лычек. Несмотря на все старания, я так и не дослужился до вице-ефрейтора, оставаясь в гордом, но скромном звании кадета. Просто кадета.
– «Детский сад», – хрипло, слегка задумчиво, как бы вспоминая что-то, проскрипел динамик.
Я выскочил из вагона на палящий воздух. Двор нашего дома встретил меня непривычной пустотой. Ни души. Только пыль кружилась в столбах света. И только одни качели скрипели, выписывая в воздухе упрямые дуги. На них, отчаянно закинув ноги и заплетя косички по ветру, раскачивалась моя сестра Агата, третьеклассница. Она раскачивалась как-то не по-детски, с каким-то незнакомым, лихорадочным упорством.
И тут я увидел машину. Незнакомый УАЗ. «Патриот» в самой что ни на есть люксовой комплектации, зелёный, огромный, как бронетранспортёр. С огромным багажником на крыше и заляпанными грязью колёсами. Я знал все машины во дворе – от старенькой девятки соседа до нового хёндэ дяди Миши. Этой здесь не должно было быть. Вопросы, кто и зачем, сами собой развеялись, когда Агата, зависнув в верхней точке, крикнула на весь двор, и в её голосе было столько радости, что аж сердце ёкнуло:
– Папа приехал!!!
И всё. Воздух сгустился, время сломалось. Пустота двора, скрип качелей и этот зелёный УАЗ, который вдруг стал не просто машиной, а вестником из другого, незнакомого мира, в котором существует мой отец. Папа, который уехал в командировку на «новые территории» полгода назад и чьё возвращение всегда было чем-то далёким и неосязаемым, как завтрашний день.
А сейчас он был здесь. За той дверью, в нашей квартире. И каникулы, которые только что казались просто бесконечной лентой свободных дней, вдруг натянулись, как тетива. Что-то начиналось. Что-то огромное. Я это чувствовал кожей.
Тайна висела над нашей семьей все эти месяцы, как сгусток невысказанного.
– А где у тебя батя?
– На новых территориях?
– Это что, Донбасс? Херсонская область? – не унимались мои одноклассники.
А я и не знал, что им сказать. Только пожимал плечами, чувствуя себя то ли сыном секретного агента, то ли обманщиком.
И вот сейчас, когда папа, настоящий, пахнущий дорогой и чем-то чужим, стоял в прихожей и обнимал нас всех разом, я был уверен – щелчок, и тайна станет явью.
– Пап, ну и где это? Как там? – выпалил я, едва мы отлепились друг от друга.
Отец посмотрел на меня, потом на маму, вздохнул и… огорчил.
– Нет, не могу рассказать, – он развел руками, видя мое разочарование. – Подписку давал о неразглашении. Железную. И тут, – он показал пальцем на пол нашей квартиры, – ЗДЕСЬ, ничего об этом не говорить. Ни слова.
Я почувствовал, как во рту пересыхает. Это было серьезнее, чем я думал.
– Но ты уже завтра всё увидишь. Сам, – его глаза вдруг блеснули, как у мальчишки, затеявшего шалость. – А пока… Нам надо хорошенько приготовиться. Настоящий шоппинг.
И началось. Это был не поход по магазинам, а какая-то стратегическая закупка для колонизации неизвестной планеты.
В садоводческом гипермаркете он сгреб с полок мешки с клубнями картошки десятков сортов, пакеты с семенами моркови, баклажан, томатов.
– Так уже поздно сажать! – удивилась продавщица, глядя на наши тележки. – В открытый грунт уже всё, время ушло!
– Это вам поздно! – парировал отец с такой уверенностью, что женщина только рот открыла.
Потом был магазин одежды. Мы покупали всё. Зимние пуховики, шапки, термобелье и летние шорты, футболки, платья. Полный комплект на все случаи жизни, словно мы собирались жить в месте, где за полярным сиянием сразу следует тропический ливень.
Затем – автомобильный центр. Отец, не моргнув глазом, купил огромный двухосный прицеп. И всё началось заново. Мы поехали в магазин бытовой техники и стали грузить в этот прицеп холодильник, посудомоечную машину, плиту, микроволновку, два телевизора. Казалось, он выкупает весь ассортимент.
– Папа, – не выдержал я, глядя, как он бездумно сует в терминал свою карту, – такое впечатление, что у тебя не карточка… а эмиссионный центр!
Отец расхохотался.
– Ну, почти угадал. Не центр, но хватит. Всё пригодится. Всё, – повторил он загадочно.
Последней, самой безумной покупкой стал минитрактор с целым арсеналом навесных агрегатов. Мы ухватили его в магазине мототехники буквально за десять минут до закрытия, и продавец смотрел на нас, как на сумасшедших.
Вечером наш двор напоминал склад экспедиции. Всё это богатство сияло на закате у нашего подъезда. Отец обвёл его довольным взглядом и поставил жирную точку:
– Ну, вроде всё. Завтра выезжаем. В шесть. А сейчас – все спать.
Но уснуть в эту ночь было невозможно. Воздух трещал от напряжения. Завтра «новые территории» перестанут быть абстракцией. И что бы это ни было – Донбасс, Луна или дно Марианской впадины, – мы были готовы. Почти.
Почти. Удивительно, но мы выехали действительно в шесть утра. Город еще спал, и только мусоровозы с грохотом сопровождали наш кортеж – папин увенчанный багажником и прицепом забитый до самой крыши «Патриот» был похож на корабль пришельцев в спящих улицах.
И тут до меня дошёл хитрый план отца: не тащить с собой старую жизнь, а купить новую. Сколько бы ушло времени, чтобы упаковать всю ту же посуду? Вытаскивать из квартиры старую стиралку? Матрасы? Ну да, ну да… Гениально и безумно.
Итак, мы выехали на Панфиловцев. Где всё знакомо до последнего кустика и трещинки на асфальте. Свернули на «50 лет СССР». Георгиева. Ну, это ещё ни о чём не говорит. Павловский тракт – повернули налево. Интересно. Малахова – поворот направо. Затем кольцо, Власихинская, шоссе «Ленточный бор»… И вот уже город позади, а мы едем по пустынному Змеиногорскому тракту. Куда? В Казахстан? В Тибет? Гоби?
И вот, часа через три, когда солнце стало уже хорошо так припекать даже сквозь тонированные стекла и натужную работу кондиционера, машина свернула в сторону Поспелихи, которую, впрочем, проскочила не останавливаясь. Загадок становилось всё больше и больше.
Выяснилось, что на всём протяжении нашего пути чьи-то мощные силы вовсю расширяли дорогу. Где-то уже было четыре полосы с отбойником посередине. Где-то их активно закатывали в асфальт, где-то монтировались новые мосты и насыпались насыпи. Артерия, в которую вкладывались безумные ресурсы.
– О, новая «железка»! – прильнул я к окну, увидев свежую насыпь и вспомнив репортажи местных новостей. – Это к приискам ведут. Где-то в Курьинском районе.
Отец загадочно улыбнулся. Он знал всё-таки чуть больше.
– Чуть не забыл! – воскликнул он в Курье, резко тормозя у обочины с импровизированным рынком. – Грецкие орехи есть? – это он уже к продавцу. – Давай десять килограммов!
Зачем? Загадка! Ещё одна.
Ещё пару часов спустя асфальт всё-таки резко оборвался. Мы были в каком-то низкогорье. Было пыльно и жарко. Впереди – большая, огороженная колючей проволокой территория, въезд на которую – через шлагбаум. Проверка документов и груза. Собака с милой мордой овчарки, с умными, всепонимающими глазами, обнюхивала колёса, днище, заглядывала в салон. Мы получили её молчаливое благословение. Но тут же – фитосанитарный контроль.
– Выкладывайте… И картошку, и грецкие орехи, и все остальные семена, – потребовал офицер в непривычной форме. – Так, случайно «вертолётики» клёна ясенелистного не подхватили? А семена борщевика?
Все наши сокровища обработали чем-то, гарантированно убивающим личинки всех вредителей, после чего мы проследовали на следующую площадку.
– Ну что же, теперь ждать. Минут тридцать, – сказал отец, заглушив двигатель.
Я огляделся. Площадка, засыпанная свежей щебёнкой, представляла собой прямоугольник метров пятьсот на двести. Одной узкой стороной она упиралась прямо в скалистый склон горы. И в этой горе зиял проём.
Тоннель.
Он был идеально круглым, без каких-либо опор или порталов, словно выжженный в известняке чудовищным лазером. Диаметром метров восемь. Его чёрная глубина казалась неестественной, поглощающей свет и звук. Возле въезда в тоннель горел красный глазок светофора. Безапелляционный и неумолимый.
Машины на площадке накапливались. Их водители и пассажиры, глуша двигатели, выходили и начинали переговариваться друг с другом с каким-то особым, понимающим выражением лиц. Отец тоже встретил кого-то из старых знакомых «с той стороны». Они отошли в сторону, и их тихий разговор, полный странных терминов и намёков, был слышен лишь обрывками.
Я сидел в машине, не в силах оторвать взгляд от этого тёмного круга в скале. Сердце стучало где-то в горле. Это была граница. Дверь. И она была закрыта. Всего лишь красным светом светофора, как на обычном городском перекрёстке. Но от этого становилось только страшнее и нереальнее.
Всё было готово. Мы были на пороге. И оставалось только ждать, когда зелёный свет разрешит нам шагнуть в ничто, за которым, как я теперь точно знал, скрывалось всё.
И вдруг – свистящий шум приближающихся турбодизельных двигателей. Глухой, нарастающий гул, идущий из самого нутра тоннеля. Один за другим, словно выплевываемые невидимой силой, из черного провала вырвались с десяток бронетранспортёров, а за ними – вереница большегрузов с высокими бортами и натянутым брезентом. Их было много, штук двадцать, не меньше. Колонну замкнули ещё около десятка БТРов. Они пронеслись через шлагбаумы, не останавливаясь, поднимая тучи пыли, их свинцово-серые бока сверкали в солнце.
– Золото, – коротко и без всяких эмоций ответил отец на мой немой, вопросительный взгляд. – Очень много золота. Там, – он кивнул в сторону тоннеля, – его за эти полгода уже добыли больше, чем до этого накопило человечество за всю свою историю.
И он начал рассказывать. Теперь уже было можно. Впрочем, пересказывать его сбивчивый, полный технических и не очень подробностей рассказ – бессмысленно. Это было похоже на попытку описать слепому человеку радугу. Расскажу лучше, что началось после того, как последняя встречная машина покинула тоннель и на светофоре наконец-то загорелся зелёный.
Мы въехали под каменные своды. Оказалось, что узкий тоннель расширяли: под потолком и вдоль стен была натянута металлическая сетка, и в тусклом свете аварийных ламп мы видели запылённых рабочих в касках, отщипывавших от скальной массы куски породы мощными отбойными молотками. Работа, судя по всему, велась в круглосуточном режиме, не останавливаясь ни на минуту. Грохот стоял оглушительный.
Ехали мы под землёй километра три, а затем впереди показался свет – не искусственный, а солнечный. Мы выехали на точно такую же площадку (единственное: здесь нас никто не останавливал и не досматривал)… но всё изменилось.
Да, здесь тоже было низкогорье. Такое впечатление, что мы ехали к бабушке в Солонешное. Но…
Мы из первых дней лета попали в первые дни весны. Воздух был пронзительно свеж и влажен, пах талой землёй и чем-то цветущим. Кое-где в расщелинах и на северных склонах всё ещё лежал зернистый, грязный снег. А на прогретых южных склонах, прямо из прошлогодней жухлой травы, цвели подснежники и… тюльпаны! Да, самые обычные тюльпаны, алые и жёлтые, которых у нас в дикой природе увидеть было невозможно. Южные склоны были каменистыми, но там, где они были пологими, стояли в розоватой дымке цветущие дикие яблони, вишня и… абрикосы? А на северных склонах вместо привычных берез росли дубы. Их почки только собрались набухать, но ни с чем невозможно было спутать эти величественные, приземистые деревья с кручёными ветвями. И кое-где старые сухие листья, оставшиеся с прошлого года, ещё даже и не думали опадать, шелестя на ветру, словно медные монеты.
– Папа, где мы? – вырвалось у меня, одновременно удивлённо, восторженно и испуганно.
– Мы называем всё это Тёплой Сибирью, – ответил отец, и на его лице наконец-то появилась не сдержанная улыбка, а широкое, счастливое облегчение. – А вот где это на самом деле… По ту сторону Тоннеля. Больше и лучше никто объяснить не может. Пока не может. Но посмотри вокруг. Это – наше. Теперь уже точно.
И отец начал рассказывать о географии этой местности, медленно ведя машину по свежей гравийке, которая вела в долину. Он показывал рукой на далёкие сизые хребты, на широкую ленту реки внизу, на клубы пара, поднимающиеся где-то за лесом – там, говорил он, горячие источники.
Машина, нагруженная до предела, с трудом съехала с гравийной дороги к роднику. Отец заглушил двигатель, и на нас обрушилась оглушительная тишина, нарушаемая лишь шепотом воды.
– Давайте пополним запасы, – предложил он, вылезая и потягиваясь. – Вода здесь чистейшая.
Я, выбрался из заднего ряда, где делил пространство с сестрами, и глотнул воздух полной грудью. Я первым подошел к свежему срубу, из которого бежала вода.
– Ой, холодная! – пискнула сзади Агата, тыкая пальцем в струю и тут же отдергивая руку. – Как из морозилки!
Алёнка же не полезла к воде, а присела на корточки, увлеченно ковыряя что-то в рыхлой земле у корней огромного, незнакомого дерева.
– Смотли, какой кам! – радостно прощебетала она, подбегая ко мне и протягивая зажатое в кулачке. – Бистит!
Я взял у нее из руки тяжелый, неровный камешек. Он был теплым на ощупь. И тогда солнечный луч упал на него, и он вспыхнул. Не желтым, а каким-то глубинным, рыжим огнем. У меня перехватило дыхание. Это не могло быть правдой
– Па… Папа, – голос у меня сдал. Я просто протянул руку.
Отец взял самородок, покрутил в пальцах, и на его лице расплылась спокойная, знающая улыбка.
– Ну вот, – сказал он, глядя на всех нас. – Алёнка только что нашла свою первую зарплату. Настоящее золото.
– Что?! – мама ахнула, бросившись смотреть. – Прямо под ногами? Не может быть!
– Может, – отец невозмутимо открыл багажник и достал электронные весы. – Здесь много чего может. Девятнадцать грамм. По нашим местным законам, Алёнка, ты теперь богачка. Все, что меньше тридцати грамм, можно оставить себе.
– Ура! – закричала Агата, подпрыгивая на месте. – Алёнка, ты молодец!
– Но это, сынок, еще цветочки. Эти горы так и называются – Самородные.
– Золотые горы… – задумчиво прошептала мама, с опаской оглядывая склоны, словно ожидая, что они вот-вот засверкают целиком. – И мы будем тут жить? Среди этого?
– Будем, – твердо сказал отец. – И не только мы. А теперь садитесь. Хотите увидеть два моря сразу?
– Море? – мама снова оживилась, ее практицизм отступил перед детской мечтой. – Два? И далеко?
– Рукой подать. Километров двадцать.
– Ура-а-а! Море! – завопила Агата, запрыгивая в машину.
– Мо-е! – подхватила Алёнка, тыча пальчиком в свой самородок.
Мы тронулись в путь, и теперь пейзаж за окном читался иначе. Это были не просто красивые горы. Это были Самородные горы. И где-то совсем рядом, за этими хребтами плескались целых два моря. Одно – тёплое и ласковое, но с низкими, болотистыми берегами. Зимой не замерзает, и его, не мудрствуя лукаво, назвали Южным. Другое – суровое и холодное, в его свинцовые воды с шумом обрываются скалы Самородных гор. Даже летом по нему плавают сизые льдины, и имя ему дали соответствующее – Северное.
– А как между ними ходить? На корабле? – не унималась Агата.
– Можно и на корабле, – объяснял отец, лавируя между скалами. – Там две большие реки, Ануй и Чарыш. Мы их так назвали, уж простите за скромную фантазию. Они на равнине так переплетаются, что по их протокам можно проплыть из одного моря в другое.
Я смотрел в окно, на мчащуюся рядом реку, которую отец назвал Чарыш. Она была в разы мощнее и полноводнее своей алтайской тезки. Затем, после долгих часов по ущельям, где некоторые пики вздымались до небес, не уступая славе Эльбруса, нас встретил и Ануй. Он, как и его алтайский собрат, был мутным от горной взвеси и с грохотом несся по камням, но сила его была иной – он казался в десять раз полноводнее и могучее.
А когда солнце начало садиться, окрашивая самые высокие пики в розовый цвет, мы наконец увидели первые огни и табличку с надписью: «Дубровский острог».
Я проснулся. И не понял, где я.
Не то чтобы я испугался. Сознание всплывало медленно, вязко, как со дна темного озера. События двух предыдущих дней – безумный шоппинг, дорога, тоннель, золотой самородок – висели в памяти тяжелым, нереальным грузом. Может, это был сон, который только что закончился? Или же он продолжался, и я все еще в нем нахожусь?
Нет, действительно. Где я?
Я лежал, не двигаясь, и по капле собирал информацию. Под спиной – непривычно скрипящий надувной матрас. Под головой – чужая подушка, отдающая легким запахом стирального порошка. Легкое одеяло сползло на пол, и утренняя прохлада щекотала кожу.
Я повел глазами по сторонам, не поднимая головы. Стены. Никаких обоев – толстые, пахнущие смолой и древесиной бревна. Потолок был собран из светлой вагонки, и в окно пробивался солнечный свет, рисуя в немного пыльном воздухе длинные, узкие лучи. Плотная, звенящая тишина, в которой слышалось лишь собственное дыхание и отдаленный, незнакомый щебет птиц.
Медленно, будто боясь спугнуть хрупкое равновесие этого мира, я приподнялся на локте. Матрас скрипнул. Я повернулся к окну – неширокому, с деревянной рамой.
И выглянул.
Узкая улочка из утоптанного гравия. Противоположная стена такого же бревенчатого дома. А за ним, выше крыш, в утренней дымке, поднимались в небо суровые, покрытые лесом склоны. Не алтайские предгорья. Другие. Совсем другие. Высокие, неприступные, с зубчатыми гребнями, розовеющими на восходе.
И тут память накрыла меня с головой, как ледяная волна. Тоннель. Светофор. Перевал. Самородок. Два моря. Дубровка.
Это не сон. Это – правда.
Я резко сел на кровати, и скрип матраса прозвучал уже не как досадная помеха, а как первый звук нового дня. Дня в Тёплой Сибири.
Я начал ходить по дому, на цыпочках, стараясь не скрипеть половицами, и по кусочкам собирал вчерашний рассказ отца. Дом был новым, пахнущим оцилиндрованной сосной и свежей краской. Сруб, мощный бетонный фундамент, целых четыре комнаты на первом этаже и мансарда под крутой двускатной зеленой крышей. Я чувствовал себя не наследником, а скорее первооткрывателем в этих хоромах, построенных за неделю до нашего приезда.
Из-за одной двери доносилось ровное дыхание родителей, из другой – тихий шепот Агаты и Алёнки, которые уже проснулись, но боялись выйти в незнакомое пространство. Третья комната – моя. А в кухне царил хаос переезда: ящики, коробки, на скорую руку расставленная посуда. Зато в самой большой комнате, гостиной-столовой, основательный порядок: дубовый стол, как остров стабильности, и полдюжины стульев. На стене висело ружье – молчаливое напоминание, что мы не на дачу приехали.
Я поднялся по крутой лестнице на мансардный этаж. Здесь было просторно, пусто и тоже слегка пыльно. Две большие комнаты-пустыри, которым лишь предстояло стать царством игр и взросления моих сестер. Но меня манило не это. Я подошел к широкому окну, вделанному в фронтон, распахнул его – и ко мне ворвался целый мир.
Воздух. Незнакомый, непривычно тёплый, густой. Он пах влажной землей, цветами, которых я не знал, и какой-то сладкой травой, утренними загадками и надеждой, смешиваясь с едва уловимым ароматом хвойных опилок и смолы. Этот воздух я запомнил на всю жизнь.
Справа, почти вплотную, стеной стояли горы, их склоны, обращенные к северу, поросли теми самыми дубами, что дали имя поселку – строго-официальное Дубровский острог или по-простому, Дубровка. Весь он лежал передо мной как на ладони: десяток таких же срубов, маленький магазинчик с вывеской «Продукты», пустая площадка – «здесь будет школа», как сказал вчера отец. Дороги, темные от недавнего дождя, были посыпаны острым, колким щебнем – отходами от работы золотодобывающей драги.
А слева, за небольшой поляной, заросшей сочной, почти тропической травой, виднелась тихая, блестящая на солнце протока. И за ней – сплошная стена незнакомых высоченных деревьев. А дальше, за этой зеленой стеной, лежало Вязовое болото. Где-то в его глубине, в той самой протоке, драга день и ночь мыла золото. И эта же протока, в результате этих работ, должна была превратиться в канал для океанских судов. Соединить два моря. Мысль была настолько грандиозной, что в нее не верилось. Пока здесь царили лишь утренняя тишина и спокойствие.
– Вы, – раздался за завтраком голос отца, – вообще-то самые первые дети в этом поселке. Можете начинать гордиться.
Отец ушёл на работу, бросив на прощание ироничное: «Все деньги мира сами себя не заработают. И канал, соединяющий два океана, сам себя не построит». Но перед уходом он, не говоря ни слова, снял со стены в гостиной «Сайгу» и перевесил ее на веранду, на самый видный гвоздь. И, как выяснилось, не зря.
Я сидел на этой террасе, развалившись в плетеном кресле, и пытался вникнуть в инструкцию к мини-трактору. Да, мне – одному из трех детей во всем этом молодом поселке – предстояло вполне себе взрослое дело: освоить железного коня и вспахать ту самую полянку между домом и протокой. Бумага была белой и невыносимо блестела на солнце, строки сливались, слова упорно не хотели складываться в смысл.
Я отвел глаза от ослепляющего текста, чтобы дать им отдохнуть, и взгляд упал на сестер. Агата и Алёнка, счастливые и беззаботные, возились в куче песка, оставшейся после стройки. Они строили замки, их смех был единственным звуком, нарушавшим утренний покой.
А затем. Сначала я подумал, что это галлюцинация – игра света и тени в листве на опушке. Но тень отделилась от стволов и сделала плавный, неслышный шаг вперед. Огромная кошка. Шерсть – золотистая, в черных розетках. Мускулы играли под кожей при каждом движении. И она смотрела. Не на меня. Смотрела на песочницу, где мои сестры, ничего не подозревая, лепили куличики.
Время замедлилось, почти остановилось. Мыслей не было. Была только одна, пронзительная и ясная, как удар колокола: «Стена. Веранда. Ружье».
Я сорвался с места. Рука сама потянулась к прикладу «Сайги». Движения были резкими, отработанными. Я вскинул оружие, поймал в прицел золотистый бок, уже напрягшийся для прыжка, и изо всех сил нажал на спуск.
Грохот выстрела ударил по ушам, оглушил, разорвал тишину на клочья. Эхо покатилось по склонам, будто горы вскрикнули от неожиданности. В тот же миг леопард – да, это был он – дернулся, кувыркнулся на месте и затих, и алое пятно проступило на его царственной шкуре.
В наступившей оглушительной тишине я услышал лишь свой собственный прерывистый вздох и испуганный плач Алёнки, которую Агата инстинктивно прикрыла собой.
Первым на выстрел прибежал дядя Егор, наш сосед из дома напротив. Оторвавшийся от ремонта «буханки», он был в засаленной рабочей робе и с сигаретой в углу рта. Окинул взглядом ситуацию: я с ружьем, сестры, притихшие у песочницы, и тушу на земле.
– Так, – выдохнул он, выпустив струйку дыма. – Все живы? Ну, кроме хищника. – Он подошел к леопарду, ткнул ботинком в бок, оценивающе осмотрел. – Молодец, меткий стрелок. Кадет, говоришь? Зачёт по огневой сдал. На отлично. Я за инструментом. А девчонки пусть выходят, дальше играют. Нечего им тут дрожать. – Он обернулся к Агате и Алёнке и махнул рукой. – Всё, порядок. Теперь они, – дядя Егор кивнул на леопарда, – сюда пару дней точно не сунутся. Чуют. Да и этот, видать, не местный был, раз так к домам подобрался. Нарывается.
Он ушёл и минут через пять вернулся с парой специальных, отточенных ножей и свертком бечевки.
– Снимал когда-нить шкуру с леопарда? – спросил он деловито. – А вообще хоть с кого-то? Ну, давай учиться. А то на жаре туша мигом испортится. Не пропадать же такому добру… Из шкуры коврик в гостиную выйдет, первоклассный.
Мама в это время бегала вокруг нас и суетилась, теребя в руках телефон.
– Как связаться с Николаем? Надо ему позвонить, сказать, что всё в порядке, что у нас тут… – она с ужасом посмотрела на окровавленную тушу.
Дядя Егор, не отрываясь от работы, пожал плечами.
– А зачем? Успокойся, Ирина Викторовна, придёт – сам всё увидит. Он и так уверен, что у вас всё хорошо, не надо его в этом разубеждать. А хищники… – он провел лезвием по шкуре, раздался неприятный влажный звук, – уйдут сами, со временем. Чем больше цивилизации – тем меньше хищников. Закон природы.
Я стоял над тушей, пахнущей кровью и диким мясом, и слушал этот спокойный, будничный разговор. Выстрел, смерть, разделка добычи – всё это было не ЧП, а частью здешнего распорядка. Частью той самой «цивилизации», которую мы здесь строили.
Вечером отец, вернувшись, только улыбнулся, глядя на сохнущую в тени веранды после первичной обработки шкуру. Идея с ковриком ему не понравилась:
– Давайте лучше комбинезон Алёнке сошьём. В садик будет зимой ходить – всем на зависть.
Затем мы вдвоем занесли в дом и подключили холодильник, электроплиту, микроволновку. Смонтировали раковину. Присели на секунду на новые стулья, чтобы перевести дух, и отец тут же спросил:
– Ну, что там непонятного с трактором? Покажешь?
Оказалось, что всё было более-менее просто. Почти как когда-то в нашей старой «Ладе-Калине», на которой он учил меня азам ещё в двенадцать. Сцепление, тормоз, газ, три передачи вперед и одна – назад. Я сел за руль, отец показал, как выжимать декомпрессор. Двухцилиндровый дизель кашлянул дымком, вздрогнул и приветливо заурчал. И с первой же попытки мне удалось плавно тронуться с места. Это была странная, почти первобытная уверенность – будто я и правда родился, чтобы водить трактора по целинной земле другого мира. К обеду следующего дня поляна была вспахана – на всякий случай, на три раза: вдоль, поперёк и по диагонали.
Энтузиазма в засаживании целины картошкой у меня прибавилось сразу после… визита в местный магазинчик. Список, с которым меня отправила мама, был невелик: хлеб, молоко, сахар. Но цифры на ценниках заставили меня замереть в проходе. В Барнауле на эти деньги можно было бы купить хороший электросамокат. Или очень неплохой смартфон. Спасало лишь то, что у отца был тот самый «эмиссионный центр» – пластиковая карта, которую он оставил маме.
– Цены здесь как на Клондайке в эпоху Золотой лихорадки! – с возмущением доложил я, сгружая покупки на кухонный стол.
– Почему «как»? – парировала мама. – Мы как раз на этом Клондайке и сидим.
Стало ясно: бороться с местной инфляцией можно было только одним способом – производством продуктов собственными силами. И я с новым рвением принялся за дело.
Я уже заканчивал высаживать в мягкую, прохладную землю последние клубни, как сел на крыльце перевести дух. Взгляд мой упал на то, что было загадкой с первого вечера. На коновязь.
Столб, намертво вкопанный возле того места, где по плану должны были появиться ворота. Странное дело: никто в посёлке не держал лошадей. Передвигались на мотоциклах, уазиках, а в основном – пешком. Но то, что это была именно коновязь, знакомая по поездкам в Горный Алтай, сомнений не вызывало. Она стояла тут, как немой вопрос.
И вдруг я услышал чёткий стук конских копыт о щебень. Всадник, появившийся на дороге, был словно пришелец со страниц учебника истории. Лет ему было, наверное, около тридцати, но понять точно мешало бородатое, обветренное лицо, увенчанное головным убором, чем-то напоминавшим красноармейскую будёновку. Он был одет в рубаху и штаны из грубой, домотканой материи, без единой пуговицы. На ногах – что-то среднее между валенками и сапогами из мягкой, потертой кожи. Он ловко, почти беззвучно спрыгнул с коня, стремян у которого не было, привязал повод к тому самому столбу и уверенно направился к нашему крыльцу.
Здесь его уже ждала мама, вышедшая на шум.
– Николай… сказать… тебе… бери… – его речь была медленной, он путал порядок слов, а акцент был настолько густым и незнакомым, что понять его было трудно. Он протянул маме грубый, обожжённый глиняный сосуд, похожий на маленький бочонок.
– Спасибо! – мама, немного опешив, взяла подарок. – Ты – Аржан? Муж просил тебе передать. Подожди, не уходи!
Она юркнула в дом и вернулась с самой обычной пилой-ножовкой, купленной в барнаульском строительном целую вечность – четыре дня назад. Гость, увидев блеск зубьев, замер, а потом его лицо озарила такая радость, словно ему вручили царскую корону:
– Женщина! Спасипа! Николай! Хорошо! – он схватил пилу и сделал стремительный разворот, явно опасаясь, что мама передумает.
– Подожди! – снова остановила его мама. – Вот это. Сёстрам. – и сунула ему в свободную руку кулёк леденцов.
Он кивнул, уже не пытаясь говорить, вскочил на коня и исчез за поворотом так же быстро, как и появился.
– Кто это был? – выдохнул я, подходя к маме.
– Местный житель. Из племени «сынов степей». Или, как их называют наши, – скифы, – ответила она, внимательно разглядывая глиняный бочонок, в котором плескалось самое обычное, ещё тёплое парное коровье молоко. – Скоро мы с ними познакомимся получше. Похоже, отец уже начал налаживать связи.
Глава вторая. Ежевика
Мягким тёплым утром мы с отцом сидели на крыльце, пили чай, и он, как заправский диктор, зачитывал вслух свежие перлы из «тамошнего» интернета. Связь с Тёплой Сибирью работала по принципу «посмотреть можно, а написать – нет». Односторонний канал. Цензура, конечно, железная – никто с «той стороны» не должен был догадаться, что мы тут, по сути, строим новую версию России.
– Слушай, слушай! – воскликнул он, отхлебнув из кружки. – «Аналитики BBC предупреждают: Россия ТАЙНО распродаёт свой золотой запас. Это говорит о неминуемом провале империалистических амбиций Кремля и скором экономическом коллапсе».
Мы переглянулись и дружно прыснули со смеху. Наша «дача» здесь, в Дубровке, стояла буквально на золотом песке. И по речному пути к порту Славноморска драги добывали его столько, что вопрос стоял не «где взять?», а «куда девать, чтобы не обвалило рынок?». Мы-то знали, что если Россия и продаёт золото, то лишь потому, что его физически негде хранить.
– Ну, «коллапс», ясное дело, – я утер слезу, засовывая в рот бутерброд с чёрной икрой, добытой из пойманного на удочку вчера вечером в нашей протоке осетра. – Совсем прижали нас, помираем прямо под гнётом санкций, какой там уже пакет? Двадцать шестой?
– Тише, громче не надо, – усмехнулся отец, переходя к более серьёзным темам. – Кстати, о политике. Нашей, местной. Ты в курсе, что через пару недель у нас тут выборы?
Я покрутил пальцем у виска. Выборы здесь, где леопарды в соседнем лесу имели больше прав, чем некоторые чиновники? Казалось абсурдом.
– Ага. Выбираем Губернатора и Временное, но чуть более постоянное, Законодательное Собрание. – Отец сделал паузу для драматизма. – Этот самый губернатор, если что, войдёт в историю. Ему предстоит официально попроситься в состав России. Так сказать, оформить наши отношения с Родиной.
– И кто у нас главный претендент на это историческое попрошайничество?
– Оганез Карапетян. Тот самый, что тоннель нашёл. Мужик, в общем-то, герой и стратег. Но, как водится, нашлись те, кому он поперёк горла встал. Кому армянин, кому коммунист… – отец развёл руками. – В общем, оппоненты его решили не мелочиться. Они не просто против него – они вообще против того, чтобы с ним даже… в туалет сходить на одном поле.
– И что, уходят в глухую оппозицию?
– Куда там! – отец расхохотался. – Они новый регион придумали! «Скифию». И будут вступать в состав России отдельным парадом. Самое забавное, – он многозначительно ткнул пальцем в сторону нашего огорода, – что их «суверенное государство» начинается прямо за нашим забором. Граница, на минуточку, проходит по фарватеру протоки. Представляешь? Ты картошку полешь, а по ту сторону воду черпает, условно говоря, министр иностранных дел Скифии.
– И что, это серьёзно? – не поверил я.
– Абсолютно. Они сейчас среди местных племён ведут активнейшую агитацию. Язык учат, меновую торговлю налаживают. – Отец хитро подмигнул. – Выходит, наша домашняя политическая склока неожиданно пошла на пользу межцивилизационному диалогу. Благодаря ей, «сыны степей» быстрее узнают, что такое пила-ножовка и леденцы «Барбарис». Так что пусть себе дерутся. Пока они границы чертят, мы тут, на стыке миров, цивилизацию по кирпичику собираем. И, между прочим, картошку сажаем. И грецкие орехи. Да, кстати, ты тоже голосуешь, – огорошил отец, как о чём-то само собой разумеющемся. – Тутошний парламент, учитывая местные особенности… ну, подростков, которые поднимают сельское хозяйство и защищают мирных жителей от нападений хищников… снизил возраст активного избирательного права до пятнадцати лет.
– Что, правда? – воскликнул я и чуть не упал с раскладного стула. Это было то, о чём я зачем-то мечтал: проголосовать на настоящих выборах, а не за какого-нибудь кандидата в бесполезные «президенты Лицея»!
В тот же день после обеда мне довелось стать участником самой настоящей этнографической экспедиции. Пусть она была самодеятельной и финансировалась из нашего с отцом кармана, а не из академических грантов, дух в ней царил сугубо научный.
– Артём Сергеевич, – представил отец мужчину лет тридцати пяти в потертых джинсах и практичных кроссовках, с рюкзаком за плечом, набитым техникой до отказа. – Доктор исторических наук, между прочим. В командировке у нас. В очень длительной, как и все мы.
Ученый скептически окинул взглядом наш трактор с двухосным прицепом, но, разглядев уютные самодельные скамьи и продуманность погрузки, смягчился.
– Итак, – начал он свой инструктаж, и в его глазах загорелся огонь одержимости, – фиксируем абсолютно всё. На все виды носителей. Фотографируем, снимаем видео, пишем звук. Мы с вами – первые и последние свидетели уникальной культуры, еще не тронутой нашим влиянием. Через год она начнёт необратимо размываться. Увы, таков закон бытия…
Из его дальнейших объяснений вырисовалась цель: сегодня у скифов начинался большой племенной праздник. Не просто ярмарка, а место силы, куда стекались окрестные кочевья. Сулили скачки, странную музыку, а возможно, и свадебные обряды. Помимо научного интереса, была и суровая практика – на что-нибудь, вполне обычное для нас, но диковинное для кочевников – тот же складной ножик или зеркальце, можно было выменять пару быков или дюжину баранов. При наших местных ценах на тушёнку это было актуальнее любой теории.
Мы преодолели протоки по зыбким бревенчатым плотам и вырвались на простор первой террасы противоположного берега. Через час, оглушённые рёвом мотора и открывшимся видом, мы были на месте.
На широкой, упитанной солнцем поляне, под сенью исполинских болотных вязов, раскинулось стойбище. Пёстрые, словно крылья гигантских бабочек, юрты. У коновязей – кони в ярких попонах, нетерпеливо бьющие копытом. Люди в одеждах из грубой шерсти, цвета земли и выгоревшей травы. Их лица – почти что наши, сибирские, но будто прошитые ветрами и отлитые в бронзе иного солнца.
– Натуральные краски, они такие, приглушённые, – пояснил Артём Сергеевич, жадно щёлкая камерой. – О, смотри! Настоящий скифский лук! Сейчас, кажется, будут…
Но посмотреть мне не дали. Ребятишки, а следом и взрослые, плотным кольцом окружили трактор, ощупывая взглядами каждый болт. Они смотрели на него не как на машину, а как на явившееся чудо. Артём Сергеевич, переговорив с вождём, махнул мне рукой: «Валяй!»
И я понял, что могу сделать этих детей счастливыми ценой малого – всего-то прокатить их на этом железном диве. Я усаживал их в прицеп, десяток за десятком, и возил вокруг стойбища, а их восторженные крики сливались с рёвом дизеля. А потом, чтобы придать волшебству вкус, я поил их «Тархуном» и «Байкалом», наливая в пластиковые стаканчики шипящую, цветастую жидкость из огромных бутылей.
И всё же… один взгляд не давал мне покоя.
Девочка. Лет двенадцати. Она стояла в стороне, создавая вокруг себя невидимый, но ощутимый круг отчуждения. С ней никто не играл, не заговаривал. Её не обижали – нет, её старались не замечать, обходя стороной с какой-то древней, инстинктивной опаской. «Да что за буллинг такой?» – возмутился я про себя. Налил полный стакан «Байкала» и поднес ей.
Она взяла его охотно, одним движением запрокинула голову и выпила, на секунду прикрыв глаза странного, слегка зеленоватого оттенка. Из-под платочка выбивалась рыжая, как лисий мех, прядь волос, а нос украшали веснушки. «Неужели они считают её некрасивой?» – мелькнула у меня наивная мысль.
Внезапно появился Аржан – тот самый всадник, что привозил нам молоко. Он что-то быстро, с напряжением в голосе, стал объяснять. Я позвал Артёма Сергеевича.
Тот слушал, и лицо его становилось всё серьёзнее. «Девочку укусила лиса, – перевёл он, подбирая слова. – Тридцать дней назад. Лиса была с пеной у рта, кусала всех подряд. Животных, которых она покусала, пришлось забить. А это… сестра. В неё вселился дух больной твари. Он может проявиться в любой миг, и тогда она обратится в зверя. Её нельзя убивать, но… ей осталось недолго. Её нужно бояться».
И тут, холодной волной, до меня всё дошло. Картинки из учебника биологии, рассказы отца…
– Папа! – закричал я, и мой голос перекрыл гул праздника. – Это не дух! Это вирус бешенства! Её нужно спасать, сейчас же!
Наступила резкая, оглушительная тишина. Весёлый гул праздника словно выключили. Все взгляды – и скифов, и отца с профессором – уставились на меня. Аржан нахмурился, не понимая слов, но отлично чувствуя панику в моём голосе.
Артём Сергеевич первый пришёл в себя. Он резко повернулся к Аржану и затараторил на ломаном, но понятном для того языке, тыча пальцем то в девочку, то в свой висок. Он повторял какое-то их слово, должно быть, означающее «болезнь», «яд» или «смерть».
Отец был уже рядом. Его лицо стало жестким и собранным, каким оно бывало только на работе.
– Ты уверен? – коротко бросил он мне, но по его глазам было видно – он уже всё понял и проверил в уме симптомы.
– Лиса с пеной у рта, кусает всех… Пап, это же классика!
Тем временем диалог Артема Сергеевича с вождем и Аржаном накалялся. Учёный что-то яростно доказывал, размахивая руками, вождь с мрачным недоверием качал головой. Для них дух – это реальность, которую нужно ублажить или переждать. А тут какие-то чужаки с «железным конем» говорят о невидимом черве в крови.
– Аржан, слушай! – отец шагнул вперёд, перекрывая спор. Он не знал языка, но его жест был красноречив: он схватил свою рацию с пояса, показал на неё, потом на трактор, потом на запад, в сторону Дубровки, и, наконец, ткнул пальцем в девочку. Посыл был прост: «Я могу позвать людей и технику. Силу. И мы заберем её, хотите вы того или нет».
Артем Сергеевич тут же перевел суть, а не слова.
Аржан посмотрел на отца, потом на испуганную, но всё ещё отстранённую девочку. В его глазах боролись вековой страх перед «духом» и новое, зародившееся доверие к людям, которые дали ему пилу и конфеты. Он что-то тихо и решительно сказал вождю.
Тот помолчал, потом тяжело вздохнул и кивнул.
– Говорят, забирай, – выдохнул Артем Сергеевич, вытирая пот со лба. – Говорят, раз уж ваш шаман утверждает, что духа можно изгнать, пусть он этим и занимается. Это их логика. У нас есть немного времени, пока они не передумали.
Через пять минут девочка сидела в прицепе трактора, закутанная в папину куртку. Она смотрела на меня своими зеленоватыми глазами, полными не страха, а смутного любопытства. Я дал ей еще один стакан «Байкала».
– Держись, – сказал я ей тихо, хотя знал, что она не понимает. – Мы тебя вытащим.
И мы её спасли. Конечно же, спасли.
Славноморский травмпункт встретил нас стерильным светом и недоуменным взглядом медсестры, только-только прибывшей «с той стороны» и ещё не успевшей освоиться в здешних странностях.
– Свидетельство о рождении? СНИЛС? Полис? – механически выдохнула она, пока врач готовил шприц.
Мы все держали девочку за руки, шептали успокаивающие слова, зная, что она не понимает ни единого. Как не понимала и эта женщина в белом халате, для которой мир пока делился на документированный и… несуществующий.
– Откуда! – сгоряча бросил отец. – Она же из степи. Её ветер документировал, а страховало солнце.
Укол поставили. Она вскрикнула, коротко и горько, и сжала мои пальцы так, будто я был единственной скалой в бурном потоке её страха.
– А зовут-то её как? – уже мягче спросила медсестра, заполняя журнал.
Мы переглянулись. Аржан, провожавший нас, выдохнул непривычное для слуха сочетание звуков: «Аяжэгобика».
Вот вы с первого раза смогли бы повторить? Вот и я был единственным, у кого получилось… А ведь за этим словом, как растолковал потом Артём Сергеевич, скрывалась целая поэма: «Быстрый шепот ручья» или «Первая песня перемен». Целая жизнь, уместившаяся в одно имя.
– Ежевика? – переспросила медсестра, нахмурившись. – Ну и имена у вас…
Так и приклеилось. «Ежевика», ласково и немного колючее, как сама ягода.
Медсестра между тем вручила отцу листок с чёткими инструкциями.
– Второй укол – через три дня. Потом – через неделю, потом через две. Потом через месяц и последний – через три. Пропускать нельзя, иначе всё насмарку. Смысл понятен?
Отец молча кивнул, изучая график. Смысл был понятен и мне. Вести её обратно в степь после первого укола – значило обречь. Ни о каком соблюдении графика в кочевом стойбище не могло быть и речи. Да и кто из тамошних шаманов позволил бы колоть «сестру, в которую вселился дух», снова и снова?
– Что ж, – сказал отец, когда мы остались одни. – Значит, погостит у нас. Пока не поправится окончательно.
Но «пока» растянулось. После второго укола Артём Сергеевич съездил в степь, чтобы переговорить с вождём и Аржаном. Вернулся он с загадочным выражением лица.
– Ну что, – спросил отец. – Требуют назад сестру?
– Как бы не так, – усмехнулся учёный. – Они… они, кажется, сами не знают, что с этой ситуацией делать. С одной стороны, девочка жива-здорова, «дух» изгнан – вашими силами. Это сильный аргумент в пользу вашего «колдовства». С другой… Они считают, что ты, – он кивнул на меня, – могучий колдун на железном коне, раз смог одолеть болезнь, и раз уж ты её забрал… то, видимо, так тому и быть. Она теперь твоя забота. И твой… ну, скажем так, твой выбор. Они не стали это озвучивать впрямую, но, изучая их обычное право, я могу сделать такой вывод.
Так у неё появился новый дом – наш дом. Сначала – как у спасённой пленницы странных обстоятельств. А потом… потом она стала просто Викой. Сестрой. Для всех, кроме меня, называвшего её настоящим, степным именем.
Глава третья. Взрослые дела
Единственное, о чём мы впоследствии жалели, оглядываясь на ту лихорадочную историю со спасением, – так это о том, что нам не удалось ничего выменять. «Эх, побольше бы времени!» – думал я, вспоминая, как один из пожилых скифов, заглянув в кузов моего прицепа, с благоговением ахнул: «О, топыр!». И по его лицу было ясно, что за легкий туристический топорик он готов отдать добрую часть своего стада.
Впрочем, жалеть пришлось недолго.
Под вечер, когда мама собралась в очередной раз отправить меня в магазин за пакетом молока, что по местным ценам тянуло на средней убитости «Жигули», молоко само пришло к нашему дому.
По улице, поднимая золотую пыль, плыло, мыча и позванивая бубенцами, целое облако – штук двадцать пегих коров с полутора десятком резвых телят. Их венчал огромный, свирепого вида бык, чьи рога были подобны кривым саблям. А по бокам шли две оседланные гнедые лошади с чёрными гривами и хвостами – жеребец Бараз и кобыла Мая, на чьих боках болтались туго набитые мешки, и бежала, облепляя склоны, отара белых овец – штук сорок, не меньше. И всем этим дивным, мычащим, блеющим и фыркающим караваном управлял Аржан, посвистывая и пощёлкивая длинным, как змеиный шип, кнутом.
Подскочивший на мопеде Артём Сергеевич, запыхавшись, принялся переводить:
– Говорит… это приданое. Оно копилось с самого рождения Аяжэгобики и должно сопровождать её по жизни. Теперь… вожди решили отдать это тебе.
…В тот миг мне следовало бы схватиться за голову, позвать отца, потребовать самого мудрого переводчика и адвоката, и, пока не поздно, откреститься от этого дара степей. Но я, ошеломлённый размахом подношения, выпалил лишь первое, что пришло в голову, – фразу, о которой потом, спустя долгие годы, иногда вспоминал со странным, горько-сладким чувством. Словно в тот момент я не просто задал вопрос, а невольно подписал что-то очень важное, не глядя:
– И что же мне теперь со всем этим делать?
Аржан, будто ждал именно этого вопроса, усмехнулся, обнажив желтоватые зубы, и бросил коротко, а Артём Сергеевич перевёл с тем же простодушием, с каким говорят о смене дня и ночи:
– Пасти. Доить. Стричь. Приумножать.
Эх, перенес бы кто-нибудь меня в будущее, сунул бы мне в руки вышедшую через три года монографию того же Артёма Сергеевича «Обычное право скифов Тёплой Сибири»! Или хотя бы нашептал на ухо одну-единственную строку из их «Степного устава» – ту, что не терпит возражений, печальную и прекрасную в своей неумолимости:
«Если мужчина принимает приданое девы,
Значит, принимает на всю жизнь и её саму.
Навсегда. Иначе – не бывает. И быть не может».
– Доить? – озадаченно спросила мама, которая лишь раз в жизни, двадцать лет назад в Солонешном, видела, как это делает прабабушка. Освоить это искусство нам предстояло с нуля. Но я знал, кто точно справится:
– Аяжэгобика, бери ведро! – скомандовал я, чувствуя, как на мои плечи ложится тяжесть, пахнущая сеном, молоком и чем-то безвозвратно решённым.
А на ночь мы, по совету дяди Егора, перегнали всё стадо по плоту через протоку на остров.
– Леопард в воду не полезет, – уверенно заявил он и, на всякий случай, громко щёлкнул затвором своего ружья. Звук выстрела, ушедший в темноту, был для меня границей. Я пересёк не просто речку – я пересёк некую невидимую черту. И обратной дороги уже не было.
Вернувшись в дом, мы застали маму за кипячением чайника. Воздух на кухне был густым не только от пара.
– Ну, – начала она, расставляя кружки с таким звонким стуком, что было ясно: тихой семейной жизни пришел конец. – Обсудим наше… новое положение. Николай, – она повернулась к отцу, – ты вообще в курсе, что наш пятнадцатилетний сын, по мнению целого степного племени, теперь… жених?
Отец, до этого смотревший в окно на темный остров, обернулся. В его глазах читалась и усталость, и привычка ко всяческим чудесам.
– В курсе, Ира. В курсе. – Он тяжело вздохнул. – По их законам – да. По нашим – у нас временно проживает несовершеннолетняя подопечная, спасенная от смертельной болезни. Пока что будем придерживаться нашей версии.
– А «пока» это сколько? – мама всплеснула руками. – Она же в том возрасте, когда девочка превращается в девушку! Андрей – мальчик… в общем, молодой человек! Они же под одной крышей! Ты понимаешь?
Тут я не выдержал.
– Мам, да о чем ты! – мне стало жарко от нелепости подобных подозрений. – Она же… Ну, как диковинный зверек, которого мы выходили. Я на неё и смотрю-то пока как на младшую сестренку, которую надо покормить и защитить. Ни о чем таком речь и не идет!
– Сейчас не идет, – парировала мама, но уже чуть мягче. – А через год? А через два? Ты сам только что сказал – «пока». Я не хочу, чтобы что-то подобное… назревало в стенах нашего дома стихийно, по воле каких-то степных уложений. Мы – цивилизованные люди.
Отец вдруг тихо рассмеялся.
– Что, Николай, тебе кажется смешным? – насупилась мама.
– Представляю, – сказал он, – как мы объявляем Аржану: «Извините, но ваш «Степной устав» мы в своей гостиной не признаем. Отменяем помолвку». Он посмотрит на нас своими честными глазами, на это стадо, на наш дом, стоящий на его же земле… И что мы ему скажем? Что у нас тут Фемида правит бал?
Мама промолчала, понимая абсурдность такой попытки.
– Ладно, – сдалась она. – Но меры предосторожности примем. Андрей, ты не против, если Ая… если Ежевика переедет на мансарду? И Агата с Алёнкой. Там две комнаты, светлые, сухие, тёплые. А ты останешься внизу.
Я только обрадовался. Мысль о том, что у меня появится пространство без сестринского шепота за стенкой, была манией.
– Конечно, не против! – честно ответил я. – Я им даже всё туда перенесу!
Мама наконец успокоилась, словно, расселив нас по разным этажам, она отодвинула призрак нежелательного развития событий в неопределённое будущее. Да и я в тот момент искренне верил, что так и есть. Что эта перепланировка – всего лишь разумная предосторожность, не более того.
Родители съездили в Славноморск и оформили над девочкой опеку. Там, конечно, без приключений не обошлось. Чиновница в очках, пахнувшая не степным ветром, а бюрократическим клеем, устроила настоящий допрос:
– А где настоящиеродители? Почему бросили? Это как вообще понимать?
Мама, вспомнив, видимо, и леопарда, и «приданое», только вздохнула:
– Понимать как сказку с элементами документалистики. Усыновляем.
В итоге, скрепя сердце, выдали главные документы земного шара: свидетельство о рождении, СНИЛС и страховой полис. Теперь она была не просто «девочкой с того берега», а полноправной гражданкой – Саренековой Аяжэгобикой Берикарадовной.
– Это будет наш пятый ребенок, – сообщила мама по возвращении, ставя на стол сумку с документами.
– В смысле пятый? – я ошалело перевел взгляд с Агаты на Алёнку. – А где четвертый?
– В животике, – улыбнулась мама, и наша кухня на мгновение замерла, а потом взорвалась одновременным «Ура-а-а!».
Тем временем жизнь в Дубровском остроге потихоньку налаживалась. Однажды в воскресенье я зашел в вагончик с табличкой «Сельсовет».
– А, Калинин-младший! – председатель избирательного участка, экскаваторщик Виктор Васильевич, будто ждал меня. – Давай сюда паспорт. Гражданский долг – это святое, даже если тебе всего пятнадцать.
И мне сунули в руки бюллетени. Я чувствовал себя чуть ли не Колумбом, открывающим новый демократический материк.
Поздно вечером я сидел под окнами того же сельсовета и слушал, как за стеной перебирают бюллетени:
– Карапетян… Карапетян… Карапетян… Юрьев… Карапетян…
Казалось, даже сверчки за окном стрекотали: «Ка-ра-пе-тян!».
И случилось чудо. На следующий день, будто по взмаху волшебной палочки победившего кандидата, в Дубровке заработал интернет. Не призрачный, односторонний, а самый что ни на есть настоящий, с мемами и котиками. Тут же, как грибы после дождя, открылись пункты выдачи маркетплейсов. Правда, ценники в них порой были такие, что проще было съездить за товаром лично через весь континент. Но сама возможность была дороже золота.
Курьинский тоннель стал двухпутным, и, разделяя встречные полосы, пролегли рельсы железной дороги. А еще – это было неизбежно, как смена времен года – в Дубровке начали монтировать школу. Длинное простенькое одноэтажное здание, из бирюзовых сэндвич-панелей, но это был огромный шаг вперед.
– Но две вещи мы перед Москвой, кажется, отстояли, – с видом заговорщика рассказывал отец за завтраком на террасе. – Голосование на местных выборах с пятнадцати лет и… начало учебного года с первого ноября. Пусть дети хоть картошку уберут и на море съездят.
– А кто директором в школе будет? – спросил я.
– Я, – ответил отец, смакуя новость. – С сегодняшнего дня официально трудоустроен. И уже подписал приказ о зачислении первых учеников: тебя, Агаты и Вики. Правда, её – пока только в первый класс, хотя по возрасту ей бы в шестой… Надо помочь ей и с русским, и с буквами. Так что готовься, старший брат и репетитор, к суровым будням.
А ещё начали подтягиваться мои будущие одноклассники. Со всех концов России, будто на призыв таинственного колокола. И были они совершенно разные: наглые и спокойные, задиры и тихони, умники и отпетые весельчаки.
Один такой, только что прибывший «с той стороны» и, видимо, жаждавший приключений прямо с порога, подкатил ко мне, возящемуся возле трактора.
– А правда, что тебя на этой… Ежевике женили? – выпалил он с нарочитой развязностью, которую, как экипировку, привез из старого мира.
Я посмотрел на него не без жалости. Он ведь ещё не свежевал леопарда. Не знал, каким потом и сноровкой сбивается конский ценник на картошку и молоко. И ему не нужно было прямо сейчас мчаться в пункт выдачи за пилорамой, тракторной косилкой и тракторными же граблями, которые прибыли, словно джинны, из «того мира».
Я вытер ладонь о забрызганные маслом штаны и как можно дружелюбнее ответил:
– Да не переживай ты так. Найдём мы тебе тоже невесту. Обещаю.
И хлопнул огорошенного парня по плечу – товарищески, по-дубровски. Пусть привыкает, что здесь самые странные вопросы порой имеют самое прямое и практическое продолжение.
Парень, впрочем, быстро оттаял.
– Но женить человека с низким материальным статусом в этих краях будет… немного сложно, – с деловой хваткой заметил я. – Хочешь заработать?
– А как? – он оживился.
– Садись в прицеп. По дороге объясню. Андрей! – я протянул ему руку.
– Ратибор, – ответил парнишка, с чувством пожимая её.
Так я приобрёл компаньона, друга и… не только.
По дороге к пункту выдачи, под рёв трактора, я излагал ему свой бизнес-план, который до этого обдумывал в одиночку.
– Смотри, – кричал я, – коровы, овцы, кони – это, конечно, круто. Но они жрут как не в себя! Сено им нужно. Много сена. А косить вручную – замучаешься. Поэтому нужна тракторная косилка и пресс-подборщик. А для этого нужны деньги. А деньги здесь буквально валяются под ногами… – я указал пальцем на груду брёвен, сваленных у будущего канала, – вот они, в этих вязах. Из Барнаула привезли пилораму. Соберём – и вперёд. Доски здесь по цене крыла от «Боинга». Все строятся.
Ратибор слушал, жадно впитывая. В его глазах загорелся тот самый огонёк, который появляется у человека, увидевшего не проблему, а возможность.
Пилораму мы собирали вместе. Ратибор оказался на удивление понятливым и рукастым. На третий день мы уже неторопливо, с опаской, распускали первое бревно болотного вяза. Я боялся этой стальной махины, а Ратибор смотрел на неё с восторгом первооткрывателя.
Именно в такой момент к нам и подошёл, вернувшись с работы, дядя Егор. Он, окинул взглядом наш аккуратный штабель свежих досок и одобрительно хмыкнул:
– Ну что, мастера? Освоились? Напилите-ка и мне, братцы, кубов пять. Гараж нужен.
Я уже открывал рот, чтобы назвать свою, как мне казалось, справедливую цену, но Ратибор опередил меня. С невозмутимым видом он назвал сумму, от которой у меня чуть челюсть не отвалилась. Это было грабительство при свете дня!
Я уже собрался его одёрнуть, но увидел лицо дяди Егора. Тот не возмутился. Не стал торговаться. Он лишь оценивающе посмотрел на Ратибора, хитро прищурился и коротко бросил:
– А ты, я смотрю, парень не промах. Ладно, по рукам. Деньги вечером принесу.
Когда дядя Егор ушёл, я набросился на Ратибора:
– Ты с ума сошёл?! Это же сосед! Такие цены только с приезжих стригут!
– Вот именно, – спокойно ответил Ратибор, сметая опилки с пилорамы. —Он местный. И он не возмутился. Значит, цена нормальная. И если у клиента есть желание и возможность заплатить нам деньги… зачем лишать его этого удовольствия? Не обижайся, – он хлопнул меня по плечу, – но твой бизнес нуждается в хорошем менеджере.
Ратибор оказался не просто парой рук, а пытливым умом, постоянно вносившим какие-то предложения и улучшения.
– Знаешь… крышу бы над пилорамой… хотя-бы из горбыля сделать, – философски заметил он, когда внезапный ливень загнал нас с раскладными стульями на веранду. – Тогда можно будет и в дождь работать. Клиентов не терять.
Впрочем, в этом вынужденном безделье был и свой плюс. Аяжэгобика принесла нам глиняные кружки с чем-то густым, кисловатым и невероятно вкусным, похожим на йогурт. Мы с удовольствием потягивали прохладное лакомство, глядя на потоки воды, льющиеся с крыши.
– Он тебя не обижает? – вдруг спросил её Ратибор, показывая большим пальцем на меня. – Скажешь – я ему всыплю.
Девчонка, понимая тон шутки по интонации, смущённо и радостно замотала головой.
– То-то же, – хитро подмигнул ей Ратибор. – А то я тебя у него уведу!
И хотя это было сказано абсолютно в шутку, я вдруг ощутил внутри чёткий, холодный укол. Неужели… ревность? К этому болтуну в моём же доме? Я отогнал эту глупую мысль, приписал её душной влажности после грозы, но осадок остался.
А ещё через неделю, получив свою первую солидную пачку наличных, Ратибор, заметно нервничая и извиняясь, протянул руку для прощального рукопожатия.
– Прости, Андрюха. Я ценю всё… Но я решил открыть свой бизнес.
Я онемел, не в силах вымолвить ни слова.
– Клиенты, – продолжил он, избегая моего взгляда, – смотрят на наши цены… с явным желанием пройтись по рыночку и поискать что-нибудь подешевле. А если клиент хочет иллюзию выбора… зачем лишать его такого удовольствия? В общем, – он тяжело сглотнул, – я тоже пилораму заказал. Договор уже подписал.
Я стоял и смотрел на его протянутую руку. Руку, которая только вчера помогала мне закатывать брёвна под ленту моей пилы. И понимал, что мой первый друг и компаньон в новом мире только что стал моим первым и, похоже, очень способным соперником.
Глава четвёртая. Незримый узел
То лето прошло без привычного безделья. Стоило присесть в тенечек, как появлялась Аяжэгобика. Надо стричь овец. Подстригли – сделай прялку. Потом – веретёна. Если не могла объяснить словами – рисовала на песке или на клочке бумаги. Потом… я косил траву, сгребал её высохшую и тюковал пресс-подборщиком, готовя корма для зимовки наших бурёнок. Но в этот раз… Она требовала от меня очередную штуковину с особым, незнакомым прежде упорством. Я долго вглядывался в загадочные линии – было похоже на технический чертёж, оставленный инопланетянином. Пришлось звать кавалерию в лице Артёма Сергеевича.
Учёный взглянул и расцвёл в улыбке:
– Поздравляю! Это ткацкий станок. У них принято, чтобы женщина сама одевала всю семью. А мужчина… должен сделать ей для этого станок. Своими руками. Дерзай, мужчина!
– Артём Сергеевич! – взмолился я. – Какая женщина?! Какой мужчина?! Ей всего двенадцать!
– Юность, молодой человек, – философски изрёк историк, – это такой недостаток, который очень быстро проходит. Скажите, а другие-то недостатки у неё есть?
– По-нашему не говорит… – пробормотал я. – Но я над этим работаю…
И у меня что-то даже стало получаться. Как-то раз она подошла и чётко сказала:
– Кони! Ехать!
Я понял: хочет прокатиться. Мы сходили на остров за лошадьми и достали из чулана те самые скифские сёдла – лёгкие, почти игрушечные попонки. Аяжэгобика ловко прикрепила их подпругами, накинула уздечки. Потом жестами велела помочь ей взобраться на Бараза. И уже в седле, с высоты своего нового роста, показывая на Маю весело махала рукой: «Давай, ты тоже!»
А я стоял в ступоре: как это сделать без стремян? Я пытался подпрыгнуть, ухватиться кобыле за гриву – выходило комично и неуклюже.
Видя мои бесплодные попытки, она вдруг произнесла первую в своей жизни связанную фразу на русском. Фразу, которая одновременно навсегда меня обидела и стала лучшим доказательством, что у меня есть надёжный тыл. Смотря сверху вниз с выражением безграничного снисхождения, она изрекла:
– Я никому не скажу, что ты не умеешь ехать.
И в тот же миг на короткую секунду я возненавидел её всей душой. Рыжая, веснушчатая, зеленоглазая… И эта её снисходительная улыбка! Мысль о том, чтобы сбросить её с коня и слегка поколотить, показалась мне на редкость разумной и справедливой.
Но она, словно прочитав мои мысли, рассмеялась – звонко, беззлобно – и сама легко спрыгнула на землю. Подошла, взяла за руку, не выпуская из другой узду, и подвела меня вместе с кобылой к самой террасе.
– Садись! – скомандовала она, указывая на высокое крыльцо.
«А что, ТАК МОЖНО БЫЛО?!» – пронеслось у меня в голове со смесью восторга и стыда за своё невежество.
Через минуту мы уже ехали по главной улице – и, как на грех, маршрут пролегал мимо площадки, где собиралась самая… скажем так, «цифровая» часть дубровской молодёжи. Те, кто предпочитал бескрайним чудесам реального мира яркий прямоугольник смартфона. Благо, бесплатный вай-фай творил чудеса лени.
Один из них, с лицом, отражавшим синий экранный свет, вдруг оторвался от вселенной мемов и, уставясь на непривычный наряд Аяжэгобики, громко и глупо процедил:
– О! Дурочка какая-то едет!
Ежевика не сказала ни слова. Она просто сделала на Баразе разворот на месте – такой отточенный и резкий, что его можно было бы назвать полицейским, если бы полиция патрулировала на лошадях. И галопом, не оглядываясь, поскакала к нашему дому.
Я же, всё ещё не слишком уверенно управляясь с лошадью, остался стоять напротив площадки. И понял, с леденящей душой ясностью, что сейчас произойдёт что-то ужасное. Не драка, не крик – что-то гораздо более необратимое.
– Зря ты так сказал, братан, – тихо произнёс я, глядя на незадачливого остряка. – Теперь лучше шифруйся куда-нибудь. И побыстрее.
Потому что я уже знал: в нашем новом мире оскорбления не остаются просто словами. Они превращаются в задачи, которые кто-то должен решить. И мне, как владельцу «приданого» и единственному, кто понимал язык этой тишины, предстояло стать буфером между двумя цивилизациями. Или мстителем. Пока я сам не знал, кем.
Она вернулась так же внезапно, как и исчезла, и на этот раз Бараз несся полным галопом. Ни крика, ни угрозы – лишь сосредоточенное, окаменевшее лицо амазонки с горящими зелёными глазами.
Не сбавляя хода, она, словно в древнем боевом танце, одной рукой выхватила из скифского колчана – горита стрелу, другой натянула тетиву короткого, мощного лука, отведя его за спину.
Послышался короткий, злой свист. Стрела, описав над головами остолбеневших бездельников смертоносную дугу, с хрустом перебила толстый интернет-кабель и с глухим стуком воткнулась в деревянный столб, заливаясь на солнце оперением.
На площадке воцарилась гробовая тишина. Я видел, как у «остряка» отвисла челюсть, а экран его смартфона беспомощно погас. Кобыла подо мной встревоженно тронулась с места, и, проезжая мимо онемевшей группы, я бросил через плечо:
– Добро пожаловать в реальный мир!
И мы поскакали прочь, оставляя позади не просто испорченный кабель, а сломанную стену, отделявшую их старую, удобную жизнь от нашей – непредсказуемой, опасной и по-настоящему живой.
Этот случай стал настоящим даром для местного сообщества любителей горячих тем «Дубровка как она есть». Особенно для той его части, что специализировалась на возмущении «во благо детей». Страница в ВК кипела.
«Хулиганку-второгодницу собираются записать в один класс с нашими первоклашками!» – стартовала очередная волна родительского цунами.
«Чему она их научит? Искусству верховой езды по школьным коридорам? Стрельбе по Wi-Fi?»
«Она же по-русски не говорит! Её по закону взять в школу не имеют права!»
Тут в чате, словно рыцарь на белом коне, появился голос разума – видимо, юрист или просто человек с доступом к Гуглу:
«Ошибаетесь! Не просто имеют право, а обязаны! Есть такой термин – оптация! Она проживала на территории Тёплой Сибири на момент вхождения оной в состав России, а значит – полноправная гражданка!»
Чат завис на секунду, переваривая услышанное, а затем взорвался с новой силой:
«Да вы что! Это же ещё хуже! Значит, она с документами!»
Терпение моё лопнуло, и я, случайный свидетель этого цифрового шабаша, влез в дискуссию:
«Да успокойтесь вы все! Аяжэгобика идёт во второй класс! За первый все экзамены сегодня сдала!»
В чате повисла немая сцена. А потом закипела новая, свежая порция возмущения, теперь уже от фракции родителей второклассников.
«Вот счастья-то привалило! Не хотим хулиганку-второгодницу Ежевику!»
«Какая второгодница?! – парировал я. – Девочка на семейном обучении через класс перепрыгнула! Освоила программу за одно лето!»
«И что она освоила?! – язвительно поинтересовался кто-то. – Уход за скотом и стрельбу из лука?»
«У них там в степи что, каменный век? Их хоть чему-то там учили?» – писала мамашка, чья дочь, конечно же, не умела ни доить корову, ни стричь овец, ни заправлять ткацкий станок, ни кроить одежду, ни разжигать костёр в степи под дождём без спичек…
«Не каменный, а ранний железный!» – это уточнил уже Артём Сергеевич.
Аяжэгобика же парила над этим цифровым хаосом, как орёл над курятником. Пока одни были заняты жаркими спорами о том, имеет ли она право, она была поглощена куда более фундаментальными вещами. У неё была своя задача: догнать за лето Агату. И вот, решая её, она сидела за столом, уставившись на учебник «Окружающий мир», и тыкала в него пальцем с видом первооткрывателя.
Мне, оглушённому этим виртуальным штормом, её сосредоточенность показалась спасением. Я подсел к ней.
– А я тоже должен научиться стрелять из лука, как ты? – спросил я, скорее чтобы самому отвлечься.
Она оторвалась от книги и посмотрела на меня с лёгким недоумением, будто вопрос был странным.
– Ты колдун. Тебе необязательно. – И снова ткнула в красочную страницу. – Объясни вот это. Что такое Луна?
Ее вопрос был как луч света в темноте. Он возвращал к чему-то простому и вечному, к чему не могли прикоснуться ничьи споры в интернете.
– В смысле, «что такое Луна»? – я смотрел на неё с непониманием. – Луна – ночное светило. Большой такой шар на небе. Ты что, ни разу её не видела?
– Нет, – просто ответила она. – Ни разу. Только в сказках про ночное светило слышала.
И тут меня осенило. По-настоящему осенило, как удар весла по голове. Я откинулся на стуле, мысленно перебирая все вечера и ночи, проведённые в Тёплой Сибири. За эти недели, полные леопардов, приданого и пилорам, я ни разу не видел на небе Луны! Ни серпа, ни полной, ни какой бы то ни было. Небо было либо ясным и звёздным, либо облачным, но привычного желтоватого диска там не водилось.
С этим открытием я, как ненормальный, помчался к отцу, застав его за составлением школьного расписания.
– Пап! А где тут у нас Луна?
Он посмотрел на меня поверх очков.
– А её тут и нет.
– Как это нет? – я всплеснул руками. – Она же везде есть!
– Здесь – нет. Естественного спутника на орбите не обнаружено. Да и, похоже, искусственные здесь невозможны – нестабильная гравитация или что-то в этом роде.
– Это как так-то?! – воскликнул я, чувствуя, как рушатся основы мироздания, усвоенные ещё по учебнику «Окружающий мир» для второго класса.
– Ну, давай покажу, – отец отложил ручку. – Практический урок астрономии по-дубровски. Собирай всех на веранде.
Через пятнадцать минут на веранде, закутавшись в пледы, собралась вся наша команда. Мама принесла термос с чаем, Агата и Алёнка устроились на ступеньках, предвкушая необычное зрелище. Мы еле дождались, когда солнце скроется за Рогатой Гривой – так, по словам нашего главного краеведа Аяжэгобики, называлась одна из гор. Небосклон почернел, и на него высыпали звёзды. Но то, что мы увидели, совсем не походило на уютную картинку из учебника.
Вместо привычных созвездий над нами висела совершенно чужая, незнакомая россыпь. Аяжэгобика, ставшая нашим гидом по местному небу, показала пальцем на одну из ярких точек.
– Северная звезда, – объявила она с важностью двенадцатилетнего астронома. – Она иногда ярче, иногда темнее. У неё есть сестра, которая за неё то прячется, то пытается затмить своей красотой.
– Двойная звезда? – спросил я у отца.
– Возможно…
– А это – Добрый Волк, – Аяжэгобика уверенно показала на то место, где мы тщетно искали очертания Малой Медведицы. – Он и несёт в пасти Северную звезду. Потому что на севере очень холодно, а он не хочет, чтобы та замёрзла.
– А где же наша Медведица? – тоненьким голосом спросила Алёнка, прижимаясь к маме. – И Умка?
– Нашей Медведицы здесь нет, рыбка, – тихо ответила мама, и в её голосе прозвучала не тревога, а какая-то новая, непривычная нежность. – Мы… мы теперь под другими звёздами.
Я кивнул с натянутой серьёзностью, чувствуя, как в моём мозгу с тихим хрустом ломается и школьный курс астрономии.
– А это – Девица, – её палец переместился на причудливую цепочку звёзд. – Она хотела шла принести воды из Ручья, – и действительно, звёзды под пальцем Аяжэгобики струились ручьём, – но за ней бросился Тигр. Лишь Добрый Волк мог за неё заступиться. Поэтому она и держит его за хвост.
«Надо же, – подумал я. – Вместо скучного „ковша“ – целая мыльная опера со звёздными персонажами!»
– А… а это что? – Я вдруг ахнул, увидев то, что раньше доводилось встречать лишь на картинках и в кадрах «Звёздных войн». На чёрном бархате неба висела бледная, размытая, но неоспоримая спираль. Галактика. Видимая невооружённым глазом.
– Ух ты! – воскликнула Агата. – Как карамелька!
– А, это – Незримый Узел, – без тени сомнения объявила наша домашняя звездочётша. – Он хранился раньше далеко-далеко, у других племен, не у Сынов Степей. Те жили в каменных юртах, и святилище, где лежал этот Узел, тоже было из камня. И говорилось, что тот, кому удастся этот узел развязать, станет владыкой всего мира!
Мы с отцом, услышав знакомые мотивы, переглянулись. В его глазах читалось то же, что и в моих: восхищение, замешанное на лёгком ужасе перед масштабом открытия. Но то, что дальше рассказала Аяжэгобика, совсем было не похоже на наш, знакомый со школы рассказ об Александре Македонском:
– И пришёл тогда силач, очень важный и самоуверенный, – продолжала она, с наслаждением растягивая слова. – Пытался развязать этот узел целых тридцать дней! Но ничего у него не получалось.
Она сделала драматическую паузу, глядя на мерцающую спираль.
– И тогда, дождавшись ночи, он просто закинул его на небо! И сказал: «Пусть теперь кто-нибудь другой попробует!»
Воцарилась тишина.
– Ну что ж, – наконец произнёс отец, разминая шею. – Теперь понятно, почему у нас тут нет Луны. Место занято. Незримым Узлом. И пока его никто не развяжет, владыкой мира, выходит, никто не станет.
– Значит, мы в безопасности? – уточнил я.
– До поры до времени, – философски заключил отец.
И тут Аяжэгобика огорошила нас окончательно, произнеся это так же просто, как если бы сообщала о том, что сметана в погребе закончилось.
– Сыны Степей раньше жили под другим небом.
Мы с отцом замерли, словно вкопанные. Она говорила медленно, подбирая русские слова, и каждое из них падало нам в сознание с весом камня.
– Это было тысячи зим назад. Там были другие звёзды. На небе жили две Медведицы. И через всё небо от края до края было пролито молоко.
Она посмотрела на нас своими зелёными глазами, в которых отражались теперь чужие созвездия, и добавила главное:
– И появлялось ночное светило. Оно рождалось тонким серпом, толстело, старело и исчезало. За тридцать дней и ночей. А потом… в степях под тем небом стало расти белое дерево. Вожди сказали: нам нельзя больше здесь жить. И мы пришли сюда.
– Как? – выдохнул я. – Как вы пришли?
– Предки говорили: «Шли долго. Шли, пока не кончились звёзды». А когда нашли новые… остались.
– Мама, а мы тоже пришли, пока звёзды не кончились? – вдруг спросила Алёнка, уже засыпая у неё на руках.
Мама посмотрела на отца, потом на меня, и улыбнулась улыбкой, которая бывает только у самых храбрых женщин – дочерей, жён и матерей первооткрывателей.
– Нет, дочка. Мы пришли как раз тогда, когда самые главные звёзды только начали зажигаться.
Глава пятая. Свет Аурелии
Слова того малоинтеллектуального юноши, которому смартфон заменил Вселенную, задели Аяжэгобику и стали для нее вызовом. Стрелой, что вонзилась не в кабель, а в её гордость. И она ответила на него так, как умела – с безжалостной целеустремлённостью степной охотницы.
К октябрю, когда новая школа, пахнущая краской и свежими древесно-стружечными панелями, распахнула двери, она была готова штурмовать третий класс. Диктант, где её почерк, угловатый и непривычный к шариковой ручке, всё же вывел каждую букву. Контрольная по математике, где задачи про «яблоки и подосиновики» вызвали у неё лёгкую, снисходительную улыбку – куда сложнее было высчитать долю каждого рода при разделе добычи после большой охоты. «Окружайка», где она без учебника описала повадки волка и следы лисицы. И наконец… английский.
Учительница, недавно прибывшая «с той стороны», скептически протянула ей карточку. Аяжэгобика посмотрела на рисунок, потом на учительницу зелёными глазами, и четко, без акцента, произнесла:
– In this picture, I see a cat playing with a ball.
Затем – собака, дом, мальчик, девочка… Она впустила в себя мелодику чужого языка, как когда-то впустила русский. И когда она, закончив, отложила карточки, в классе повисла тишина, которую можно было резать ножом.
– Ну… – растерянно сказала завуч. – Поздравляю. Ты зачислена в четвертый класс.
Аяжэгобика покачала головой, и рыжая прядь выбилась из-под самодельной заколки.
– Нет. Я пойду в пятый. Мне нужно обогнать Агату.
Пока она сдавала свой зачёт, я защищал проект куда более приземлённый, но оттого не менее важный. Проект, позволивший мне прочитать в её глазах, тех самых, зелёных и чуть раскосых, безграничное уважение, сменившее снисходительность.
Я строил ткацкий станок.
Бруски, которые я сам пилил, сам сушил под крышей нашего дома, сам остругивал ручным рубанком, пока пальцы не стирались в кровь. Артём Сергеевич, мой научный консультант, снова оказался незаменим. От него я узнал, что такое «уток» и «основа», для чего нужен челнок и что за кругляшки из обожжённой глины лежат в мешочке с «приданым» Аяжэгобики – пряслица, грузики для нитей.
В один прекрасный день, когда последний шуруп был вкручен с уверенным рычанием шуруповёрта, а все части сложились в прочную, устойчивую конструкцию, случилось чудо. Девчонка заправила нити, нажала на педаль – и станок ожил. Ритмичный стук, движение челнока… и под её руками начала рождаться самая настоящая ткань. Домашняя, грубая, пахнущая шерстью и степью. Чудо.
Но её слова – «Я никому не скажу, что ты не умеешь ехать» – всё-таки задели меня. Глубоко. И на всякий случай, чтобы больше никогда не чувствовать себя неловко перед этой рыжей амазонкой, я заказал из-за тоннеля два современных комплекта конского снаряжения. С анатомическими, лёгкими, как перо, сёдлами, а также трензелями и стременами из блестящей нержавейки.
И начал каждый вечер «патрулировать» Дубровку. Сначала один, осваиваясь с новой упряжью. А потом – в сопровождении Аяжэгобики, которая, к моему удивлению, быстро оценила преимущества современного конского убранства, особенно на длинных переходах.
Как-то раз, проверяя коров на выпасе, она вдруг коротко бросила:
– А почему бы нам не съездить в стойбище?
Я замедлил коня. Да, действительно, почему нет? Мы же уже почти свои в седле. Но род Санереков, как уточнил Артём Сергеевич, кочевал сейчас примерно в сорока километрах к северо-востоку. По нашим, ещё не обустроенным тропам, это часа четыре только в один конец, если не больше. Целый день пути. А ночёвка в степи в октябре – не самое курортное мероприятие.
Своими сомнениями я поделился за ужином.
– Ну, съездите, – пожал плечами отец, переворачивая котлету. – Возьмите с собой рацию и «Сайгу». Если что – на вертолёте через десять минут прибудет помощь.
Его спокойствие было заразительным и слегка пугающим.
– Но с пустыми руками… как-то не прилично будет, – это уже мама, с её врождённым чувством такта. – Надо вести подарки. То, что пригодится в степном быте. Посуду удобную. Лакомства. И… – она задумалась. – Иголки, нитки, пару хороших топоров. Чтобы с пользой.
Я посмотрел на Аяжэгобику. Она слушала, не проронив ни слова, но по тому, как загорелись её глаза, было ясно – в моей маме она нашла мудрую союзницу. Мы едем!
Через день, когда первые лучи только золотили макушки Самородных гор, мы пересекли протоки Ануя по зыбким плотам, и перед нами открылась бескрайняя, холмистая степь, пахнущая полынью и мёдом. Я, чувствуя себя первопроходцем, гером старых легенд, достал из седельной сумки компас и самодельную карту, на которой отец кое-как набросал ориентиры.
– Вон, видишь тот выступ? – тыкал я пальцем в пергамент. – По-моему, нам туда, а потом вдоль сухого русла…
Моя спутника, молча наблюдавшая за топографическими муками, наконец сжалилась. Она даже не взглянула на карту. Её взгляд скользнул по линии горизонта, где холмы мягко соприкасались с небом, и остановился на одном, ничем не примечательном для моего глаза.
– Нават, – коротко бросила она, указывая подбородком.
– Что это значит? – переспросил я, убирая компас.
– Едем туда, – её тон не допускал возражений. – Увидишь.
Она вела нас не по прямой, а плавно огибая склоны, выбирая самые твёрдые участки грунта. Минут через двадцать мы оказались на вершине того самого холма. И тут мне открылось то, чего я не мог разглядеть снизу.
Холм этот был рукотворным. Кто-то потратил титанические усилия, чтобы сделать его ещё выше и заметнее. Идеальная, как очерченная циркулем, окружность – высокий курган, окружённый глубоким, оплывшим от времени, но всё ещё внушительным рвом. На вершине самого кургана из земли торчали длинные, отполированные ветром жерди. На них трепетали на ветру длинные, пестро окрашенные ленты из грубой шерсти – синие, как небо, зелёные, как трава, и рыжие, как шкура лиса. Это было одновременно и торжественно, и немного жутковато.
Лишь с восточной стороны, откуда вставало солнце, ров прерывался, образуя своего рода «ворота» для живых, пришедших в гости к предкам. И рядом с этими воротами, вкопанная в землю с каменным упором, стояла коновязь.
Аяжэгобика легко спрыгнула с седла, привязала Бараза и, подойдя к краю кургана, наклонилась, касаясь земли пальцами. Я последовал её примеру, чувствуя, как по спине пробегают мурашки. Так вот, чем был «нават» – пуп земли, маяк в бескрайнем море травы, живая карта, написанная не чернилами, а памятью и потом поколений. И моя спутница читала её так же легко, как я когда-то читал вывески на улицах Барнаула.
Аяжэгобика легко взобралась на склон кургана, жестом веля мне следовать за собой. Воздух здесь был густым и безмолвным, словно вытесняющим все лишние звуки. Подойдя к одному из шестов, обвязанных выцветшими лентами, она замолкла на мгновение, а затем заговорила. Тихо, почти шёпотом, на своём языке. Она говорила минут пять, и это было похоже не на монолог, а на разговор. Она рассказывала, кивая в мою сторону, показывая на наших коней, словно отчитывалась старшей родственнице о проделанном пути или просила совета перед дальней дорогой.
Потом она достала из кармана небольшой, расшитый незамысловатым узором лоскут и бережно привязала его к шесту, к множеству других таких же свидетельств памяти. Затем протянула такой же мне. Я, чувствуя и неловкость, и странную причастность к чему-то древнему и важному, молча последовал её примеру.
– Мамина мама, – тихо сказала она, уже спускаясь с кургана и отвязывая Бараза. – Фаридароза. Из рода Арганат. А здесь… – она обвела рукой горизонт, – земля рода Ялкын. Сюда она вышла замуж за маминого папу. Это их кочевья.
Этот курган был целым миром, живой книгой, где каждая глава – это поколение. Сюда на протяжении многих зим свозили своих умерших родичей, чтобы отсюда, с высоты, те могли наблюдать за живыми. Он был и гордым заявлением: «Эта земля наша, мы пустили здесь корни, глубокие, как эти могилы». И, конечно, он был маяком в степи.
И Аяжэгобика читала эти маяки, как заправский штурман. Прислонив ладонь ко лбу, она всмотрелась вдаль, туда, где на другом холме темнел ещё один курган.
– Темир-Улус, – объявила она, уже в седле. – Туда!
И мы поскакали. Наш путь вырисовывался не по рекам или горам, а по цепи священных холмов, разбросанных предками. Чильби, Кок-Торум, Бурекар… И вот наконец, когда солнце начало клониться к закату, перед нами вырос тот, что она ждала больше всех.
– Саренек, – произнесла она, и в её голосе прозвучала нота, что бывает у человека, вернувшегося домой.
С подножия этого, самого дорогого для неё кургана, в розовеющих лучах заката, мы разглядели тонкие струйки дыма, тёмные точки юрт и бесчисленное, движущееся пятно отары. Не сговариваясь, мы пришпорили коней и устремились вниз, навстречу дыму, блеянию и – её прошлой жизни.
Стойбище встретило звенящей, настороженной тишиной, в которой слышалось лишь дыхание степи – шепот ветра в ковыле и тревожное, отдаленное блеяние отары. Из приземистых, похожих на спящих зверей юрт, молча появлялись люди. Мужчины с лицами, будто высеченными из бронзы суровыми резцами ветра и солнца. Женщины в темных, тяжелых платьях, расшитых серебром, что звенело тише шепота. Их взгляды – любопытные, испытующие, строгие – скользили по мне, и я почувствовал себя капитаном, неожиданно выброшенным на незнакомый берег, где каждый мой шаг, каждое слово решало больше, чем самый хитрый чертеж.
И в этот миг моя спутница совершила маленькое чудо. Она преобразилась. Та самая рыжая прядь, что всегда выбивалась из-под самодельной заколки, теперь была не символом беспечности, а деталью нового, властного и взрослого облика. Легко, как перышко, соскользнув с седла, она сделала мне едва заметный, но не допускающий возражений жест: «Выходи. Доверься». Пока я с трудом отвязывал тюки с гостинцами, она протянула мне несколько листков, испещренных быстрыми, уверенными штрихами.
– Держи, – коротко бросила она, и в ее голосе прозвучала сталь командирской интонации. – Читай, когда подам знак.
Я взглянул на загадочные письмена, выведенные русскими буквами. «Уый у нэ хистэрты рхэд, эфсымэр!» – стояло в самом верху. Даже с проставленными ударениями эти слова казались шифром, тайным кодом иного мира. И я, гордившийся своей пятеркой по английскому и умением читать сложнейшие схемы, стоял здесь беспомощный и немой, как первоклашка. Аяжэгобика, к моему стыду и моей гордости, стала моим переводчиком, моим штурманом и моим дипломатическим советником в этом невероятном плавании.
Первым к нам приблизился старец с посохом из темного дерева. Сама степь, казалось, смотрела на меня из-под его густых, седых бровей. Аяжэгобика чуть склонила голову и легонько, но очень настойчиво толкнула меня локтем в бок.
Я развернул листок, сделал шаг навстречу этому живому утесу и, собрав всю свою волю, начал читать, стараясь вложить в чужие слова как можно больше уважения и твердости:
– Архуэдон, уэлдай зэрдэйы!… Нэ Санеречъи, Нэ Ялкыны…
Я произносил хриплые, гортанные звуки, рожденные в бескрайних просторах, у костров, о которых я знал лишь по книжкам. Я не понимал их смысла, я лишь произносил заклинание, составленное для меня двенадцатилетней девочкой-волшебницей.
Старик слушал, не мигая, его темные, пронзительные глаза, казалось, читали самые потаенные мысли в моей душе. Я протянул ему топор – добротный, стальной, с рукоятью, отполированной до зеркального блеска.
Аяжэгобика что-то тихо и быстро сказала на своем языке, снова кивнув в мою сторону. Я уловил лишь свое имя – «Андыр» – и слово «сый», в котором угадал значение «подарок».
И лицо старца озарила медленная, подобная восходу солнца из-за горизонта, улыбка. Он взял топор, взвесил его на своей мозолистой ладони, оценивая тяжесть и баланс, и громко, на весь аул, произнес что-то одобрительное. Лед недоверия растаял, будто его и не было.
Так и началось наше шествие. Мы обходили дядей, теток, почтенных родичей. Для каждого у Аяжэгобики припасен был свой волшебный листок, а у меня в руках – свой дар: сверкавшие на солнце иголки, крепкие, как стебли степного репейника, нитки, сладости, пахнущие иным, «затоннельным» миром.
– Арфа ма уэ уидаг эгас уа, мадэм, – читал я, вручая легкую эмалированную кастрюлю женщине, чье лицо было похоже на старую, мудрую карту.
– Дыууэ сэрды тынтыл куы мбэлы, уэд уэхицэн дэр ракурын кэн, – объявлял я, передавая сверток с теплой одеждой суровому дяде с руками богатыря.
Затем настал черед сестер Аяжэгобики – двух девочек лет девяти, с любопытством и робостью разглядывавших меня. Девочки, развернув их, ахнули. В их ладонях заблестели простенькие карманные зеркальца в пластмассовых оправах, легкие разноцветные гребни, изящные пудреницы и флакончики туалетной воды, пахнущие, как весенний луг где-то в ином мире.
Пока они, перешептываясь, с восторгом разглядывали диковинки, я развернул очередной листок и прочел самую длинную и витиеватую фразу из всех, что она мне подготовила. Звучало это торжественно и по-птичьи певуче:
– Архуэрондэр чызгджытэ, уадидэн уат куыд архусэн Аяжэгобикэ, уэд дэр уыдадзы ракурын кэнут уасгэ мады эгъдэуттэ!
Я не понимал ни слова, лишь старательно выговаривал непривычные звуки. Но едва я закончил, по женской половине стойбища прошел одобрительный гул. Пожилые женщины с теплыми, внезапно смягчившимися улыбками стали кивать, а их взгляды – полные нового, безоговорочного уважения – обратились на Аяжэгобику. Она же, стоя чуть поодаль, приняла эту немую овацию с невозмутимым, почти царственным спокойствием, лишь чуть тронув уголок губ в подобии улыбки.
Ужин прошел в ореоле дымного пламени и непривычных, дивных запахов. Блюдо, похожее на плов, с огромным куском баранины, таявшим во рту, и с семенами степных трав, собранных чьей-то знающей рукой, стало украшением пира. Меня, как дорогого гостя, усадили по правую руку от старейшины – почтенного Ак-Бора с лицом, похожим на потрескавшуюся от зноя глину. В руки мне вложили тяжелый бронзовый нож с рукоятью, обмотанной кожей, – им полагалось отрезать себе самые лакомые куски. Есть следовало руками, без всяких приборов, и, хоть это и было непривычно, я справился, чувствуя, как каждый жест одобрительно отмечают десятки глаз.
После трапезы Ак-Бор медленно поднялся и жестом пригласил нас с Аяжэгобикой следовать за ним. Сумрак уже поглотил степь, и лишь костры отбрасывали тревожные тени на стены юрт.
– У нас для тебя тоже есть дар, о юный безбородый маг Андыр, – тихо, шепотом, перевела мне Аяжэгобика, пока мы шли за его могучей, чуть сутулой спиной. – Этот негасимый свет мой отец нашел в Каменных садах, очень далеко на юге. Никто не может разгадать его тайну – ни один колдун нашего племени. Приходили шаманы из других родов, но и они отступали. Теперь твоя очередь. И, может быть, тайные письмена, что мой дед нашел рядом с этим светом, помогут тебе.
С этими словами он откинул войлочный полог одной из юрт. Я вошел первым… и замер. Юрта изнутри освещалась ровным, спокойным светом. Воздух перестал вибрировать отблесками пламени, он был наполнен немыслимым здесь, стабильным сиянием. Мое сердце учащенно забилось. На невысоком столике из темного дерева стоял предмет, от которого веяло таким резким диссонансом, что у меня закружилась голова. Небольшой белый керамический светильник, и из его гнезда выглядывала лампочка накаливания. Да, непривычной, чуть вытянутой формы, с цоколем, которого я никогда не видел – не резьбовым, а с двумя странными боковыми штырьками. И на этом цоколе, изящно выведенные тонким, незнакомым шрифтом, красовались слова: «Lumi Engueon corp. Aurelia 1946».
Но откуда энергия? Я не видел здесь ни линий электропередач, ни ветряков, не журчания генератора. От ножки светильника, словно змеи, тянулись два проводка в плотной тканевой оплетке. Они уходили не в розетку, а упирались в прозрачный кристалл, лежащий тут же на столе. Размером с куриное яйцо, абсолютно чистый, и сквозь его граненую поверхность чудилось какое-то внутреннее, глубинное мерцание. И – ледяной на ощупь.
Рядом с этим немым чудом лежала толстая тетрадь в потертом кожаном переплете. Я машинально открыл ее. Страницы были испещрены мелким, убористым почерком. Буквы – латинские, но язык был мне абсолютно неизвестен. Словно кто-то вел здесь, в сердце раннего железного века, научные записи на языке, которого еще не должно было быть.
Я водил пальцем по холодному керамическому корпусу светильника, всматривался в кристалл, пытаясь силой мысли вырвать у него секрет этой вечной энергии. Голова шла кругом, мысли путались, цепляясь за обрывки школьных знаний по физике, которые рассыпались в прах перед этим немым чудом.
– Утро вечера мудреней! – раздался спокойный голос Аяжэгобики. Она стояла, уже разметав свои пледы на правой, женской половине юрты. – Так говорится в сказках вашего народа. Укладывайся и засыпай.
Прежде чем я успел что-то возразить, она легким движением накинула на светильник плотный войлочный чехол. Тьма наступила мгновенно, абсолютная и густая, будто этот незваный свет из иного мира и не являлся вовсе. Лишь слабый отсвет звезд, пробивавшийся сквозь дымоход в вершине юрты, постепенно проступал в черноте, возвращая все на свои места. Спектакль окончился. Аяжэгобика, моя дипломат и переводчица, удалилась на свою половину. А я, юный безбородый маг Андыр, остался один с тяжестью неразгаданных тайн.
Я рухнул на теплый, мягкий ковер. Укрывшись тяжелой, пахнущей дымом и шерстью кошмой, я закрыл глаза. И почти в тот же миг, под звук бесконечного степного ветра и мерцание далеких звезд, видимых сквозь отверстие в вершине юрты, я провалился в глубокий, бескрайний сон, где по бесконечным равнинам бродили призраки незнакомых машин и звучала речь незнакомых людей.
Глава шестая. Бремя чести
Волшебный светильник прожил в нашем доме всего один вечер. Но и этого хватило, чтобы произвести на нашу семью странное, тревожное впечатление. Он не грел, не потрескивал, как лучина, а просто был – холодный, бездушный и совершенный. Мы сидели за столом, и его ровный свет отбрасывал на стены чёткие, непривычные тени, делая знакомую комнату чужой.
– Но… откуда берётся ток? – отец уже пару часов крутил в руках яйцевидный кристалл, подносил к нему компас, водил вокруг пальцами, словно пытаясь ощутить невидимое поле. – Здесь нет химической реакции, нет очевидного источника. Это… волшебство.
– Этот свет ничего хорошего не принёс нашему роду, – тихо, очень чётко сказала Аяжэгобика. Она сидела на диване, поджав ноги, и её зелёные глаза в новом, искусственном свете казались бездонными. – Когда он появился, дела стали идти хуже. Скот болеть, люди умирать, зимой стало выпадать больше снега… Меня лиса укусила.
– Но тебя же спасли, – возразил Ратибор, прибежавший полюбоваться на наш «огонёк».
Аяжэгобика кивнула, но её лицо не стало светлее.
– Да. Спасли. Но давайте не будем этим светом… восторгаться, – произнесла она слово, вычитанное, должно быть, в одном из томиков серии «Классики и современники», которые она теперь поглощала с жадностью ненасытного ума. И предложила то, до чего мы, загипнотизированные техномагией, и не додумались: – И позовём не колдунов, а учёных.
С этими словами она встала и накрыла светильник всё тем же войлочным чехлом, словно набрасывая саван на неупокоенную душу. А затем – щелкнула настенным выключателем. Комната с облегчением вернулась к привычному светодиодному свечению здешнего электричества, выработанного плотиной, перегородившей Ануй.
А я в тот вечер совершил, как оказалось, главный в своей жизни поступок. Когда Ратибор попрощался, я унёс в свою комнату ту самую тетрадь и, листая её с замиранием сердца, аккуратно, не пропуская ни страницы, отсканировал камерой смартфона. Страницы, испещрённые чужими словами, уплывали в память телефона, словно призраки в Лету.
И, как оказалось, не зря.
Утром, когда мы ещё спали, у наших ворот скрипнул тормозами пыльный «УАЗ» со служебными номерами. Мужчины в штатском, вышедшие из него, были на редкость невыразительны. Их документы были настоящими, а объяснения – лаконичными, как выстрел:
– Соображения государственной безопасности.
Они вошли в дом, и их движения были точными и выверенными. Светильник, кристалл, проводки – всё было упаковано в специальные контейнеры с мягкими ячейками.
– И тетрадь. Тетрадь тоже сдайте, – сказал старший, и его голос не допускал возражений.
Я молча протянул ему кожаную обложку, чувствуя, как в кармане за спиной безмолвно горит мой смартфон с бесценными сканами.
Затем последовали подписки о неразглашении. Взяли их со всех, кроме Алёнки – даже с Агаты, которая подписывала бумагу с таким видом, будто это тайный договор с феей. И, зная, что мы всё равно не сможем хранить язык за зубами, старший добавил уже почти по-человечески:
– Поменьше, пожалуйста, об этом рассказывайте.
Когда «УАЗ» уехал, он увёз с собой часть тайны, оставив после себя вакуум, звонкую, тревожную пустоту.
Немного радовалась лишь Аяжэгобика.
– Ну вот, – сказала она, глядя на пыльную колею от колёс. – Они унесли проклятье с собой.
Я же был доволен хоть тем, что удалось сохранить. В школьном кабинете отца цветной принтер, гудя, выдал восемьдесят два листа, пахнущих краской и тайной. Я разложил их на столе, вооружился лупой и погрузился в изучение причудливых букв, пытаясь найти хоть какую-то зацепку. Здесь меня и застал Артём Сергеевич, который с первого ноября должен был стать нашим учителем истории и классным руководителем.
– Ну что, – спросил он, подходя к столу и с интересом разглядывая распечатки, – получилось что-то разобрать?
– Пока только вижу, что язык – явно индоевропейский, – сказал я, водя лупой по строке. – Что-то среднее между английским, немецким и… испанским, что ли?
– Дай-ка мне файл со сканом, – сказал он решительно. – Довольно детских игр с лупой. Попробуем более эффективный вариант.
И он отправил цифрового призрака из Тёплой Сибири по сети в лингвистическую лабораторию университета, что остался по ту сторону тоннеля. Там, где звёзды были привычными, а загадки – хоть и сложными, но всё-таки земными. Наша же загадка была иной. И ответа на неё, я чувствовал, в нашем старом мире найти пока было нельзя.
И вот, спустя несколько дней, что показались вечностью, Артём Сергеевич вновь предстал передо мной. В его глазах читалось то особенное выражение, которое бывает у учёного, когда кусочки мозаики вдруг складываются в осмысленную картину.
– Твоя догадка насчёт индоевропейской принадлежности языка, – продолжил он, расстилая на столе папку с распечатками, – оказалась верной. Более чем верной. – На верхнем листе красовался логотип: «ДГУ, Лаборатория информатизации». – Они прогнали твой файл через «Кулунду».
Я замер. «Кулунда» – квантовый суперкомпьютер, о котором мы знали лишь по скупым новостям с «той стороны». Он решал задачи, неподъёмные для обычных машин. По слухам, именно он стал причиной обвала криптовалютного рынка. И, якобы на нём был разгадан «манускрипт Войнича».
– И вот результат, – Артём Сергеевич положил передо мной толстую стопку бумаг. – Язык относится к германской группе, но… он словно законсервированная древность. Невероятно сложный, синтетический. Как наш русский или латынь – с падежами, спряжениями, целыми гроздьями суффиксов и приставок. В нём сохранилось то, что в английском и немецком давно стёрлось.
Я взял её. Бумага была тёплой от принтера. Я с благоговением перелистывал страницы. Здесь были грамматические таблицы, правила, которые «Кулунда» вывела за считанные часы, и даже небольшой словарик.
– Но… знаешь, – голос Артёма Сергеевича стал тише и значительнее. Он достал из папки последнюю, совсем тонкую пачку листов. —Полный перевод рукописи я тебе не дам. Это будет не интересно. Так что… Читай со словарём, – мягко сказал Артём Сергеевич. – Но приготовься. Это… меняет всё.
Я перевёл дух и начал переводить.
«Meni names es Umar Dontar», – гласила первая строка на том самом, чужом языке. И… это был первый шаг.
«Меня зовут Умар Донтар. И я – лейтенант Армии Энгвеонов, попавший в плен к вендам. Но прежде, чем рассказывать о моём сегодняшнем быте, не столь уж тяжком и безнадёжном, расскажу всю свою историю, приведшую меня сюда, на берега Северо-Восточного океана. История эта долгая, но торопиться мне некуда».
Минут через десять напряжённой работы, я оторвался от листа и посмотрел на Артёма Сергеевича. В его глазах я увидел то же потрясение, что чувствовал сам. Это была исповедь.
– «Венды»… «Армия Энгвеонов»… «Северо-Восточный океан»… – я пробормотал эти слова, пытаясь осмыслить их.
– И этот Умар Донтар. Он солдат. Солдат, который вёл дневник в плену.
Я унёс распечатки домой и снова уткнулся в текст, но теперь буквы оживали. Я уже не просто видел перевод, я слышал голос. Спокойный, смирившийся, принявший свою судьбу. Он не торопился, у него было впереди всё время в мире. И он собирался рассказать всё. Всю свою историю. Историю войны, о которой мы ничего не знали. Историю мира, который существовал здесь, на этой стороне тоннеля, пока на нашей стороне гремели залпы Второй Мировой. И этот мир, судя по всему, был куда больше, страшнее и удивительнее, чем мы могли предположить.
«Мой отец, Альдус Грон, был родом из самого центра страны, что прятался в седых облаках Энгвенских гор. Семья его жила небогато, но и не бедствовала, и главным их капиталом были честность и упорство. В гимназии он грыз гранит наук так, что от его прилежания звенели в воздухе сами молекулы знаний. Его выпускной аттестат, который я как-то держал в руках, был пропуском в другую жизнь, выданным за беспримерную доблесть на поле брани с логарифмами и древними языками. Этот пропуск открыл ему двери университета, а затем привёл в статистическое управление в Аурелии – огромном городе, чьи шпили, я представлял, пронзали небо, как иглы, на которые нанизаны тучи. И именно там, среди кип цифр и отчетов, его и настигла Великая депрессия – чудовище с невидимым лицом, пожиравшее сначала деньги, а потом и души.»
Я отложил листок и на мгновение закрыл глаза, давая улечься волне странного, почти мистического узнавания. Этот чужой мир, лежавший где-то далеко к югу от Тёплой Сибири, был до жути знакомым. Сквозь сухие строчки воспоминаний проступали очертания мира-двойника, мира-отражения в треснувшем зеркале. Здесь тоже считали годы от Рождества Христова. Здесь тоже были свои титаны Возрождения, свои фанатики Реформации, свои мечтатели Просвещения, свои дымные трубы промышленной революции. Даже призраки левых и правых социалистов, бьющиеся за души рабочих, и те были теми же самыми – только под другими именами. Вся история, казалось, шла параллельным курсом, пока не наткнулась на невидимый риф и не дала течь. И теперь обломки её – войны, депрессии, крушения надежд – выносило сюда, на страницы этого дневника, написанного под сводами того, что племя Сынов Степей звало Каменными садами.
«Но там, где одни видели крах, другие, с более гибкой совестью, разглядели золотые жилы. Отец рассказывал, как его коллеги, эти виртуозы отчётности, соткали из служебных положений и казённых бланков тёмную, запутанную паутину. Суммы, уплывавшие из имперской казны, достигали баснословного миллиона крон. А когда паутину вскрыли, все стрекозы-подельники дружно указали на одного-единственного кузнечика – моего отца. Его честность оказалась самой удобной мишенью. Ему грозила решётка, холодная и неумолимая, как закон.»
Я представил этого молодого, идеалистичного экономиста, Альдуса Грона, с его безупречными принципами и верой в цифры. И представил, как будто не ему, а мне задают следующий вопрос.
«– Но зачем тебе тюрьма? – слышался ему сладкий, лицемерный шёпот вчерашних собутыльников. – Поезжай-ка лучше в Порт-Сандер! Воля, солнце, море. Заработаешь – и заведёшь себе целый гарем… из местных блондинок. Мы тебе ещё позавидуем!
И отец, сломленный и подавленный, подписал бумагу – эту странную отставку с признанием вины и клятвой никогда не возвращаться в Метрополию. Он сел на корабль и отплыл на край света, на остров Олденир, затерянный в южных морях. Там, в аппарате провинциальной администрации, как грибы после дождя, росли «удачные проекты», сулившие лёгкие деньги. Но мой отец, словно заклинание, твердил сам себе свои университетские заповеди и жил лишь на жалование – те самые пятьдесят крон, что аккуратно перечислялись ему каждый месяц. Их хватало на маленькую квартиру с видом на пыльную площадь, на простую еду, на скромный костюм и даже на призрачную надежду, отложенную в старую шкатулку.
И вот однажды, в душный пятничный вечер, его старший коллега, человек с лицом постаревшего сатира, хлопнул его по плечу своей мясистой ладонью.
– Да брось ты корчить из себя святого! – просипел он, и от него пахло дешёвым ромом и цинизмом. – Наша работа – это бег по кругу, который никуда не ведёт. Её всё равно не переделать. Пошли, я покажу тебе город, который тебе и не снился…»
– Это же чистой воды художественный вымысел, – пожал плечами Ратибор, пришедший помочь мне, откладывая распечатку. Его вердикт прозвучал так же гладко и безапелляционно, как звон монеты на столешнице. – Фэнтези, приправленное альтернативной историей. Ну посуди сам, двадцатый век на дворе – и вдруг классическое рабовладение? Нестыковочка!
Но для меня голос Умара, звучавший со страниц, был куда реальнее скепсиса моего приятеля. Он вёл меня по следам своего отца с неумолимостью судьбы.
«Тот старший коллега, пухлый и благостный, словно кот, насытившийся чужими сметанами, усадил отца в потрёпанное такси и повёз показывать ему его новую родину.
– Местные белобрысые аборигены, – снисходительно пояснял он, – зовут этот город Суранам. Да и весь остров для них не Олденир, а Аланар. А нас, энгвеонов, они величают «бронзолицыми». Их священный металл – брона. Это помогло нашим предкам их когда-то обхитрить и подчинить. Ловко придумано, а?
Экипаж катился по убогим, пыльным улочкам, застроенным лачугами из ржавого железа и подгнившего дерева.
– Здесь обитают вонючие сандеры, – флегматично заметил коллега. – Цивилизованному энгвеону тут делать нечего, если он, конечно, дорожит своей шкурой. Даже полиция предпочитает сюда не совать свой нос. А вот здесь, – за окном замелькали домики чуть опрятнее, с жалкими клочками зелени у фасадов, – селятся метисы. Публика уже чуть почище, поумнее… Сказывается капля нашей, энгвеонской крови.
Ненадолго машина вырвалась на широкую, залитую солнцем главную площадь Порт-Сандера, промчалась мимо монументального дворца губернатора и не менее величественного здания Публичной библиотеки, чьи строгие колонны казались воплощённым знанием и порядком. Но вот такси снова нырнуло в лабиринт портовых кварталов, где воздух густел, пропитанный запахами солёной воды, гниющих фруктов и чего-то едкого, чужого.
Коллега, кряхтя, расплатился с таксистом-метисом и вывалился на мостовую, смахнув с лацкана пиджака несуществующую пыль:
– Вот. Настоятельно рекомендую сие заведение. «Малышки мадам Клюко», – он многозначительно ткнул пухлым пальцем в сторону двухэтажного дома, – Отменное сочетание цены и… качества услуг. Ну, или можешь просто прогуляться по этим улочкам. До наступления темноты здесь ещё относительно безопасно.
Отец мой, человек кабинетный, воспитанный на классических романах и строгих моральных принципах, не испытывал ни малейшей тяги к храмам порока. Кивнув на прощание, он просто пошёл, куда глядели глаза, вдоль вереницы кабаков, из которых доносились хриплые песни, и домов с полуодетыми женщинами в распахнутых окнах.
И вдруг его шаги замерли. Взгляд, скользивший по вывескам с похабными названиями, наткнулся на одну, что резанула сознание, как удар хлыста. Слова были начисто лишены крикливости, они были выведены солидным, даже строгим шрифтом, отчего становились лишь страшнее.
«Невольничий рынок».
Он стоял и смотрел на эти чёрные, бездушные буквы, в то время как мир вокруг, шумный и порочный, вдруг утратил для него все краски и звуки. Всё, что он знал об этом месте, все намёки, все циничные советы – всё это собралось в одну точку, в эту вывеску, что висела над его новой жизнью, как приговор. И в этот миг он понял, что очутился не просто на краю Империи. Он очутился на её дне.
Не знаю, каким ветром затолкнуло его под ту зловещую вывеску. Не любопытство – отвращение ворочалось в нём комом. Может, желание убедиться, что и этот кошмар – часть той самой «новой жизни», на которую он обменял свою честь? Он шагнул в полумрак, пахнущий потом, пылью и чем-то сладковато-приторным.
– Мы уже закрываемся, – раздался ленивый, хриплый голос. Из-за конторки поднялся верзила с лицом, будто вырубленным топором из старого дуба. Он смотрел на отца скучающим, почти сонным взглядом хищника, сытого до отвала. – Конец недели… А потому готовы со скидкой предложить именно то, что тебе нужно! Заходи, – это прозвучало не как приглашение, а скорее как приказ. И отец, сам не понимая почему, подчинился, переступив порог.
В тусклом свете газового рожка он увидел её. Девушку, сидевшую в скромном платье на голой деревянной скамье. Ей было лет пятнадцать-семнадцать, не больше. И главное, что бросилось в глаза – её волосы. Длинные, прямые, они ниспадали тяжёлым, белоснежным водопадом, сияя в полутьме неестественным, призрачным светом. Она сидела, поджав колени, и казалась не живым существом, а изваянием из мрамора.
– Встань! – рявкнул на неё верзила, и его голос, как удар бича, разрезал затхлую тишину. – Не видишь, что ли, смуглого господина?
Девушка вздрогнула и вскочила, точно её ударили током. На мгновение её глаза, синие-синие, как лёд в горном озере, широко распахнулись, и в них мелькнул бездонный, животный ужас.
– Повернись, – снова приказал работорговец. Когда она медленно, словно автомат, повернулась, он жестом, полным гадливого восхищения, обвёл её стройную, почти хрупкую фигуру. – Видишь? Это же статуэтка! Жаль, деньги нужны, а так бы себе оставил. Сто двадцать, – отрубил он, словно называл цену за кусок мяса.
– Почему так дорого? – выдавил отец, и его собственный голос показался ему чужим.
Верзила с театральным вздохом открыл ящик стола, достал свежий лист с печатью и ткнул им перед самым носом отца.
– Читай. Заключение врача. Абсолютно невинна. Товар высшей пробы, которым никто и никогда не пользовался. Ты можешь стать первым!
В груди у отца закипела такая ярость, что в висках застучало. Ему хотелось схватить эту тварь за глотку, разнести вдребезги эту позорную лавку. Но он стоял, парализованный холодным, трезвым расчётом. Что он может? Один, чужой, без связей и состояния? Его порыв ничего не изменит. А оставить её здесь… мысль об этом была столь же невыносима.
– Сто, – вдруг произнёс он, и сам ужаснулся этому торгу, в который ввязался.
– Это несерьёзно. Сто пятнадцать.
– Сто пять, – почувствовал он, как почва уходит из-под ног, как сам становится соучастником этого ада.
– Послушай, – продавец внезапно перешёл на панибратский, жалобный тон, разыгрывая спектакль. – У меня Семья. Дети. Мне надо их кормить. Да я и сам её за девяносто купил на плантации. Готовить умеет. И шить… Сто десять. Моя последняя цена.
– Чеком, – механически добавил отец, понимая, что в карманах у него лишь жалкие гроши. Он покупал её не наличными, а будущим, которое только что подписал.
– Это грабёж. Ну, ладно, договорились, – верзила развёл руками, изображая убыток, но в его глазах плескалось удовлетворение.
Когда они вышли на улицу, и он усаживал её в такси, в голове стоял оглушительный гул. Он купил человека. Он стал частью этой машины. Он смотрел на её белые, как лён, волосы, на тонкую шею, и чувствовал себя не спасителем, а очередным хозяином, просто более вежливым.
– Как тебя… хотя бы зовут? – тихо спросил он, захлопывая дверцу.
И он понял, что этот вопрос не имеет никакого значения. Сделка совершилась. И часть его души навсегда осталась там, в той лавке, под вывеской «Невольничий рынок». Он приобрёл не служанку, а тяжёлое, колючее бремя собственного молчаливого согласия. Девушка молчала, глядя в запотевшее стекло, за которым плыли чужие огни засыпавшего города. Её лицо было неподвижной маской, но в синих, озерно-ледяных глазах стояла такая бездна отчаяния, что он поёжился.
– Аэлин, – прошептала она наконец, и имя прозвучало как эхо из другого, чистого мира, мира высоких снежных вершин и звонких ручьев, который она, возможно, помнила в снах.
Знаете, я отца даже не стану осуждать. В том аду, куда его забросила судьба, среди циничных и отпетых дельцов, найти себе жену-энгвеонку было невозможно. Они бы не приняли его, бедного чиновника, а по документам – бывшего преступника, пусть и в действительности невиновного. А покидать остров ему было запрещено. Он оказался в ловушке.
Любил ли он её? Да. С того самого мгновения, когда увидел её ледяные глаза, полые страха, и понял, что не может уйти, оставив её в этой клетке. А она? А куда ей было деваться? Её мир сузился до стен его скромной квартирки и его смуглого лица, склонённого над вечерними газетами.
– Аэлин, я тебя не держу. Честное слово. Ты можешь уйти, – не раз, сжимая от бессилия кулаки, говорил он ей. – Но я тогда ничем не смогу помочь тебе на этом проклятом острове. При всём моём желании.
И она не уходила. Через полтора года у Альдуса Грона и беловолосой Аэлин Донтар родился сын. Тот, кто сейчас и пишет эти строки.
– Его надо учить, – с тревогой в голосе повторял отец, глядя, как я подрастаю. И тут вставала стена. Расизм. Жёсткий, системный, пронизывающий всё, как ржавчина. То, что отец-энгвеон «содержит» рабыню, наши кареглазые соседи принимали с понимающими, снисходительными ухмылками. Грешок, бывает. Но их дети… их дети отказывались со мной играть. Отталкивали от общей песочницы с криком: «Куда прёшь, белобрысый?!». Школ для таких, как я, «полукровок», тогда не существовало. Будущее моё виделось отцу мрачным тупиком.
Но однажды, когда мне едва исполнилось семь, отец вбежал в дом, размахивая свежей газетой. Его глаза, обычно усталые, горели.
– Кадетский корпус! – выдохнул он, протягивая газету маме. – Объявление. Набирают детей-метисов. – Он посмотрел на неё, и в его взгляде была не только надежда, но и мольба о прощении за тот выбор, который он был вынужден сделать. – Это шанс, Аэлин. Единственный шанс на лучшее будущее для нашего мальчика.
Они стояли друг напротив друга, два изгоя, связанные странной, трагической связью, и в тишине между ними висела вся тяжесть их общей судьбы. И в этой тишине рождалось решение, которое навсегда изменит мою жизнь.
Разговор в приёмной комиссии был недолог и жесток, как удар топора.
– Сколько подтянешься? – сипло спросил обрюзгший офицер в форме с подполковничьими погонами, лениво ткнув пальцем в сторону турника.
Вместо ответа я, не говоря ни слова, вскарабкался по длинной вертикальной трубе до самой перекладины и повис, чувствуя под пальцами шершавый холод металла. Потом начал поднимать себя рывками, вкладывая в каждое движение всю злость и обиду, копившиеся годами.
– Десять, одиннадцать… – лениво считал подполковник, и в его голосе сквозала скука. Но счёт продолжался. – …Пятнадцать… шестнадцать… Довольно! – вдруг рявкнул он, когда я уже чувствовал, как горят мышцы. – Хватит! Я устал считать!
Я спрыгнул на пол, едва переводя дыхание, и поспешил занять место. Судьба не любит, когда её испытывают.
– Наши-то и пять раз дёрнуться не могут, – услышал я шёпот другого офицера, обращённый к третьему, молчаливому и внимательному. – Ну, а таблицу умножения знаешь? Отвечай быстро! Дважды шесть!
– Двенадцать! – выпалил я, едва он договорил.
И вот – последнее испытание. Напротив меня стоял темноволосый мальчишка, почти не отличимый от чистокровного энгвеона. Лишь чуть более широкие скулы и разрез глаз выдавали в нём полукровку, как и во мне. Позже я узнаю, что он был энгвеоном на три четверти, но для комиссии это не имело значения – всё равно чужак.
– Вам надо подраться, – голос подполковника прозвучал холодно и бесстрастно. – Кто победит – к тому и вопросов больше нет. Тот и будет принят. До первой крови. На счёт раз.
И началась битва не просто за место в корпусе, а за наше будущее. Мы сцепились, как два щенка, загнанных в один угол. В ход пошло всё: кулаки, подсечки, захваты. Мы не знали друг друга, но ненавидели в этот миг искренне – как олицетворение всех преград, что жизнь поставила на нашем пути. Через пару минут наши лица украшали багровые пятна, а из носов струились алые дорожки, пачкавшие казённый пол.
– Достаточно! – раздалась наконец команда. – Оба приняты!
Мы отшатнулись друг от друга, тяжело дыша, с трудом понимая, что кошмар закончился.
– Лорик, – хрипло сказал темноволосый мальчишка, протягивая мне руку. В его взгляде уже не было злобы, лишь уважение и усталость.
– Умар, – ответил я, пожимая его ладонь. И понял, что это был последний бой, где мы стояли по разные стороны баррикады. Впереди нас ждала общая судьба.
Итак, начались десять лет казармы. Да, именно так. Пока бронзолицые отпрыски островной элиты жили в уютных двухместных комнатках, мы, все двадцать четыре кадета экспериментального набора, дневали и ночевали в одной огромной, продуваемой всеми ветрами зале. Наши койки стояли впритык друг к другу, а личным пространством был лишь узкий тюфяк и табуретка.
Жизнь наша была подчинена строгому ритму: подъем, строевая, занятия, отбой. Но самым тяжелым был не распорядок, а тихий, ежедневный фронт, который тянулся по другую сторону нашего коридора. Проходя мимо их комнат, мы постоянно слышали шипящие, как змеи, насмешки:
– Смотри-ка, белобрысая гиена прошагала!
Но мы быстро научились не глотать яд, а выплевывать его обратно. Лорик, наш главный заводила, отточил это до искусства.
– Говоришь, «белобрысый»? – он поворачивался к обидчику, и его голос звучал ледяной вежливостью. – Хочешь доказать, что ты лучше? Прошу, завтра на боевых искусствах. Один на один. Судья – майор Хаггис. А что, в бойцовском духу не хватает? Сразу на попятную?
Однажды такая перепалка затянулась, и из-за угла возникла высокая, сухая тень капитана Блэкстейла.
– Кадет Донтар! – его голос, холодный и резкий, как удар сабли, назвал меня по фамилии матери – той, под которой я значился в списках корпуса. – Немедленно прекратите! Хотите подраться?
Я щелкнул каблуками, вытянувшись в струнку, и отрапортовал, глядя в пространство поверх его плеча:
– Никак нет, господин капитан! То есть, так точно, господин капитан! Желаю иметь честь подраться с господином кадетом Вэйнстоком один на один в ходе занятия по боевым искусствам!
– Это исключено! – отрезал капитан, и в его глазах мелькнуло знакомое раздражение. – Вы обучаетесь по разным программам!
И всем было понятно, почему программы были разными. Детей энгвеонов брали… всех, кого родители могли устроить в этот престижный корпус. Нас же, «полукровок», отбирали с пристрастием, как отбирают алмазы из породы – только самых твердых и самых ярких. И мы знали это. Мы были парией, но парией, собранной по конкурсу. И эта мысль грела нас долгими вечерами, становясь нашим тайным оружием.
Мы и правда были лучшими. Позже, на выпуске, наш эксперимент закончится девятью красными дипломами из двадцати четырех. Но тогда, в гуще казарменных будней, мы просто знали – наш единственный шанс выжить и доказать что-то этому миру был в том, чтобы быть лучше их. Во всём. Всегда.
Возможно, секрет был не в силе наших мускулов, а в силе чего-то иного, что горело внутри нас – того, чего у них не было. Или, может, именно потому, что мы побеждали их в вопросах чести и морали, нам удавалось быть сильнее и в науках, и в строю.
Ох, даже не знаю, кому выпадет читать эти строки и какие чувства они вызовут. Но это – правда, и я обязан её записать.
Существовал издавна у кадетов Порт-Сандера дикий, варварский обычай. Они называли его «Лотерея». Проводилась она в канун последних осенних каникул. У энгвеонов это выглядело так: компания кадетов из одного отделения скидывалась на крупную сумму. Старший кадет на эти деньги покупал на невольничьем рынке нескольких юных рабынь. По чудовищным правилам, одна из них обязательно должна была быть невинна – а потому стоила целое состояние. Какая именно – не сообщалось. Она-то и становилась «главным призом», переходя в полную собственность того, кому выпадет жребий. Остальных же утром, опозоренных и отчаявшихся, перепродавали – чтобы хоть как-то окупить мерзость этого предприятия.
Естественно, мнение самих девушек, этих живых «призов», никто не спрашивал. Их воля, их души – всё это в расчёт не принималось.
Весть об этой «лотерее» долетела и до нас, и в нашей общей спартанской зале повисла тяжёлая, гнетущая тишина. Мы чувствовали на себе взгляд всей этой гнилой системы. Ждали нашего хода.
– Что делать будем, господа кадеты? – тихо, но чётко спросил наш командир, Дориан. Его спокойный голос был похож на стальной клинок, обнажённый в полумраке.
– Как минимум, два варианта, – первым нарушил молчание самый рациональный из нас, Лорик. – Не устраивать никакую лотерею. У нас и денег-то толком нет. Тем более – на невинных невольниц.
– Ха, и они засчитают нам «техническое поражение»! – тут же парировал Изар, юноша, чьи кулаки были размером с пудовые гири. – Не стоит доставлять им, – он мотнул головой в сторону коридора, за которым обитали наши «благородные» однокашники, – такого удовольствия.
– Ты предлагаешь купить рабынь… и стать такими же, как они? – без тени осуждения, но с убийственной прямотой спросил Дориан. Его взгляд скользнул по нашим лицам.
Тишина вновь стала густой и плотной, как смола. Мы стояли на краю пропасти. С одной стороны – насмешки и позор «технического поражения». С другой – нравственное падение, уподобление тем, кого мы презирали.
И вдруг, сквозь эту гнетущую тишь, прозвучал тихий, но твёрдый голос. В нём не было бравады, только чистая, кристальная ясность:
– А давайте… просто отпустим их на свободу?
Предложение повисло в воздухе, такое же немыслимое и дерзкое, как попытка зажечь свечу в ураган. Мы не будем играть в их игры. Мы напишем свои правила. И первым правилом будет – человек не может быть призом.
Так мы и поступили. Это была лотерея не для нас – а для них, для тех несчастных душ, что в тот вечер обрели не хозяев, а странных, неумелых спасителей в кадетских мундирах. По крайней мере, мы в этом не сомневались.
Мы сняли для них номера в убогой гостинице на самой окраине, где пахло плесенью и отчаянием, заказали скромный ужин из ближайшей харчевни и, выстроившись перед ними, с торжественными и взволнованными лицами, объявили наш вердикт, наш великий дар:
– Дамы! С этого мгновения вы – свободны!
Мы ждали слёз облегчения, восторженных возгласов, может быть, даже радостных объятий. Мы приготовились к благодарности, как к заслуженной награде.
Вместо этого нас встретила гробовая, давящая тишина. И сквозь неё, тихим, но твёрдым голосом, прозвучал вопрос самой рассудительной из них. В её глазах не было ни радости, ни надежды – лишь холодный, животный ужас.
– И… что мы будем делать?
Он повис в воздухе и ударил нас сокрушительной силой. Мы – стратеги, тактики, лучшие кадеты корпуса – не просчитали самый главный ход. Мы дарим свободу, не подумав, что это за дар такой – выбросить человека в чуждый, враждебный город, без крова, денег и защиты. Наша возвышенная идея в одно мгновение рассыпалась в прах, обнажив свою детскую, жестокую наивность.
– Давайте… мы ответим вам утром, – произнёс Дориан, и в его всегда твёрдом, командирском голосе я впервые услышал трещину, дрожь неуверенности.
Вернувшись в свою казарму, мы стояли в сгустившейся тьме, и стыд жёг нам щёки.
– Мы эту кашу заварили, мы и должны расхлёбывать, – глухо сказал Дориан. – Все идеи – на стол!
Идеи рождались, шипели и лопались, как мыльные пузыри. До самого рассвета. А наутро план был. Его принёс Лорик. Он объявил, что готов на величайшую жертву – отчислиться из корпуса. Добровольно. Стать предпринимателем. На наши деньги – вернее, на те жалкие гроши, что остались от нашего «благородного» жеста – открыть дело.
– Одежда, – коротко и ясно, как выстрел, объяснил он. – В этом городе никто не умеет шить хорошую одежду. Посмотрите, как мешковато сидят мундиры на офицерах, как безвкусно одеты жёны чиновников. Я открываю швейную мастерскую. А девушки… – он посмотрел на нас, и в его глазах горел огонь не авантюриста, а полководца, начинающего новую битву, – девушки будут моими первыми работницами. Я дам им не просто свободу. Я дам им ремесло. Кров. И защиту.
Это было безумием. Отчаянной, почти самоубийственной авантюрой. Но это был единственный шанс спасти не только их, но и наши собственные души от клейма красивых, но пустых жестов.
И каким-то чудом, силой одной лишь воли, упрямства и братской веры, этот сумасшедший план заработал. «Иголка» Лорика не просто открылась. Она уцелела. Она стала крошечным, но несгибаемым оплотом чести в городе, где честь была роскошью. И первое платье, сшитое в её стенах, стало для нас настоящей, выстраданной победой. Победой, которая стоила дороже всех красных дипломов на свете.
– О, Умар, здорово, что ты пришёл! – первыми словами Лорика, встретившего меня на пороге цеха, было искреннее, измождённое облегчение. Он пробирался между рядами, сгорбившись под горой рулонов с тканями, и лицо его было серым от усталости. – Зашиваюсь просто. Работаем по восемнадцать часов в сутки… только чтобы удержаться на плаву. Может, поможешь? – он кивнул на молчавшую, понурую машинку в углу. – У тебя же руки, я знаю, растут откуда надо. А мои пока не доходят. Надо починить… Зарина… – он произнёс это имя впервые, и оно прозвучало как-то особенно, – девушка, что на ней работает, прихворнула, но скоро должна выйти.
Как же кстати оказалось, что я был после стрельбищ, в промасленной, пропахшей порохом полевой форме. Не боясь испачкаться, я с наслаждением погрузился в знакомую возню с винтиками и рычажками. Через пятнадцать минут машинка уже весело и злобно стрекотала, вгрызаясь в ткань.
– Молодец! – Лорик снова возник рядом и сунул мне в руки свёрток. – Теперь вот это отнеси Зарине. – В пакете лежали румяные яблоки, бутылка молока, свежий батон. – И проследи, чтобы лекарства приняла. И извинись за меня. Честно, сам не могу отойти.
Общежитие для работниц находилось тут же, прямо над цехом на втором этаже, куда вела узкая, крутая, гулкая железная лестница. Я поднялся и замер в дверях. Большая комната, заставленная рядами простых кроватей с серыми одеялами, те же скромные тумбочки… Это было до боли знакомо. Прямо как наша казарма в кадетском корпусе. Тот же дух коллектива, та же строгая бедность, но здесь пахло не порохом и мужским потом, а мылом, нитками и лёгким, терпким ароматом девичьих волос. В комнате было тихо, и лишь в дальнем углу, на одной из коек, лежала, укрывшись до подбородка одеялом, хрупкая фигура.
– Я починил твою машинку, – выпалил я, переступая порог и чувствуя себя неловко от собственной прямолинейности. Приличного приветствия в голове не нашлось. – А ты… как?
– Уже лучше, – её голос прозвучал тихо, но в нём слышалась искренняя благодарность. И её лицо, хоть и бледное, казалось удивительно тёплым. Потом она вздохнула и задала вопрос, который, видимо, давно её мучил: – Зачем вы это сделали?
Пришлось, с трудом подбирая слова, ковылять по минному полю объяснений. Я рассказал ей о «Лотерее», о мерзком обычае кадетов-энгвеонов, о нашем решении дать бой не людям даже, а самой системе. И – честно признался, сгоряча, что бой этот мы выиграли с грехом пополам, а настоящее сражение – за выживание этого фабричного островка – только начинается.
– Но я верю в Лорика, – твёрдо закончил я. – Он справится. Он умеет сварить обед из щепок и пустого ящика. Починить примус сломанной иголкой. Или добыть огонь трением двух ледяных глыб.
«И в тебя тоже верю», – промелькнуло у меня в голове, когда я смотрел на её серые глаза, на строгие, прекрасные черты её слегка смугловатого лица, на волосы, которые были не белоснежными, как у матери, а цвета спелой пшеницы. Но я, конечно, ничего такого не сказал. Вместо этого спросил с подчёркнутой деловитостью:
– Он вам хоть выходные-то даёт?
– Да, конечно, – она даже слегка встрепенулась, словно оправдывая Лорика. – Послезавтра как раз будет. И… фельдшера он мне оплатил. И зарплата будет… восемь шиллингов.
– Вот и замечательно, – кивнул я, и на душе стало чуть светлее.
А через день я снова стоял у проходной фабрики, со скромным, пёстрым букетом полевых цветов, собранных по дороге. И понимал, что чинить машинку оказалось куда проще, чем разобраться в том, что творилось сейчас в моём собственном сердце.
Глава седьмая. Голос из-за горизонта
В школе мы с Ратибором сидели за одной партой, у самого окна, за которым плыли какие-то другие, более неторопливые и задумчивые облака, совсем не те, что остались в прежнем мире. Честно говоря, на уроках порой накатывала такая тоска, что хоть беги из класса. Но мы нашли свой способ спасаться – мы начинали переписываться.
Не в соцсетях, конечно. О них здесь и не слыхивали. На самом первом же собрании нам, а потом и нашим родителям, чётко и ясно объяснили: носить в школу смартфоны строжайше запрещено. Закон Республики Тёплая Сибирь №32, и точка. Нарушишь – получишь учёт, гаджет изымут, да ещё и дорога в учебные заведения следующего уровня может оказаться закрыта. Частная собственность? Здесь, в Тёплой Сибири, она не была такой уж «священной и неприкосновенной». Знания и дисциплина ценились куда выше.
Так что мы переписывались по старинке, как пионеры-разведчики или герои приключенческих романов – на последней странице тетради. Чтобы учителя и одноклассники не догадались, о чём мы толкуем, мы использовали тайный шифр – фразы и слова на энгвеонском. Их мы брали из того самого бесценного справочника, что родился в недрах «Кулунды», расшифровавшей рукопись Умара Донтара, да и из самой этой пожелтевшей распечатки.
«Hvat thu makos hodie?» – вывел я на полях, запуская очередной сеанс нашей тайной связи. «Что делаешь сегодня?»
«Hlosa radio», – пришёл с той стороны парты лаконичный ответ Ратибора. «Слушать радио? Какое радио?» – мысленно удивился я. «У нас же нет эфирного вещания!»
«In mein?» – отправил я ему обратно, что в нашем с ним коде означало возмущённое и недоуменное «В смысле?!».
«In direkt mein. Von des Grand Landessendum stark radio-emfanger. Ik anband antenna et grounding», – ответил Ратибор. Над этой замысловатой фразой мне пришлось покорпеть, мысленно перебирая грамматические правила и словарь. «Grand Land» – так Умар Донтар в своих записках называл Империю, метрополию. Здесь же Ратибор, конечно, слегка съехидничал, окрестив так земли «по ту сторону тоннеля». А в целом выходило: «В прямом значении. С Большой земли прислали мощный радиоприёмник. Подключил антенну и заземление».
Я поднял на него глаза и посмотрел как на изменника-профессионала. Это было уже второе предательство с его стороны – после той истории с пилорамой. Получил приёмник? Установил антенну? И хоть бы пискнул! Я же его сразу же позвал, как только привез из Саренека «неугасимый свет»!
Но, сжимая карандаш так, что вот-вот хрустнет дерево, я сдержал возмущение и вывел с подчёркнутым спокойствием:
– Et hvat thu hortes? (И что ты слышал?)
– Thu ok skal hortes dat. Det es… atom-braun hjarne. Ik hortes EI. (Ты тоже должен это услышать. Это… атомный взрыв мозга. Я слышал ИХ.)
Я чуть не выронил ручку. Страница в тетради поплыла перед глазами, буквы поползли, как растаявшие снежинки.
– Hvem?! (Кого?!)
– Tei, spaek ni skriva, bat spreka in sprak. (Тех, кто не пишет на этом языке, а говорит на нём.)
И он, выдержав паузу, будто вбивая гвоздь в стену тишины, вывел роковое слово:
– Engveons.
– Круглов! Калинин! – внезапно раздался над нами голос, сухой и резкий, как удар линейки по парте. – Уберите свою декабристскую переписку! И возвращайтесь в реальный мир!
Артём Сергеевич смотрел на нас поверх очков, и в его глазах читалось не столько раздражение, сколько усталое понимание. Но на сей раз мы не потупили взоры. Едва прозвенел звонок, мы ринулись к учительскому столу, словно шлюпка – к тонущему кораблю, наскоро вырвав его из окружения вопрошающих пятиклассников.
– Артём Сергеевич, – начал я, едва переводя дух, – мы как раз и хотим поговорить о реальном мире! На уроках мы учим историю ТОГО мира, что остался по ту сторону тоннеля. Мы знаем про Венский конгресс и Наполеона. Но мы ничего, кроме рукописи Умара да коротких сказаний «сынов степей», не знаем об истории мира ЭТОГО! Разве это правильно?
Ратибор молча кивнул, его обычно насмешливые глаза сейчас были серьёзны. Мы ждали отпора, возражений про учебный план. Но Артём Сергеевич, помедлив, лишь качнул головой, и в его взгляде мелькнуло что-то похожее на согласие и даже на долю вины.
– Но что делать, ребята? – тихо спросил он, разводя руками. – Учебники не пишутся за один день. Материалов пока… очень мало.
В его словах не было отказа. Было признание. Признание того, что и он сам – всего лишь первопроходец в этом новом и в то же время старом мире.
– Значит, будем исследовать сами, – твёрдо сказал Ратибор.
Артём Сергеевич посмотрел на него, потом на меня, и в уголках его глаз обозначились лучики одобрительных морщин.
– Значит, будем, – заключил он.
И в тот вечер, собравшись у радиоприёмника с его таинственными проводами и стрелками, мы слушали уже втроём. Два юных конспиратора и их взрослый учёный-союзник, вглядывающиеся в бескрайнее море эфира в поисках голосов из прошлого, которое оказалось куда ближе и реальнее, чем все учебники истории вместе взятые.
Радиоприёмник, или der radio-emfanger, если пользоваться словами из di tunga engveoniska, лишь глухо шипел, словно старый паровоз, выпускающий пар на запасном пути. Из его динамика доносились шорохи, похожие на шелест сухих листьев в пустом дворе. Мы с Артёмом Сергеевичем перевели взгляд с приёмника на Ратибора. В его сторону полетели молчаливые, но красноречивые взгляды, полные разочарования и подозрения в мистификации.
Тот лишь раздражённо отмахнулся, словно от назойливой мухи.
– Вчера было то же самое. Пока не началось сияние.
Ах, да! Я ведь ничего не рассказал вам про сияния. Явление это было здесь, по словам отца, самым что ни на есть обычным в те месяцы, что совпадали с нашими ноябрём и декабрём. По крайней мере, вчера у Аяжэгобики оно не вызвало никакого удивления – лишь привычное восхищение. Выглядело же оно точь-в-точь как полярное сияние где-нибудь под Мурманском – те же переливающиеся полотна, повисающие в ночном небе, те же фантастические сполохи, зажигающие звёзды новым светом. И, вероятно, природа у них была схожей.
– И я… – Ратибор выдержал эффектную паузу, – записал целых три часа эфира. На ноутбук. Через аудиовход. – Он посмотрел на нас с видом заправского секретного агента, сдавшего блестяще выполненное задание. – И зафиксировал, на какой волне это поймал. Время начала и окончания передачи. И файл я вам уже переслал. На электронную почту, – уточнил он, и в его голосе прозвучала деловая важность.
Артём Сергеевич смотрел на него уже не как на ученика, а скорее как на младшего, но многообещающего коллегу по научному цеху. В его взгляде читалось внезапное уважение.
– Вы же перешлёте его своим знакомым… in des Grand Landes? – с надеждой спросил Ратибор, ввернув энгвеонское словечко. – Для расшифровки?
Артём Сергеевич на секунду замер, его взгляд стал отрешённым, будто он мысленно уже видел те самые данные, уплывающие по оптоволокну в мир, где звёзды на небе были другими. Пальцы его непроизвольно постучали по столу, отбивая какой-то учёный ритм.
– Ja. Ik sendas dat… in des Grand Landes, – тихо, мечтательно произнёс он. И тут же, вернувшись в нашу реальность, добавил по-русски, но уже с другим, твёрдым оттенком: – Обязательно перешлю.
Словно в ответ на его слова, небо озарилось первой, робкой вспышкой. Сначала – далеко-далеко на севере, почти у самого края мира. Затем – будто огненный меч рассек небосвод, пронзил звёздные скопления и пронёсся прямо над нашими головами. Фантастический свет хлынул в окно, залив комнату ослепительным, холодным зеленовато-алым сиянием, ярче любого прожектора.
И в тот же миг шипение приёмника сменилось чистым, уверенным голосом. Der radio-emfanger ожил и заговорил на языке Умара Донтара. Из динамика, сквозь лёгкий шелест, полилась размеренная, хорошо поставленная речь, звучащая как глашатай из другого пространства:
– Hir sprekas Aurelia! In der Capitol von des Engveonisk Imperium, klokka es nigen. Vesper-Tidende for atano-okta November, duo mil…
И после коротких музыкальных позывных, тот же голос продолжил:
– Seine Majestas akseptas abdanko von der Ministerium Kabinett. Interim-Leiter von Erste Lord-Kanzler es appointas – leader von Socii-Demokrates, Andronik Enveit. Vorzeit elektos in der Hus von Communes es announcas…
Машина «Кулунда» подтвердила, что язык – естественный. А теперь эфир подтвердил, что мир, откуда он пришёл – реальный. Мы сидели в тишине, слушая, как по радио другого мира передают новости и сводку погоды для городов, которых, как мы думали, не существует…
В школе же вовсю шли «мероприятия по профориентации». Казалось, сбылась моя тайная мечта – официально разрешили пропускать уроки ради бесед с психологами. Но эти беседы оказались странными. Милые тёти в очках задавали кучу вопросов, вроде «что вы чувствуете, глядя на облако?» или «представьте, что эта клякса – зверь. Какой?».
Мы с Ратибором отнеслись к этому как к забавной игре. Я с упоением рассказывал о запахе свежескошенного сена, о том, как приятно держать в руках только что родившегося ягнёнка, о планах скрестить местную скифскую корову с якутским быком. И был уверен, что все видят во мне будущего зоотехника. Все так и считали.
Ратибор же с умным видом рассуждал о «рыночных нишах», «логистике» и «спросе и предложении», рисуя в воображении карьеру успешного предпринимателя.
Каково же было наше изумление, когда через неделю нам вручили официальные бланки с результатами. Строгие господа психологи, проанализировав наши «кляксы», вынесли вердикт, от которого у нас отвисли челюсти.
«Калинину Андрею рекомендуется профессиональная деятельность, связанная с глубоким изучением иностранных языков, межкультурной коммуникацией и аналитической работой в структурах, требующих повышенного уровня доверия».
«Круглову Ратибору рекомендуется профессиональная деятельность, связанная с лингвистическим анализом, оперативной информационной работой и стратегическим прогнозированием».
Мы были ошеломлены. Это было похоже на то, как если бы тебе всю жизнь твердили, что ты будущий капитан дальнего плавания, а потом вдруг объявили, что твоё призвание – балет.
И, тем не менее, ещё через две недели нас пригласили. В кабинет директора школы. Отца в этот момент не было – он на уроке географии объяснял восьмиклассникам причины установившейся в местном январе дождливо-снежной погоды противоборством холодных и тёплых воздушных масс, сформировавшихся над двумя соседними океанами. Поэтому в кабинете нас ждали двое. Один – учёный-администратор с портфелем, полным бумаг, второй – человек в строгом сером костюме, чей взгляд кажется одновременно и всезнающим, и всевидящим.
– Ваши результаты профориентации совпали с нашими собственными наблюдениями, – начал учёный. – Мы создаём первый университет по эту сторону тоннеля. По новым лекалам. Будем брать сразу после девятого класса. И предлагаем вам стать студентами факультета иностранных языков. Кафедра германской филологии.
Мы, перебивая друг друга, возмутились, выкладывая свои заветные, выношенные планы. Я – о ферме, о новых породах скота, о том, как мои руки созданы не для ручки, а для доильного аппарата и трактора. Ратибор – о своей будущей бизнес-империи, о её первом шаге – пилораме, о деньгах, которые нужно зарабатывать здесь и сейчас.
Человек в сером костюме слушал нас очень терпеливо, а затем выдал один, но убийственный аргумент, обращаясь ко мне:
– Посмотрите свои оценки по английскому. У вас же сплошные пятёрки!
– Но в восьмом классе у меня была тройка! – тут же парировал я, чувствуя, как почва уходит из-под ног.
– А у меня в третьей четверти чуть двойка не вышла, – честно, почти с вызовом, признаётся Ратибор. – А сейчас пятёрка только потому, что… – он вдруг переключается на энгвеонский, наш тайный язык, ставший для нас второй кожей, – … English sprak es galore lik mit Engveonisk tunga. [1].
– Но мы не хотим его учить! – возвращаюсь я к русской речи, настаивая на своём. – Английский нам не пригодится! Здесь, в этом мире, на нём никто не говорит.
Человек в костюме обменивается с учёным едва заметным взглядом, в котором читается что-то вроде «я же говорил». Затем он снова смотрит на нас, и его голос звучит тихо, но с такой железной убеждённостью, что спорить кажется бесполезным.
– Верно, – соглашается он. – Но около четырёхсот миллионов человек в десятках тысяч километров к югу от нашего региона говорят на энгвеонском. И нам нужны те, кто будет в этом языке разбираться. Кто научит других. Кто будет пионерами в этом нелёгком деле.
Он сделал паузу, давая этим словам прочно осесть в нашем сознании.
– Ферма, молодой человек, будет стоять прочнее, если вы будете понимать, о чём говорят ваши соседи за горизонтом. А бизнес, – он перевёл взгляд на Ратибора, – будет иметь смысл только в рамках большой, сильной экономики. А чтобы её построить и защитить, нужно понимать тех, с кем ты либо торгуешь, либо воюешь. Вы уже начали эту работу. Мы просто предлагаем вам закончить её.
И в его последней фразе мы слышим не приказ, а вызов. Тот самый вызов, от которого закипает кровь и заставляет забыть о самых радужных, но таких уже тесных, планах. Они предлагали нам стать не просто студентами, а картографами незнаемых земель и мостовыми между цивилизациями. И это было куда страшнее, интереснее и желаннее, чем любая ферма или пилорама.
Наше юношеское, безоговорочное, стопроцентное согласие прозвучало как единый залп. Оно, казалось, ещё долго висело в воздухе кабинета, смешиваясь с запахом свежеструганного дерева и пыли далёких дорог. И нам выпала первая задача: вслушиваться в эфир, в голос далёкой Империи, ловить обрывки её жизни на лету и переносить на бумагу – переводить, переводить, переводить.
Разумеется, мы были не одиноки в этом странном ремесле. Где-то в сорока верстах от нас, на мысе, омываемом всеми ветрами, стояла астрономическая обсерватория, и её стальные «уши» – громадные параболиты – день и ночь тянулись к небу, записывая всё подряд. И могучий электронный разум «Кулунды» ворочал гигабайтами текстов. Но машинам было невдомёк, отчего в голосе диктора, упомянувшего в сводке погоды Зиберфельс, вдруг проскальзывала едва слышная ностальгическая тревога. Это могли понять только люди. И мы с жаром первозданных звездоплавателей принялись за дело.
Но.
Внезапно, всего через несколько дней, голос в эфире оборвался. В последней, прощальной передаче некий начальник станции на Лидс-Айленде, человек с натруженным, добрым голосом, сообщил, что ретранслятор закрывается. «Af finansisk overlegungom[2]», – сказал он, и слова его прозвучали как печальный финал давней песни. Эта станция много лет, как верный маяк, связывала северных китобоев и рыбаков с их далёкой родиной, и теперь её персонал, как он выразился, «крайне сожалеет о случившемся». И наступила тишина. Глубокая, бездонная, мёртвая.
Мы сидели перед тёплым, но уже бессмысленно шипящим приёмником, словно нас обманули в самой завязке великого приключения. Казалось, мы только расставили фигуры на шахматной доске, приготовившись к долгой игре, а наш незримый партнёр с противоположного края вдруг встал и ушёл, оставив нас в гордом одиночестве.
Расстроенные, почти не разговаривая, мы поехали в Славноморск. «Метеор», белый и стремительный, как чайка, за полчаса домчал нас по протокам, разрезая свинцовую воду. Новые корпуса университета, пахнущие сосной и краской, мы нашли без труда.
Не нужно было и слов – наше разочарование читалось на наших лицах. Учёный, тот самый, что вёл с нами беседу, встретил нас спокойно. Он напоил нас горячим чаем из походного термоса, и представился просто:
– Игорь Анатольевич. Щербинский.
Затем, порывшись в ящике стола, он извлёк маленькую, блестящую флешку, похожую на плоскую речную гальку.
– Не переживайте. Вот, – он положил её мне на ладонь. Она была тёплой. – Здесь сотни часов их эфира. Записано обсерваторией. С других станций. Этого хватит, чтобы проложить подробный маршрут по их миру.
Его рука на мгновение повисла над другой, точно такой же флешкой, лежавшей рядом. Но он одёрнул себя, словно поймав на преждевременном движении.
– Нет, – покачал он головой, – это вам пока рано.
– А что там? – не удержался я, поддавшись любопытству.
Игорь Анатольевич посмотрел на меня поверх очков, и в его глазах мелькнула тень какой-то далёкой, не нашей тайны.
– Там… записи на других языках. Не энгвеонском. Но тоже здешних. Некоторые мы не можем расшифровать. А некоторые… – он сделал небольшую паузу, – некоторые и не нуждались в особой расшифровке…
Он не стал распространяться, а я не успел спросить, что он имел в виду.
– Ваше задание – прежнее. Слушать. Переводить. И выуживать из этого моря слов крупицы знаний. Нас интересует всё. От мощности их автомобильных моторов до цены на хлеб в булочной на окраине Аурелии. От проблем в их школах до последних открытий учёных. Всё, что заметите, все ваши находки, догадки – вносите в систему. В особые каталоги. Пока, – он развёл руками, – доступ у вас будет лишь к вашим файлам. Но это только начало. После поступления, – Игорь Анатольевич обвёл нас с Ратибором твёрдым, ободряющим взглядом, – начнётся самая что ни на есть настоящая работа. Та, о которой вы пока даже не догадываетесь.
И, словно благословение нашим предстоящим трудам, за окном пророкотало что-то тяжёлое и могучее. Сперва это был низкий гул, входивший в самое нутро, заставлявший дребезжать стёкла. Он нарастал, превращаясь в оглушительный медвежий рёв, в яростный гром, рвущий небесную синь.
Мы, не веря своим ушам и глазам, бросились к окну.
И застыли.
Прямо над университетскими корпусами, задевая крыши концами могучих крыльев, в небе повисла исполинская крылатая махина. «Ту-95». Он шёл на посадку так низко, что нам, казалось, видны были загорелые лица лётчиков за остеклением кабины, их спокойные, сосредоточенные улыбки покорителей стихий.
– Прислали «оттуда», – тихо, но так, что было слышно сквозь грохот, произнёс Игорь Анатольевич. Он стоял рядом и смотрел в небо с тем же мальчишеским, затаённым восторгом. Он кивнул в ту сторону, где за горами уходил в скалу тоннель – пуповина, связующая два мира. – В ящиках, в разобранном виде. А здесь собрали. Теперь обкатывают. Для разведки дальних земель и морей.
Самолёт прошел над нами, отбрасывая на землю бегущую тень-гиганта. Его четыре винта, крутясь в разные стороны, ворошили саму атмосферу, и этот рёв был голосом нашей прежней жизни, нашего большого дома, который теперь протягивал свою стальную руку сюда, в этот новый, незнаемый мир. Чтобы помочь нам его нанести на карты.
[1]Английский язык очень схож с энгвеонским.
[2] По финансовым соображениям.
