Свеча на ветру бесплатное чтение
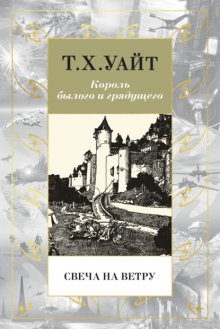
T. H. White
THE CANDLE IN THE WIND
Copyright © The Estate of T. H. White, 1958
1
Годы, накапливаясь, не проявляли доброты к Агравейну. Даже в сорок он выглядел на свой нынешний возраст, на пятьдесят пять. Трезвым он бывал редко.
Мордред же, холодный и хилый, вроде бы и вовсе возраста не имел. Подобно выражению, таящемуся в глубине его синих глаз, подобно переливам его музыкального голоса, годы Мордреда оставались неуследимыми.
Стоя в крытой галерее дворца Оркнейцев в Камелоте, эти двое смотрели на ловчих птиц, выставленных на колодках под солнце, заливавшее муравчатый дворик. Галерею украшали новомодные стрельчатые арки – наступала эпоха пламенеющей готики, – в грациозных проемах этих арок и стояли, храня благородное безразличие, птицы: самка кречета, большой ястреб, два сокола (самка с самцом) и четверка маленьких дербников, проведших в неволе всю зиму и все-таки выживших. Колодки отличала особая чистота, ибо в те дни охотники полагали, что, ежели вы пристрастились к охоте, сопряженной с обильным пролитием крови, вам следует с особым тщанием стараться скрыть ее лютый характер. Алую кордовскую кожу колодок покрывало прелестное узорчатое золотое тиснение. Должики ястребов были сплетены из белой конской кожи. А кречетиху, дабы отметить высокое положение, занимаемое ею в жизни, облачили в опутенки и должики, вырезанные из заверенной авторитетами кожи единорога. Чтобы добраться сюда, кречетиха проделала долгий путь из Исландии, и это было самое малое, что могли для нее сделать владельцы.
Приятным голосом Мордред произнес:
– Ради бога, давай уберемся отсюда. Здесь воняет.
При звуках его голоса птицы чуть шевельнулись, отчего колокольца их издали еле различимый, как бы шепчущий звон. Колокольца, не считаясь с расходами, доставляли из Индий, и пара, украшавшая самку кречета, была изготовлена из серебра. При звуках колокольцев сидевший на своем насесте в тени галереи огромный филин, которого иногда использовали для ловли приманки, открыл глаза. За миг до этого он еще мог показаться чучелом, неряшливым пуком перьев. Но стоило глазам распахнуться, и филин превратился в нечто из Эдгара Аллана По. Вряд ли вам понравилось бы смотреть в его глаза. Глаза были красные, страшные, глаза убийцы, казалось источающие свет. Они походили на рубины, полные пламени. Филина звали Великий Герцог.
– Не чую я никакого запаха, – сказал Агравейн. Он с подозрением потянул носом воздух, пытаясь хоть что-то унюхать. Но и к вкусу, и к запаху он давно уже стал нечувствителен, да к тому же и голова у него болела.
– Здесь смердит Спортом, – сказал Мордред, произнося последнее слово как бы в кавычках, – а также Подобающим Занятием и Избранным Обществом. Пойдем лучше в сад.
Агравейн никак не мог расстаться с темой их разговора.
– Что проку опять поднимать шум вокруг этой истории? – сказал он. – Мы-то с тобой понимаем, кто тут прав, кто виноват, да ведь только мы, а больше никто. Нас и слушать не станут.
– Нет уж, придется послушать. – Крапинки, испещрявшие райки Мордредовых глаз, полыхнули лазоревым светом, ярким, как у филина. Из вяловатого человека с перекошенным плечом, облаченного в нелепый костюм, он преобразился в воплощение Правого Дела. В подобных случаях он становился полной противоположностью Артуру – безусловным недругом всего, что обозначается словом «англичанин». Он обращался в несгибаемого Гаэла, отпрыска утраченной расы, более древней, чем раса Артура, и более утонченной. Когда Правое Дело вот так воспламеняло его, Артурово правосудие принимало в сравнении вид тупоумной буржуазной затеи. Поставленное рядом с варварским и темным разумом пиктов, оно представлялось проявлением пресного самодовольства. Всякий раз, как он подобным образом выказывал свое неприятие Артура, в чертах его проступали вдруг все его материнские пращуры, в основе цивилизации коих, как и в основе воззрений Мордреда, лежал матриархат: то были воины, скакавшие на неседланных конях, бросавшиеся в атаку на колесницах, искушенные в военном коварстве и украшавшие свои жуткие оплоты головами врагов. Длинноволосые и свирепые, они выходили, как сообщает один из авторов древности, «с мечом в руке навстречу рекам крови иль вздыбленному бурей океану». То была раса, олицетворяемая ныне скорее Ирландской Республиканской Армией, нежели шотландскими националистами; раса, представители которой всегда убивали лендлордов и всегда валили вину за их смерть на них же самих; раса, которая могла превратить в национального героя человека, подобного Линчагану, откусившему женщине нос, – поскольку он был из ирландцев, а она из галлов; раса, заброшенная вулканом истории в отдаленные области земного шара, где она, обуреваемая ядовитой обидой и чувством неполноценности, и поныне являет напоказ всему свету застарелую манию величия. Это из нее выходили католики, способные бросить открытый вызов любому папе или святому – Адриану, Александру или Святому Иерониму, – если политика оных этих католиков не устраивала: истерически раздражительные, терзаемые скорбями, бранчливые хранители сгинувшего наследия. То была раса, которую, при всем ее варварском, коварном, отчаянно храбром непокорстве, много веков назад поработил чужеземный народ, олицетворяемый ныне Артуром. И это обстоятельство также разобщало отца и сына.
Агравейн сказал:
– Я хотел поговорить с тобой, Мордред. Черт, и присесть-то не на что. Садись вон на ту штуку, а я сяду здесь. Тут нас никто не услышит.
– А хоть бы и услышали. Нам именно это и требуется. Такие вещи нужно говорить громко, а не шептаться о них по укромным галереям.
– В конце концов и шепот достигает нужных ушей.
– Если бы. Ничего он не достигает. Королю не угодно слышать об этом, и, пока мы тут шепчемся, он волен притворяться, что ничего не может расслышать. Как бы он пробыл столько лет Королем Англии, не научившись лицемерить?
Агравейн чувствовал себя неуютно. Его ненависть к Королю не отличалась такой определенностью, как ненависть Мордреда, в сущности, он ни к кому, кроме Ланселота, личной вражды не питал. Его озлобленность выбирала свои цели скорее наобум.
– Не думаю я, что мы добьемся чего-то, сетуя на прошлые обиды, – угрюмо сказал он. – Трудно ожидать чьей-либо поддержки в таком запутанном, да еще и бог весть когда случившемся, деле.
– Как бы давно оно ни случилось, факт остается неизменным: Артур отец мне, и он отправил меня, еще младенца, поплавать в неуправляемой барке.
– Для тебя это факт, – сказал Агравейн, – а для других нет. Все уже так перепуталось, что никто не захочет в это вникать. Не можешь же ты ожидать, что нормальные люди станут помнить, кто кому приходится дедушкой, а кто – единоутробной сестрой и так далее. Во всяком случае, в наши дни из-за чьих-то частных склок люди воевать не пойдут. Для войны нужна ущемленная национальная гордость, что-нибудь связанное с политикой и требующее только повода, чтобы прорваться наружу. Нужно использовать уже готовые подручные средства. Возьми хоть этого мужлана Джона Болла – того, что верует в коммунизм, – у него тысячи последователей, и все готовы посодействовать смуте ради собственной выгоды. Или те же саксы. Мы могли бы заявить, что поддерживаем национальные движения. И могли бы, коли на то пошло, слить все воедино и назвать результат национал-коммунизмом. Но в любом случае требуется нечто определенное, доходчивое, чтобы пронимало любого. И враг нужен непременно многочисленный – евреи, норманны, саксы, – чтобы каждому было на кого озлиться. Мы можем возглавить движение Древнего Люда, желающего сквитаться с саксами, или движение саксов против норманнов, или сервов против общественного устройства. Нам понадобится знамя, именно знамя, да и особая эмблема тоже. Бери какую хочешь – свастику, коммунизм, национализм, все что угодно. А личные твои претензии к старику, это вещь безнадежная. В любом случае у тебя уйдет самое малое полчаса, чтобы растолковать, в чем они состоят, даже если ты влезешь на крышу и будешь кричать оттуда.
– Я мог бы кричать о том, что моя мать приходилась ему сестрой и что он попытался утопить меня по этой причине.
– Ну, покричи, если хочешь, – сказал Агравейн.
Перед тем как филин открыл глаза, они разговаривали о давних обидах, причиненных их роду, – о своей бабушке Игрейне, обесчещенной отцом Артура, о давно иссякшей вражде гаэлов и галлов, известной им по рассказам матери, слышанным в древнем Дунлоутеане. Именно эти обиды холодная кровь Агравейна осознавала как слишком давние и смутные, чтобы они могли послужить оружием в борьбе с Королем. Теперь они подобрались к более свежему поводу для недовольства – к прегрешению Артура с его единоутробной сестрой, завершившемуся попыткой прикончить порожденного в этом грехе бастарда. Это оружие, безусловно, могло оказаться более мощным, незадача, однако, состояла в том, что Мордред-то и был этим бастардом. Малодушная осторожность старшего из двух братьев, обладавшего к тому же более изощренным умом, говорила ему, что сыну навряд ли следует превращать незаконность своего появления на свет в знамя, под которое могли бы собраться те, кто желает сбросить с трона его отца. К тому же Артур давным-давно сумел замять эту историю, и если Мордред вновь извлечет ее на свет божий, он лишь покажет себя неумелым политиком.
Они сидели в молчании, уставившись в пол. Агравейну неможилось, под глазами у него набрякли мешки. Мордред был, как и всегда, подтянут, опрятен и одет по последней моде. Вычурный наряд служил ему неплохим камуфляжем, под которым его кривое плечо оставалось почти незаметным.
– Я, собственно, не гордый, – произнес Мордред.
Он с горечью глядел на единоутробного брата, вкладывая в свой взгляд куда больше значения, чем брат способен был воспринять. Глаза его говорили: «Да ты хоть на горб мой взгляни. Мне нет причины гордиться моим рождением».
Агравейн нетерпеливо поднялся.
– Как бы там ни было, а мне нужно выпить, – сказал он и хлопнул в ладоши, призывая пажа. Затем он провел по векам дрожащими пальцами и замер, чуть покачиваясь, с отвращением глядя на филина.
Мордред, пока они ожидали выпивки, с презрением созерцал Агравейна.
– Начнешь копаться в старом дерьме, – сказал Агравейн, в которого пряное вино вдохнуло новую жизнь, – сам же в нем и окажешься. Ты все-таки помни, что мы не в Лоутеане. Мы в Артуровой Англии, и англичане любят его. Они либо не захотят тебе верить, либо, если поверят, обвинять станут тебя, не его, потому что ты вытащил эту гадость на свет. В таком восстании ни единый человек участвовать не станет, тут и говорить-то не о чем.
Мордред смотрел на брата. Он, подобно филину, ненавидел Агравейна и порицал его за трусость. Все, что мешало Мордреду мечтать об отмщении, было для него нестерпимо, и оттого он мысленно изливал свою неприязнь на Агравейна, про себя называя его пьяным предателем интересов семьи.
Агравейн, понимавший это и уже утешенный половиной бутылки, рассмеялся Мордреду в лицо. Он хлопнул младшего брата по здоровому плечу, понукая его наполнить свой стакан.
– Выпей, – с ухмылкой сказал он.
Мордред пригубил вино, словно кошка микстуру.
– А вот не слышал ли ты часом, – игриво осведомился Агравейн, – о великом святом по имени Ланселот?
Он подмигнул заплывшим глазом, доброжелательно глядя на кончик собственного носа.
– И что же?
– Я так понимаю, что ты наслышан о нашем preux chevalier?[1]
– Разумеется, я знаю, кто такой сэр Ланселот.
– Полагаю, я не ошибусь, сказав, что этот непорочный джентльмен пару раз скидывал нас обоих с коня?
– Ланселот впервые спешил меня так давно, – сказал Мордред, – что я уже и не помню, когда это случилось. Ну и что же с того? Даже если человек способен спихнуть тебя с коня длинной палкой, это еще не значит, что он лучше тебя.
Странное дело, теперь, когда разговор пошел о Ланселоте, оживление Мордреда сменилось равнодушием. Агравейн же, до этой поры поддерживавший разговор без особой охоты, внезапно обрел красноречие.
– Вот именно, – сказал он. – А кроме того, наш благородный рыцарь с давних пор состоит в любовниках у Королевы Английской.
– Всем известно, что Гвен была любовницей Ланселота еще с допотопных времен, да толку-то что? И Королю это известно не хуже прочих. Я знаю наверняка о трех случаях, когда ему говорили об этом. Не вижу, что мы тут можем сделать.
Агравейн, словно пьяный волынщик, прижал пальцем одну ноздрю, а затем погрозил тем же пальцем брату.
– Говорить-то ему говорили, – объявил он, – да все обиняками. Присылали разные там вещицы с намеком – то щит с двусмысленным изображением, то рог, из которого могут пить лишь верные жены. Вот только никто ни разу не сказал ему об этом в открытом суде, прямо в лицо. Мелиагранс предъявил всего лишь расплывчатое обвинение, да и то в пору, когда дела решались судебными поединками. А ты ют подумай, что бы произошло, если бы мы напрямик обличили сэра Ланселота, да еще при этих новейших законах, так что Король волей-неволей назначил бы следствие?
Глаза у Мордреда вспыхнули, словно у филина.
– Ну и?
– Ну и совершенно не представляю себе, что могло бы из этого выйти, кроме раскола. Артур зависит от Ланселота, потому что тот командует всеми его войсками. Ланселот – основа его мощи, потому что всякий же понимает, против грубой силы не больно-то попрешь. Но если мы сумеем устроить так, чтобы между Артуром и Ланселотом начались веселенькие дрязги – из-за Королевы, – тогда мощь его даст трещину. Вот тут и настанет черед для тонкой политики. Тут и придет самое подходящее время для недовольных – для лоллардов, коммунистов, националистов и прочей шушеры. А значит, и ты улучишь минуту для своей пресловутой мести.
– Мы сможем лишить их силы, потому что они уже ослаблены изнутри.
– Раскол будет означать куда как больше.
– Раскол будет означать, что Корнуолльцы сквитаются за нашего деда, а я за мою мать…
– …и не тем, что силой попрут против силы, а тем, что с толком раскинут умом.
– А это значит, что я отомщу за себя человеку, который пытался меня утопить, когда я еще был младенцем…
– …сначала свалив его головореза, а после действуя с должной осторожностью.
– Свалив нашего прославленного чемпиона…
– …сэра Ланселота!
Суть дела состояла в том, – и возможно, следует в последний раз подробно ее изложить, – что отец Артура убил Графа Корнуолльского. Он убил этого человека, потому что возжелал его жены. В самую ночь убийства бедная Графиня понесла Артура. Рожденный слишком рано с точки зрения разного рода условностей, касающихся ношения траура, супружества и всего прочего, он был тайком отправлен на воспитание к сэру Эктору из Дикого Леса. Он так и вырос в неведении о своем происхождении и девятнадцатилетним юношей влюбился в Моргаузу, не зная, что она – одна из его единоутробных сестер, дочерей Графини и Графа. Сестра, уже бывшая матерью Гавейна, Агравейна, Гахериса и Гарета и вдвое превосходившая Артура годами, весьма успешно совратила его. Плодом их союза стал Мордред, одиноко взращенный матерью в варварской глуши Внешних Островов. Моргауза растила его в одиночестве, поскольку он был много младше всех прочих членов семьи. Все прочие уже упорхнули ко двору Короля, влекомые кто честолюбием, ибо то был величайший из дворов мира, а кто – желанием бежать от матери. Мордред же остался во власти этой женщины с ее наследственной враждой к Королю, да еще и с личной обидой. Ибо Артур, хоть по незрелости и соблазненный Моргаузой, все-таки смог избавиться от нее и со временем женился на Гвиневере. Моргауза, засев на севере с единственным оставшимся у нее сыном, обрушила на мальчика-калеку всю свою страшную материнскую мощь. Она поочередно то ласкала его, то о нем забывала, ненасытная в своей плотоядности, жившая, черпая силу в любви, питаемой к ней ее собачонками, детьми и любовниками. В конце концов один из старших сыновей в припадке ревности снес Моргаузе голову, застав ее, семидесятилетнюю, в постели с молодым человеком по имени сэр Ламорак. В ту пору Мордред, раздираемый любовью и ненавистью, что бушевали в его страшной семье, оказался одним из ее убийц. Ныне, при дворе своего отца, которому хватило такта скрыть историю его рождения, несчастный сын обнаружил, что признается всеми как брат Гавейна, Агравейна, Гахериса и Гарета; обнаружил, что Король-отец, которого он по наущению матери ненавидел всем сердцем, относится к нему с любовью, обнаружил вдруг, что его, человека изуродованного, умного и критически настроенного, окружает цивилизация, слишком прямолинейная для чисто интеллектуального критицизма; и, наконец, он обнаружил, что является наследником северной культуры, всегда противопоставлявшей себя ограниченной морали южан.
2
В дверях галереи возник паж тот, что уже приносил Агравейну вино. С преувеличенной вежливостью, ожидаемой от пажей, желающих стать оруженосцами, а после и рыцарями, он склонился в низком поклоне и объявил:
– Сэр Гавейн, сэр Гахерис, сэр Гарет.
Следом вошли трое братьев, громогласных после свежего воздуха и недавних упражнений, – теперь весь клан был в сборе. У всех у них, кроме Мордреда, имелось где-то в глуши по жене, но никто этих жен не видел. Да и самих-то Оркнейцев мало кому случалось в течение долгого времени видеть поодиночке. Когда они собирались все вместе, в них проступало что-то детское, скорее даже приятное, чем наоборот. Возможно, нечто детское было присуще и всем остальным паладинам, упоминаемым в истории Артура, – если простота и детскость это одно и то же.
Первым вошел глава семейства, Гавейн, неся на кулаке самку сокола, голову которой украшал молодой хохолок. Гавейн стал грузен, в рыжей шевелюре его появились поблекшие пряди. Волосы на висках пожелтели, как у хорька, еще немного – и они совсем побелеют. Гахерис приобрел сходство с Гавейном, во всяком случае большее, чем у всех остальных. Но копия вышла бледная: не такой рыжий, не такой мощный, не такой крупный и не такой упрямый. Правду сказать, был он малость глуповат. Гарет, самый младший в четверке родных братьев, до сих пор не утратил юношеского обличья. Походка его оставалась упругой – такой, словно ему нравилось ощущать себя живым.
– Ишь ты! – хрипло воскликнул Гавейн, переступая порог. – Уже пьете?
Он еще сохранял чужеземный выговор в знак пренебрежения к языку англичан, но думать по-гаэльски уже перестал. Вопреки воле Гавейна, английский язык его становился все совершеннее. Гавейн старел.
– Да ладно тебе, Гавейн.
Агравейн, знавший, что его привычка пропускать рюмочку-другую еще до полудня одобрения не вызывает, вежливо осведомился:
– Хороший выпал денек?
– Недурственный.
– Превосходный! – воскликнул Гарет. – Мы упражнялись в напуске верхом с помощью Ланселотова слетника, и она по-настоящему освирепела. Я и не думал, что она сумеет взять добычу без притравы! Гавейн управлялся с ней просто великолепно. Она пошла вниз, не помедлив и секунды, словно всю жизнь только и делала, что била сверху цапель, описала отличный круг над свежими стогами у Белого Замка и ушла над ним аккурат на южную сторону дороги пилигримов. Она…
Гавейн, заметивший, что Мордред намеренно зевает, оборвал Гарета:
– Побереги дыхание.
– Хорошая вышла охота, – неловко заключил Гарет. – И поскольку она взяла добычу, мы решили, что можно дать ей имя.
– И какое же? – снисходительно поинтересовались двое.
– Ну, раз она родом с Лёнди, а стало быть, имя должно начинаться на Л, мы решили, что неплохо будет назвать ее в честь Ланселота. Например, Ланселотта или что-нибудь наподобие этого. Из нее получится первоклассная ловчая птица.
Агравейн взглянул на Гарета из-под приспущенных век и сказал, растягивая слова:
– Тогда уж лучше пусть будет Гвен.
Гавейн, выходивший в дворик, чтобы усадить птицу на колодку, вернулся назад.
– Брось, – сказал он.
– Сожалею, если сказал неправду.
– Меня не заботит, правда это или неправда. Я только одно тебе говорю: попридержи язык.
– Гавейн, – сказал Мордред, возводя глаза горе, – Гавейн у нас такой preux chevalier, что при нем дурных речей не держи, не то нарвешься на неприятности. Он, понимаешь ли, очень сильный и во всем подражает сэру Ланселоту.
Рыжий рыцарь с достоинством поворотился к нему:
– Не такой уж я и сильный и вовсе этим не пользуюсь. Я только стараюсь держать своих родичей в достойном виде.
– И разумеется, – подхватил Агравейн, – спать с женой Короля – самое достойное дело, даже если Королевская семья порушила нашу и заделала нашей матери сына, а после пыталась его утопить.
Гахерис возразил:
– Артур всегда был к нам добр. Прекратил бы ты лучше это нытье!
– Был, потому что он нас боится.
– Не вижу я, чего Артуру бояться, когда у него есть Ланселот, – сказал Гарет. – Всякому ведомо, что он – лучший из рыцарей мира и способен одолеть кого угодно. Так ведь, Гавейн?
– Что до меня, я и говорить-то об этом не желаю.
Мордред вдруг вспыхнул, распаленный высокомерным тоном Гавейна.
– Ну и отлично, зато я желаю. Я, может, и слабоват в копейном бою, но у меня хватит смелости встать на защиту моей семьи и ее прав. Я не лицемер. Каждый при дворе знает, что Королева и главнокомандующий – любовники, и однако же предполагается, что все мы – чистые рыцари, защитники дам, и все только об одном и талдычат – о так называемом Святом Граале. Мы с Агравейном решили немедля отправиться к Артуру и в присутствии двора открыто задать ему вопрос о Королеве и Ланселоте.
– Мордред, – воскликнул глава клана, – ничего такого ты делать не станешь! Грех тебе!
– Еще как станет, – сказал Агравейн, – и я с ним пойду.
Гарет испытывал изумление и боль.
– Они и впрямь решились на это, – протестующе вымолвил он.
Справясь с минутной оторопью, Гавейн взял бразды правления в свои руки и твердо произнес:
– Агравейн, во главе клана стою я, и я тебе запрещаю.
– Ах, ты мне запрещаешь!
– Да, я запрещаю тебе, ибо ты будешь обидчивым дурнем, если сделаешь это.
– Честный Гавейн, – обронил Мордред, – считает тебя обидчивым дурнем.
На сей раз огромный рыцарь, словно норовистый конь, рванулся к Мордреду.
– Помалкивай! – рявкнул он. – Ты думаешь, что я тебя из-за твоего убожества пальцем не трону, и пользуешься этим. Но если ты, дохляк, будешь тут скалиться, так я тебе врежу!
Мордред услыхал, как его собственный голос, казалось доносившийся откуда-то сзади, холодно произносит:
– Гавейн, ты меня удивил. Ты произнес логически связную речь. – И затем, когда рыцарь-гигант пошел на него, тот же голос сказал: – Ну, давай. Ударь меня. Покажи, какой ты храбрый.
– Ой, да перестань же ты, Мордред, – взмолился Гарет. – Ты что, и минуту не можешь не задираться?
– Мордред не стал бы, как ты выражаешься, задираться, – встрял Агравейн, – если бы Гавейн его не запугивал.
Гавейн взорвался, будто одна из недавно выдуманных пушек. Как затравленный собаками бык, он отворотил от Мордреда и заорал на обоих:
– Да дьявол задери мою душу, или умолкните, или выметайтесь отсюда! Будет у нас когда-нибудь мир в семье? Захлопни, во имя Господа, пасть и оставь эту идиотскую болтовню про сэра Ланселота.
– Это не идиотская болтовня, – сказал Мордред, – и мы ее не оставим. – Он встал. – Ну что, Агравейн, – спросил он, – пошли к Королю? Кто еще с нами?
Гавейн встал у них на пути:
– Ты никуда не пойдешь, Мордред.
– И кто меня остановит?
– Я.
– Да ты храбрец, – отметил ледяной голос, так и звучавший откуда-то со стороны, и горбун сделал шаг вперед.
Гавейн выставил рыжую руку с золотистыми волосками на пальцах и толкнул Мордреда назад. В тот же миг Агравейн положил белую ладонь с толстыми пальцами на рукоять своего меча.
– Не двигайся, Гавейн. Я при мече.
– Ты всегда при мече, – выкрикнул Гарет, – дьявол!
Вся жизнь младшего брата вдруг сошлась в знакомую картину: убитая мать, единорог, человек, в это мгновение вытаскивающий меч, и мальчишка, размахивающий посреди темной кладовки ярким кинжалом, – все слилось в его крике.
– Ну что же, Гарет, – прорычал белый как полотно Агравейн, – я понял тебя, смотри, я вынимаю меч.
Ситуация вышла из-под контроля: они уже действовали, будто марионетки, будто все это происходило не в первый раз, – как оно, впрочем, и было. Гавейном, едва он завидел сталь, овладела привычная слепая ярость. Изрыгая потоки слов, он отскочил от Мордреда, выхватил единственное свое оружие, охотничий нож, и кинулся на Агравейна, – все это одним махом. Толстяк, которого напор братнина гнева вынудил перейти от наступления к обороне, отшатнулся, заслоняясь мечом, пляшущим в дрожащей руке.
– А-а, – ревел Гавейн, – ты отлично понял его, мой тощий мясник. Как нам не полезть с мечом на собственного брата, мы же всегда так любили убивать безоружных людей. Чтоб тебя саваном удавило! Спрячь меч, ты! Спрячь, говорю! Ты что это надумал? Мало тебе, что ты зарезал нашу мать? Спрячь меч, будь ты проклят, или наберись наглости и ударь. Агравейн…
Мордред, держа ладонь на собственном кинжале, скользнул Гавейну за спину. Миг – и сталь, освещенная глазами филина, блеснула среди теней галереи, и тут же Гарет бросился на защиту Гавейна. Поймав запястье Мордреда, он закричал:
– Хватит! Гахерис, займись остальными!
– Агравейн, убери меч! Гавейн, оставь его!
– С дороги! Я научу этого пса уму-разуму!
– Агравейн, опусти немедленно меч, он же убьет тебя! Поторопись! Не будь идиотом! Оставь его, Гавейн. Он не хотел. Гавейн! Агравейн!
Но Агравейн, целя в главу семейства, уже сделал слабенький выпад, который Гавейн презрительно отмахнул ножом. И сразу огромный старый рыцарь с хорьковой шерстью на висках устремился вперед и стиснул ручищами Агравейнову поясницу. Меч еще звенел на полу, а Агравейн уже грянул спиной о стол, на котором стояло вино, и Гавейн навалился на него сверху. Нож яростно взлетел вверх, норовя сделать свое дело, но подскочивший сзади Гахерис поймал его в полете. Образовалась немая и неподвижная живая картина. Гарет держал Мордреда. Агравейн, свободной рукой прикрывая глаза, пытался увернуться от ножа. А Гахерис удерживал мстительно занесенную руку.
В эту непростую минуту дверь галереи отворилась вторично, и вежливый паж со всегдашним бесстрастием провозгласил:
– Его Величество Король!
Напряжение спало. Каждый выпустил, что держал, и снова пришел в движение. Агравейн, задыхаясь, сел. Гавейн отвернулся от него и провел рукой по лицу.
– О господи! – пробормотал он. – Опять на меня накатила эта мутная дрянь!
На пороге показался Король.
Он вступил в галерею – спокойный старик, так долго трудившийся, напрягая все силы. Он выглядел старше своих лет, ныне уже немалых. В мгновение королевского ока он уяснил происшедшее и, пересекая галерею, чтобы ласково поцеловать Мордреда, улыбнулся всем сразу.
3
Ланселот с Гвиневерой сидели у окна башенного покоя.
Человек нашего времени, знакомый с Артуровской легендой лишь благодаря Теннисону и подобным ему, поразился бы, увидев прославленных любовников теперь, когда пора расцвета для них давно уже миновала. Любой из нас, с привычной легкостью строящих представление о любви на романтической истории двух детей, Ромео и Джульетты, немало бы изумился, доведись ему вернуться в Средневековье, в эпоху, когда один из поэтов рыцарства писал о мужчине, что у него есть «en ciel un dieu, par terre une déesse»[2]. В те времена влюбленных набирали не из подростков и юношей, но из людей поживших, понимающих что к чему. В ту пору люди любили друг друга так долго, как жили, не прибегая к удобным выдумкам вроде бракоразводных судов и психоаналитиков. У этих людей был Бог в небесах, а на земле богиня, – и поскольку человеку, который вручает всю свою жизнь богине, поневоле приходится проявлять в выборе ее некоторую осторожность, они искали себе богинь, основываясь не на преходящих, исключительно плотских критериях, и не покидали своих избранниц играючи, едва только плоть переставала оправдывать их ожидания.
Ланселот с Гвиневерой сидели у окна высокой крепостной башни, а внизу под пологими солнечными лучами лежала Англия Короля Артура.
То была Страна Волшебства эпохи Средневековья, эпохи, которую многие привычно считают «темной», и именно Артур превратил эту страну в то, чем она стала. Когда старый Король взошел на трон, она была Англией закованных в доспехи баронов, голодного мора и войн. Она была страной, в которой судья устанавливал истину «божьим судом», то есть каленым железом, в которой законы для англичан и норманнов были различны, в которой звучал печальный бессловесный напев Морфа-Руддлана. В ту пору на всем побережье, куда только достигали ладьи иноземцев, не осталось в живых ни единого зверя и ни единого плодового дерева в целости. В ту пору по лесам и болотам остатки саксов сражались, противясь жестокому игу Утера Завоевателя; в ту пору слова «норманн» и «барон» означали то же самое, что ныне «сахиб»; в ту пору голова Ллевеллина ап Гриффита в короне из побегов плюща плесневела на тесно торчавших из стен Тауэра пиках; в ту пору вы могли повстречать при дороге калек-побирушек, из коих каждый тащил в левой руке свою же правую, и с ними лесных псов, тоже изуродованных, ковыляющих на трех лапах, – дабы неповадно было им охотиться в лесных угодьях своего господина. К приходу Артура сельские жители уже попривыкли каждую ночь баррикадироваться в собственных домах, как бы в ожидании осады, и просить у Бога мирной ночи, – глава семьи повторял молитвы, возносимые в открытом море при приближении шторма и завершавшиеся мольбой: «Господи, спаси и помилуй», на что все присутствующие отвечали: «Аминь». В те ранние дни в баронском замке можно было видеть горемык с выпотрошенными животами, чьи кровоточащие внутренности поджаривали у них на глазах, людей распоротых, дабы выяснить, не проглотили ль они свое золото, людей с забитыми в рот зазубренными железными клиньями, людей, подвешенных вниз головой над чадными очагами, людей, брошенных в змеиную яму, людей, чьи головы стягивали кожаные жгуты, людей, втиснутых в короба, набитые камнями, сокрушавшими несчастным кости. Достаточно обратиться к посвященной тому времени литературе, повествующей о мифологических семействах вроде Плантагенетов, Капетов и прочих, чтобы понять, что творилось в этой стране. Легендарные короли, подобные Иоанну, имели обыкновение вешать перед обедом по двадцать восемь заложников; тогда как королей вроде Филиппа оберегали «сержанты-булавоносцы» – подобие штурмовиков, охранявших своего господина с кистенями в руках; короли же вроде Людовика рубили врагам головы на эшафотах, под которыми они заставляли стоять вражьих детишек, дабы кровь родителей капала им на головы. Так, во всяком случае, уверял нас Ингульф Кройлендский, покамест не выяснилось, что все его писания – сплошная подделка. Затем имелись еще архиепископы, которых называли «шкуродерами»; и церкви использовали в качестве укрепленных фортов, роя окопы прямо по кладбищам, среди мертвых костей; и существовали прейскуранты, по которым всякий мог откупиться от ответственности за любое убийство; и тела отлученных валялись непогребенными; и оголодавшие крестьяне кормились древесной корой, а то и друг другом (один такой съел сорок восемь человек). По одну сторону от вас могли поджаривать еретиков (сорок пять тамплиеров сожгли за один только день), а по другую – катапультами закидывать в осажденные крепости головы пленников. Тут извивался в цепях вождь Жакерии, коронованный раскаленным докрасна железным треножником. Там возносил жалобы папа, сидящий в узилище в ожидании выкупа, или корчился другой, отведавший яду. В стены замков замуровывались в виде золотых брусков целые сокровища, после чего строителей отправляли на тот свет. Дети играли на улицах Парижа трупом Коннетабля, другие же – вместе с женщинами и стариками, – оказавшись в кольце осады, хоть и вне стен осажденного города, умирали голодной смертью. С шипением горели привязанные к столбам Гус и Иероним в митрах вероотступников на головах. Плыли вниз по Сене слабоумные из Жумьежа с перерезанными подколенными жилами. В замке Жиля де Реца обнаружили не менее тонны пережженных детских костей – он убивал по двенадцать дюжин детей в год, и так целых девять лет. Герцог Беррийский лишился королевства по причине непопулярности, которую он заработал, опечалясь при известии о павших в сражении восьмистах пехотинцах. Юного графа Сен-Поль обучали искусству боя, предоставляя ему две дюжины живых узников, дабы он попрактиковался на них в различных способах убийства. Людовик Одиннадцатый, еще один выдуманный король, держал неприятных ему епископов в довольно дорогостоящих клетках. Герцог Роберт был прозван «Великолепным» своими вельможами и «Дьяволом» теми из верующих, кому привелось пожить под его рукой. И во все это время, до прихода Артура, простые люди, – из коих в одном только городе всего за неделю волки сожрали четырнадцать человек, коих третью часть унесла Черная смерть[3], чьи трупы набивали в ямы «наподобие бекона», чьим ночным убежищем часто становились леса, болота и пещеры, коих за семьдесят лет сорок восемь раз косило голодным мором, – эти самые люди с благоговением взирали на высокородных феодальных властителей, именуемых «господами неба и земли», а будучи изувеченными каким-нибудь епископом, коему пролитие крови было заказано, по которой причине он ходил на них с железной дубиной, громко пеняли на то, что Христос и его святые спят в небесах.
«Pourquoi», – в отчаянии пели бедняги:
- Pourquoi nous laisser faire dommage?
- Nous sommes hommes comme ies sont[4].
Такова была на удивление современная цивилизация, доставшаяся Артуру в наследство. Но не она открывалась взорам наших любовников. Ныне, освещенная яблочно-зеленой вечерней зарей, перед ними расстилалась баснословная Старая Англия Средневековья – той его поры, когда оно вовсе не было темным. В Англии, созерцаемой Ланселотом и Гвиневерой, стоял Век Индивидуальностей.
Что за чудное время – эпоха рыцарства! Каждый был собой и только собой, ревностно воплощая бесчисленные странности человеческой натуры. Лежавший под окнами башенного покоя ландшафт переполняло такое буйство людей и предметов, что и не знаешь, с какого конца взяться за его описание.
Темное Средневековье! Удивительна все-таки бесцеремонность, с какой девятнадцатый век наклеивал свои ярлыки. Ибо здесь, под этими окнами, в Артуровой Стране Волшебства, солнце пылало сотнями самоцветов в витражах монастырей и обителей, переливаясь на шпицах соборов и замков, возведенных с неподдельной любовью. В ту темную пору архитектура таким светом озаряла страстные души людей, что они наделяли свои крепости любовными прозвищами. Ланселотов Замок Веселой Стражи вовсе не был чем-то исключительным в пору, которая оставила нам Ботэ, Плезанс или Мальвозин, – дурных соседей своим врагам, – в пору, когда даже остолоп наподобие воображаемого Ричарда Львиное Сердце, страдавшего, кстати сказать, от чирьев, мог назвать свою крепость «Gaillard», сиречь «Молодчага», и говорить о ней, «моя годовалая красавица-дочка». Да что там, даже такой легендарный прохвост, как Вильгельм Завоеватель, и тот носил титул «Великого Строителя». А возьмите хотя бы стекло, окрашенное на всю глубину в пять благородных тонов. Стекло было грубее нашего, толще, вставлялось не такими большими, как ныне, пластинами. Люди той поры любили его с той же страстью, с какой давали имена своим замкам, и Виллар де Оннекур, потрясенный во время путешествия особенной красотой одного из окон, остановился, чтобы зарисовать его, пояснив, что «я находился в пути, подчиняясь зову, пришедшему из земли Венгерской, когда зарисовал это окно, поскольку оно усладило меня более всех иных окон». Вообразите себе внутреннее убранство старинных соборов – не привычный для нас интерьер, серый и голый, но сверкание красок, фрески, писанные по сырой штукатурке, на которых все персонажи стоят на цыпочках, колыхание гобеленов или багдадской парчи. Вообразите и интерьеры тех замков, что виднелись из окна Гвиневеры. Они не походили уже на угрюмые цитадели предшественников Артура. Теперь в них стояла мебель, сработанная столяром, а не плотником; по стенам, скрывая двери, мягко спадали нарядные ткани Арраса, гобелены, подобные тому, на котором изображен турнир в Сен-Дени и который, хоть и покрывает он более четырех сотен квадратных ярдов, был соткан менее чем за три года – такое рвение снедало его творцов. Даже сегодня, внимательно осмотревшись в разрушенном замке, можно порой обнаружить крючья, с которых свисали эти ослепительные шпалеры. Вспомните еще о златокузнецах Лотарингии, создававших раки для мощей в виде маленьких храмов с боковыми приделами, статуями, трансептами и всем прочим, совершенные кукольные домики; вспомните лиможские и выемчатые эмали, немецкую резьбу по кости, ирландскую работу по металлу, инкрустированную гранатами. Наконец, если вам и впрямь хочется представить себе брожение творческого начала в эти наши пресловутые темные века, прежде всего избавьтесь от представления, будто письменная культура пришла в Европу лишь после падения Константинополя. В те дни каждый клирик в каждой стране был человеком культурным, ибо в этом и состояла его профессия. «Каждая написанная буква, – говорил средневековый аббат, – это рана, нанесенная дьяволу». Библиотека Сен-Рикье уже в девятом веке содержала двести пятьдесят шесть томов, включая Вергилия, Цицерона, Теренция и Макробия. У Карла Пятого имелось не менее девятисот десяти книг, так что личная его коллекция была почти столь же обширной, как нынешняя «Всеобщая Библиотека».
Ну и наконец, сами люди, видные из окна, – блестящее сборище разного рода оригиналов, каждый из которых сознавал, что обладает помимо тела такой изумительной вещью, как душа, и выявлял ее на свой, порою удивительнейший манер. В лице Сильвестра Второго на папский престол взошел прославленный чернокнижник, хоть и ходила о нем дурная молва, будто бы именно он изобрел маятниковые часы. Баснословный король Франции по имени Роберт, на свою беду отлученный от церкви, испытал ужасные затруднения в домашнем обиходе, поскольку единственная пара слуг, которых удалось уговорить стряпать для него, поставила условием, чтобы после каждой трапезы все причастные к ней кастрюли бросались в огонь. Архиепископ Кентерберийский, отлучивший под горячую руку сразу всех пребендариев собора Святого Павла, ворвался в Приорию Святого Варфоломея и прямо посреди храма вышиб дух из субприора, чем вызвал такие волнения, что на нем разодрали священническое облачение (под которым, впрочем, оказались доспехи), а самому ему пришлось лодкой удирать в Лэмбит. Графиня Анжуйская имела обыкновение при свершении таинства мессы исчезать сквозь окно. Мадам Трот де Салерно использовала собственные уши в качестве носовых платков, а брови ее свисали до самых плеч, будто серебряные цепочки. Епископа Батского (дело было при воображаемом Эдуарде Первом) по здравом размышлении сочли неподходящим для архиепископского поста по той причине, что у него было слишком много незаконнорожденных детей – не просто несколько штук, а слишком много. Но и сам этот епископ навряд ли мог потягаться с графиней Геннебергской, которая взяла да и родила за один присест триста шестьдесят пять младенцев.
То был век полноты, век, когда человек во всякое дело нырял с головой. Возможно, и насаждаемая Артуром идея христианского мира возникла как результат всестороннего образования, которое дал ему Мерлин.
Ибо Король, по крайней мере в истолковании Мэлори, являлся святым покровителем рыцарства. Он не был рассерженным Бриттом в раскраске из вайды, мечущимся по пятому веку, – ни даже одним из тех nouveaux riches de la Poles, которые, по-видимому, омрачили последние годы самого Мэлори. Артур был сердцем рыцарства, достигшего расцвета, – столетия, может быть, за два до того, как наш не чающий души в старине автор приступил к своему труду. Он был олицетворением всего, что имелось достойного в Средневековье, и все, что он олицетворял, было создано им самим.
В представлении Мэлори Артур Английский – это поборник цивилизации, совершенно неправильно толкуемой историческими трудами. В эпоху рыцарства серв вовсе не был рабом, лишенным всякой надежды. Напротив, у него имелось по меньшей мере три вполне законных пути для восхождения по ступеням общественной лестницы, и превосходнейший из этих путей предоставляла ему Католическая Церковь. Благодаря политике Артура церковь эта, и поныне являющаяся величайшим из всех сообществ, открытых для образованных людей, обратилась в столбовую дорогу, доступную наинизшему из рабов. Сакс-землепашец превратился в папу Адриана IV, сын плотника – в Григория VII. В эти столь презираемые нами Средние века вы могли стать великим человеком, почитаемым во всем мире, просто дав себе труд учиться. Убеждение же, что цивилизация Артура отставала по части столь уважаемой нами науки, совершенно ошибочно. Ученые того времени, хоть и называли их магами, изобретали вещи невероятные, ничуть не худшие наших, – просто мы так давно пользуемся их открытиями, что уже к ним попривыкли. Величайшие среди магов – Альбертус Магнус, брат Бэкон и Раймонд Луллий – ведали кое-какие тайны, утраченные ныне, и между делом выдумали то, что и по сей день является для цивилизации едва ли не основным продуктом потребления, а именно порох. Их чтили за ученость, а Альберта Великого и вовсе произвели в епископы. Один из них, человек по имени Баптиста Порта, судя по всему, изобрел даже кинематограф – да притом оказался настолько разумен, что решил оставить это изобретение без дальнейшего развития.
Что до самолетов, то еще в десятом веке монах по имени Этельмайер экспериментировал с ними и вполне мог преуспеть, кабы не несчастная оплошность, допущенная при креплении хвостового узла. Он разбился. «Quod, – говорит Вильям Мальмсберийский, – caudam in posteriori parte oblitus fuerat adaptare».
Даже в том, что представляется нам до крайности современным, темные века не так уж и сильно от нас отстают. Во всяком случае, люди той поры давали замечательные названия некоторым из самых зверских своих коктейлей, к примеру: «Задира», «Бешеный Пес», «Отче-Шлюхин Сын», «Ангельская Снедь», «Млеко Дракона», «Лезь-на-Стену», «Шире Шаг» и «Ноги Вверх».
Вид из окна открывался прелестный, хоть отчасти и непривычный. Там, где у нас лежат разгороженные поля и парки, у них располагались крестьянские общинные земли, вересковые пустоши, огромных размеров леса и болота. Шервудский лес тянулся на сотни миль от Ноттингема до самого Йорка. Население трудолюбиво занималось бортничеством, распугивало грачей, пахало на волах, – тут вам придется заглянуть в «Люттереллов Псалтырь», замечательно изображающий эти занятия. В те дни, если вас интересовали разного рода странности, вы могли бы, при определенном везении, увидеть из окна скачущего мимо рыцаря. Ваше внимание наверняка привлекла бы его голова, обритая вкруг ушей и на затылке, – на макушке, однако, волосы торчали вверх, как у японской куклы, так что в целом голова походила на деревенский каравай с солонкой наверху. Этот пук волос, да еще прикрытый шлемом, отменно гасил удар. Следом, возможно, проехал бы (и, вероятно, на иноходце) клирик – у него с волосами дело обстояло в точности наоборот, ибо его макушка благодаря тонзуре была совершенно голой. Когда он в первый раз являлся к епископу, чтобы тот возвел его в сан, он приносил с собой ножницы. Затем, если бы вам захотелось увидеть какого-нибудь совсем уже удивительного всадника, вы могли бы дождаться крестоносца, поклявшегося освободить Гроб Господень. Вы, разумеется, ожидали бы увидеть крест на его накидке, но вряд ли вам могло прийти в голову, что он поместит этот символ практически везде, где только сможет, – до того ему было любо избранное им занятие. Подобно новопосвященному бойскауту, охваченному энтузиазмом, он лепил крест и на щит своего герба, и на кафтан, и на шлем, и на седло, и на конскую узду. Следующим проезжим мог оказаться какой-нибудь мирской брат, принадлежащий к одному из цистерцианских орденов, и по его одеянию вы определенно решили бы, что он – человек ученый. Увы, он-то как раз и был неграмотен ex officio[5]. Вся его служба состояла в наложении свинцовых печатей на папские буллы, и ради сохранения тайны папской переписки на эти должности набирали людей надежных, таких, что и буквы прочесть не сумеют. Следом мог объявиться сакс – при бороде и в подобии фригийского колпака, носимого в знак непокорства, следом – рыцарь из болот, что на северной границе. Последний, поскольку он жил ночным разбоем, мог изукрасить свои одежды, запустив месяц и звезды по лазурному фону. В какой-то части пейзажа вы могли бы приметить дымок, возносящийся над мехами алхимика, пытавшегося, с похвальным прилежанием, обратить свинец в золото – искусство, недоступное нам и поныне, хотя мы уже подбираемся к нему посредством атомного синтеза. Дальше, в окрестностях монастыря, вы, пожалуй, смогли бы различить сердитых монахов, босиком марширующих вокруг своей обители, – они, надо полагать, разругались с аббатом, ибо, насылая на него порчу, двигались против солнца. Теперь взгляните вон в том направлении, видите, там виноградник с оградою из костей, – в начале правления Артура удалось совершить открытие, согласно которому из костей получаются превосходные ограды для виноградников, погостов и даже для укрепленных фортов, – а если вы посмотрите вон туда, вам, быть может, удастся разглядеть ворота замка, сильно похожие на выставку охотничьих трофеев. Ворота сплошь покрывали прибитые к ним головы волков, медведей, оленей, ну и так далее. А там, вдали, чуть левее, вполне мог протекать – в соответствии с правилами, изложенными Жоффруа де Прейи, – рыцарский турнир, и королевские герольды тщательно, словно рефери перед боксерским матчем, осматривали бойцов, проверяя, не прикрепились ли они как-нибудь к седлам. Во времена предполагаемого короля Эдуарда III такие вот рефери перед самым началом судебного поединка, имевшего состояться между неким графом Солсберийским и Солсберийским же епископом, обнаружили, что под доспехами у бойца, выступавшего за епископа, по всему телу нашиты на одежду молитвы и волшебные заклинания – а это было все равно что боксеру засунуть в перчатку конскую подкову. Прямо под самым окном могла угрюмо проехать верхами пара мучимых запором папских нунциев, возвращающихся в Рим. Одна такая пара была как-то послана к Варнаве Висконти с буллами, в которых он отлучался от церкви, Варнава же лишь заставил их съесть привезенные буллы – пергаменты, ленты, свинцовые печати и все остальное. Сразу за ними мог проплестись под окном пилигрим-наемник, опираясь на крепкий узловатый посох, подбитый железом, как альпеншток, и сгибаясь под бременем медалей, на коих почиет благодать, святых реликвий, черепков с таинственными надписями, нерукотворных ликов и тому подобного. Сам себя он именовал паломником, и, если ему уже удалось вдоволь постранствовать, реликвии его могли включать перо Архангела Гавриила, несколько углей из тех, на которых поджарили Св. Лаврентия, палец Святого Духа – «целый и крепкий, каким и был он вовеки», «сосуд с потом Св. Михаила, собранным после его борений с диаволом», малую часть «куста, из коего Господь воззвал к Моисею», камзол Св. Петра или же толику молока Пресвятой Девы, что сохраняется в Уолсингеме. За паломником могла крадучись проследовать личность несколько более греховная – один из тех, кто «днем спит, ночью же бдит, ест хорошо и пьет хорошо, но имением не владеет». Это мог быть грабитель, о подобных коему в ту пору писали:
- А для воров закон таков: хватай и вяжи лиходея,
- И без жалости вешай на крепком суку, и пусть его ветер греет.
Но до того, как закачаться на ветру, он еще поживет свободной жизнью. Его подруга твердо ступает с ним рядом, и за ее голову также обещана награда, – она коротко остригла волосы перед тем, как уйти в леса, и зовется «разбойничьей женкой». Время от времени она оглядывается – не кричат ли уже позади «держи вора!», не видать ли погони.
Здесь мог появиться барон, перед которым несут с осторожностью горячий пирог, ибо один раз в году он обязан приносить такой пирог Королю, дабы Король Артур понюхал его, принимая запах в виде уплаты ленной повинности. Мог показаться и другой барон, преследующий с копьем наперевес какого-нибудь дракона, – бум! – и барон рушился наземь, а конь трусил себе дальше. Впрочем, если такое случалось, один из слуг тут же подводил ему своего коня и помогал взобраться на оного, – как и мы в наши дни поступили бы с тем, кто возглавляет охоту, – ибо таков был феодальный закон. Далеко на севере, под уже выцветающим закатным небом, мог вдруг затеплиться свет в окне деревенского дома, где некая трудолюбивая ведьма не только вылепливала из воска фигурку человека, который не пришелся ей по душе, но даже подвергала фигурку обряду крещения – момент безусловно важный, – прежде чем утыкать ее булавками. Кстати сказать, один из ее друзей-священников, впрочем сменивший хозяина, с охотой служил заупокойные мессы по любому, от кого вам желательно было избавиться, – и, дойдя до слов «Requiem aeternam dona ei, Domine»[6], выговаривал оные истово, хотя подразумеваемый человек был еще жив. Столь же далеко на востоке вы могли бы под тем же закатом увидеть Ингерранда де Мариньи, того самого, который построил огромную виселицу в Монфальконе, теперь и сам он, повинный в занятиях Черной Магией, клацая костями, догнивает на этой виселице. По дороге могли проскакать Герцоги – Беррийский с Бретонским – два достойных человека в похожих на стальные атласных кирасах. Эти двое не пожелали воспользоваться преимуществами, какие дают доспехи, и, поскольку в атласных одеждах было не так жарко, они решили ничем, кроме отваги, не отличаться от обыкновенных людей. Нечто подобное мог бы проделать и Ланселот. Над ними на склоне холма мог, оставаясь незамеченным, восседать Развеселый Уот с всегдашним своим туеском, наполненным дегтем. Он представлял собой типичнейшую фигуру Страны Волшебства, деготь же предназначался для овец – это был антисептик. Если бы вы сказали ему: «У нас тут всяк сам себе барин», – он бы согласился с вами немедленно, ибо он-то эту пословицу и выдумал, а уж мы ее после переиначили, заменив барана на барина.
Еще на большем расстоянии мог обнаружиться банкрот, нещадно секомый на каком-нибудь из торжищ Московии, – не от плохого к нему отношения, но по причине жгучей надежды, что, если он будет вопить достаточно громко, кто-нибудь из его друзей либо родичей, стоящих в толпе, проникнется состраданием и уплатит его долги. Далее к югу, в сторону Средиземноморского бассейна, вы могли бы увидеть моряка, караемого, согласно закону Ричарда Львиное Сердце, за пристрастие к азартной игре. Кара заключалась в том, что моряка три раза бросали с грот-мачты в море, и всякий раз, что он плюхался в воду, товарищи его ободрительно вопили «ура». А на рынке прямо под вами вполне могло совершаться третье затейливое наказание. Виноторговца, коего товар оказывался дурного качества, привязывали к позорному столбу и принуждали выпить непомерное количество его же собственного вина, а все оставшееся выливали ему на голову. И как же болела назавтра бедная голова! Посмотрев вон в ту сторону, вы могли бы, если у вас достаточно широкие взгляды, получить удовольствие, наблюдая за разухабистой Алисой, наградившей ухажера удивительным поцелуем, как о том сообщает Чосер. Посмотрев же в эту сторону, вы обнаружили бы отчаявшегося Мельника и его семейство, пытающееся разобраться в светопреставлении, случившемся прошлой ночью в их доме из-за сдвинутой с ее места колыбели, о чем повествует в своем рассказе Мажордом. На игровой площадке вон той монастырской школы несколько школяров со священным трепетом разглядывают своего однокашника, коему хватило находчивости и удачи наповал уложить из новомодной пушки Графа Солсберийского. И может быть, рядом с площадкой в вечернем свете роняют лепестки цветущие сливы, появившиеся, подобно Мерлиновой шелковице, совсем недавно. Другой мальчуган, на сей раз четырехлетний король Шотландии, с грустью вручает своей няньке королевский рескрипт, дозволяющий ей шлепать короля без риска быть обвиненной в государственной измене. Весьма малопочтенного вида армия – в сущности, организованная банда, привыкшая добывать себе пропитание мечом, – могла бродить от дверей к дверям, выпрашивая куски (участь, коей достойна всякая армия); а человеку, нашедшему убежище вон в той церкви, что к востоку отсюда, вполне могли оттяпать ногу, высуни он ее на полшага за дверь. В том же самом пристанище вы обнаружили бы целое общество фальшивомонетчиков, воров, убийц и неисправных должников, которые в успокоительном уединении церкви, где никто их не арестует, старательно чеканили фальшивые деньги или острили ножи, приготовляясь к вечерней прогулке. Худшее, что могло приключиться с ними после того, как они здесь укрылись, – это изгнание из страны. В этом случае им пришлось бы пешком тащиться до Дувра, все время держась середины дороги и сжимая распятие – если они хоть на миг выпускали его из рук, на них разрешалось напасть, – а добравшись туда, им надлежало, если корабля для них сразу не находилось, по горло зайти в воду, доказывая тем самым, что они взаправду стараются покинуть страну.
Известно ли вам, что в ту мрачную эпоху, которую мы изучаем, глядя в окно Гвиневеры, людям доставало благопристойности, чтобы подчиняться Католической Церкви, когда она налагала запрет на любые военные действия, – этот запрет назывался Божиим Перемирием, а длилось оно с пятницы до понедельника, а равно во весь Рождественский и Великий Посты? Неужели вы полагаете, что эти люди с их битвами, голодом, Черной Смертью и рабством были менее просвещенными, нежели мы с нашими войнами, блокадами, гриппом и всеобщей воинской повинностью? Пусть они даже были настолько глупы, что верили, будто Земля является центром Вселенной, сами-то мы разве не верим, что человек – это цвет творения?
Если рыбы потратили миллион лет на превращение в рептилий, так ли уж неузнаваемо переменился Человек за несколько прожитых нами столетий?
4
Закат рыцарства – вот что наблюдали из башенного окна Ланселот с Гвиневерой. Силуэты их темных профилей долго оставались явственными на фоне меркнущего неба. Профиль Ланселота, старого и страховидного, напоминал своими очертаниями профиль горгульи. Такой же лик, погруженный в ужасное созерцание, мог глядеть с собора Нотр-Дам, построенного при жизни Ланселота. Впрочем, лицо достигшего зрелости Ланселота исполнилось благородства, прежде ему несвойственного. Жуткие линии его углубились и успокоились, превратившись в складки, свидетельствующие о силе. Подобно бульдогу, с которым природа обошлась хуже, чем с кем бы то ни было из собак, Ланселот обрел наконец лицо, внушающее доверие.
Самое трогательное состояло в том, что эти двое пели. Голоса их, уже не полнозвучные, как у людей в расцвете молодых сил, еще сохранили способность уверенно вести мелодию. Пусть даже и слабые, они оставались чистыми и поддерживали друг дружку.
- Как месяц Май придет, – пел Ланселот:
- И солнце обольет
- Лучами день младой,
- Уж мне не страшен бой.
– Когда, – пела Гвиневера, —
- Когда небесный свод
- Вкруг солнце обойдет,
- Пускай приходит мгла,
- О ночь, ты мне мила.
– Но ах! – выпевали оба, —
- Но ах! И день, и ночь
- Уйдут когда-то прочь,
- И для души остылой
- Ничто не будет мило.
Маленький настольный орган издал неожиданную трель, они прервали пение, и Ланселот сказал:
– Хороший у тебя голос. Мой, боюсь, становится скрипучим.
– А ты бы пил поменьше.
– Ну, это уже нечестно! Да я со времен Грааля, считай, спиртного почти и в рот не беру.
– Я бы предпочла, чтобы ты и вовсе не пил.
– Что ж, значит, бросаю пить – даже воду. Вот умру у твоих ног от жажды, и Артур устроит мне роскошные похороны, а тебе никогда моей погибели не простит.
– Да, и я отправлюсь за мои грехи в монастырь и буду жить счастливо до скончания дней. Что мы теперь споем?
– Ничего, – сказал Ланселот. – Мне не хочется петь. Иди сюда, Дженни, сядь рядом со мной.
– Тебя что-то гнетет?
– Нет. Я в жизни не был так счастлив. Да, думаю, и не буду.
– Отчего же ты счастлив?
– Не знаю. Оттого, что весна все же пришла, а впереди у нас веселое лето. Руки у тебя опять потемнеют, вот здесь, наверху, кожа слегка зарумянится, и порозовеют скругленья локтей. Знаешь, что я больше всего люблю в твоих руках? Изгибы – складки над локтями, к примеру.
Гвиневера уклонилась от этих чарующих комплиментов.
– Интересно, чем сейчас занят Артур?
– Артур навещает Гавейнов, а я говорю о твоих локтях.
– Я слышу.
– Дженни, я счастлив, оттого что ты распоряжаешься мной. Вот и все объяснение. Пристаешь ко мне, чтобы я пил поменьше. Мне нравится, что ты заботишься обо мне, говоришь, что я должен делать.
– По-моему, ты в этом нуждаешься.
– Нуждаюсь, – подтвердил он. И вдруг с внезапностью, удивившей обоих: – Можно, я сегодня приду?
– Нет.
– Почему?
– Ланс, ну что ты спрашиваешь! Ты же знаешь, Артур дома, это слишком опасно.
– Артур не против.
– Если Артур вынужден будет поймать нас, – рассудительно сказала она, – ему придется нас убить.
С этим он не согласился.
– Да Артур все про нас знает. Его и Мерлин предупреждал со всеми подробностями, и Моргана ле Фэй прислала ему два совершенно прозрачных намека, и потом еще эта история с сэром Мелиагрансом. Он никогда не станет ловить нас, если его не заставят.
– Ланселот, – сердито сказала она, – я не могу позволить тебе говорить об Артуре так, словно он какой-нибудь сводник.
– А я и не говорю о нем так. Он лучший мой друг, и я люблю его.
– Ну, значит, ты говоришь обо мне так, словно я еще и похуже.
– Вот именно так ты себя сейчас и ведешь.
– Очень хорошо! Если тебе нечего больше сказать, лучше уйди.
– Чтобы ты могла без помехи лечь с ним в постель, я так понимаю.
– Ланселот!
– Ах, Дженни! – Он вскочил, легкий, как прежде, и поймал ее, не давая уйти. – Не сердись. Прости, если я обидел тебя.
– Убирайся! Оставь меня в покое!
Но Ланселот держал ее по-прежнему крепко, как человек, не дающий дикой зверушке вырваться и удрать.
– Не сердись. Прости. Ты ведь знаешь, я так не думаю.
– Животное ты все-таки.
– Нет. И я не животное, и ты не животное. Дженни, я буду тебя держать, пока ты не перестанешь злиться. Я сказал это, потому что почувствовал себя несчастным.
Ее голос, глухой и сдавленный, жалобно произнес:
– Только сию минуту ты говорил, что счастлив.
– Ну, говорил. И все равно я несчастен, и весь свет мне не мил.
– Думаешь, только тебе одному?
– Нет, не думаю. Прости мне мои слова. Мне самому они радости не прибавили. Будь умницей, ладно? И не заставляй меня мучиться еще сильнее.
Гвиневера смягчилась. Годы умерили пылкость их прежних ссор.
– Ладно.
Но улыбка ее и податливость лишь заново разбередили его.
– Дженни, давай уедем отсюда вместе.
– Прошу тебя, не начинай все сначала.
– Не могу я не начинать, – отчаянно сказал он. – Я не знаю, что делать. Господи, это тянется всю нашу жизнь, но отчего-то весной всегда становится хуже. Ну почему тебе не уехать со мной в Веселую Стражу и не жить там в открытую?
– Ланс, отпусти меня и постарайся быть благоразумным. Ну-ка, садись, давай споем еще что-нибудь.
– Не хочу я петь.
– А я не хочу этих разговоров.
– Если ты уедешь со мной в Веселую Стражу, все наши мучения кончатся раз и навсегда. Мы сможем жить вместе, мы будем счастливы, нам не придется никого обманывать день за днем, и мы умрем с миром в душе.
– Ты же сам сказал, что Артур все знает о нас, – отвечала она, – и что мы вовсе его не обманываем.
– Да, но это другое дело. Я люблю Артура, и не могу видеть, как он глядит на меня, и сознавать, что он все знает. Ты же понимаешь, Артур любит нас обоих.
– Но, Ланс, если ты так его любишь, как же ты убежишь с его женой?
– Я хочу, чтобы все было честно, – упрямо сказал он, – хотя бы под конец.
– Ну а я этого не хочу.
– На самом-то деле, – его вновь обуял гнев, – ты просто хочешь иметь двух мужей. Женщинам всегда подавай все сразу.
Она терпеливо отвергла ссору.
– Не хочу я иметь двух мужей, и чувствую я себя так же скверно, как ты, – но что хорошего получится, если мы станем жить открыто? Нынешнее наше положение ужасно, но по крайней мере Артур знает об этом, и нам можно любить друг друга и чувствовать себя в безопасности. А если я убегу с тобой, все рухнет. Артуру придется объявить тебе войну, осадить Веселую Стражу, и тогда один из вас погибнет, если не оба, и погибнут еще сотни людей, и никому от этого лучше не станет. Да и не хочу я покидать Артура. Когда я выходила за него замуж, я обещала оставаться с ним, и кроме того, я привязана к нему. Здесь я могу хотя бы заботиться о нем и помогать ему, даже если я люблю и тебя тоже. Не вижу я в этой твоей открытости смысла. Зачем нам делать Артура жалким в глазах всего света?
Ни он, ни она не заметили в густеющих сумерках, что, пока она говорила, на пороге покоя появился Король. Сидя боком к окну, они почти не видели комнаты. Долю секунды Король простоял, собираясь с мыслями, витавшими далеко отсюда – погруженными в заботы об Оркнейцах или в иные дела государства. Он остановился в занавешенном проеме дверей, бледная длань его, отведшая в сторону гобелен, еле заметно блеснула в темноте перстнем с королевской печатью, затем, не задержавшись ни на миг, чтобы послушать их разговор, он выпустил ткань и отступил. Он отправился на поиски пажа, чтобы тот объявил о его появлении.
– Самое честное, – говорил Ланселот, скручивая зажатые между коленями руки, – самое честное для меня – это уехать и не возвращаться. Но если я еще раз сделаю такую попытку, разум мой больше не выдержит.
– Бедный мой Ланс, и что бы нам было не петь дальше! Теперь ты снова впадешь в тоску, и у тебя опять будет приступ. Почему мы не можем оставить все как есть, – пусть твой замечательный Бог сам обо всем позаботится. Есть ли смысл в потугах что-то делать или придумывать исходя из того, что вот это правильно, а это неправильно? Да не знаю я, что правильно, а что нет. Разве не можем мы довериться самим себе, делать, что делается, и уповать на лучшее?
– Ты его жена, а я его друг.
– Хорошо, – сказала она, – кто заставил нас полюбить друг друга?
– Дженни, я не знаю, что делать.
– Ну и не делай ничего. Иди ко мне, поцелуй меня по-доброму, и Бог о нас позаботится.
– Милая!
На этот раз к ним поднялся по лестнице паж, громко топая, как оно водится у пажей, и неся с собой свечи. О свечах распорядился Артур.
Вокруг поспешно отпрянувших друг от друга любовников засветилась своими красками комната. По мере того как мальчик зажигал свечи, из темноты проступало великолепие ее драпировок. Со всех четырех стен, струясь, стекали пестрящие цветами луга и полные птиц рощи Арраса. Дверная завеса снова приподнялась, и в комнату вошел Король.
Он выглядел старым, старше их обоих. Но то была благородная старость, исполненная уважения к себе. Даже и в наши дни можно порой повстречать человека шестидесяти или более лет, черноволосого и прямого, словно тростник. К этому разряду принадлежали и наши герои. Ланселот, теперь мы можем его как следует разглядеть, казался прямым олицетворением лучшего, что есть в людской природе, – человеком, у которого чувство ответственности стало почти фанатическим. Гвиневера – и это могло бы, пожалуй, удивить тех, кто знавал ее в пору, когда в душе ее бушевала буря, – выглядела мягкой и миловидной. Она едва ли не вызывала желание встать на ее защиту. Но из этих троих более всех трогал сердце Артур. Он был так просто одет, так мягок, так терпелив в обхождении со своими скромными принадлежностями. Часто, когда Королева развлекала избранное общество в освещенной факелами Главной зале, Ланселот находил Артура в маленькой комнатке, где тот сидел в одиночестве, штопая собственные чулки. Ныне он – в синей домашней мантии, синей, поскольку эта краска была в те дни весьма дорогой и предназначалась для королей, либо святых, либо ангелов на картинах, – ныне он, улыбаясь, стоял на пороге мерцающей комнаты.
– Привет, Ланс. Привет, Гвен.
Гвиневера, у которой еще не выровнялось дыхание, ответила на приветствие:
– Привет, Артур. Ты застал нас врасплох.
– Прости. Я только-только вернулся.
– Как там Гавейны? – спросил Ланселот тоном, который давно уже стал привычным и который ему так и не удалось сделать естественным.
– Когда я вошел, они дрались.
– Это на них похоже! – воскликнули Ланселот с Гвиневерой. – И что же ты сделал? Из-за чего они передрались?
