Вышивальщица. Книга вторая. Копье Вагузи бесплатное чтение
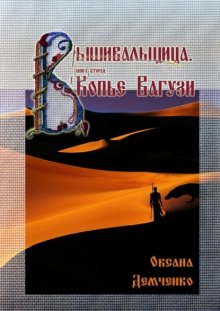
© Оксана Демченко, 2016
© Оксана Демченко, дизайн обложки, 2016
Редактор Борис Демченко
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Автор выражает благодарность ресурсу pixabay.com, ваши иллюстрации сделали книгу гораздо красивее!
Пролог.
Путаница законов
Зима в Горниве – время тихое, неспешное до полной лености. Как задернул осень занавесью туманов небо от края до края, так и забудь, мил человек, и цвет его, и глубину. Надолго забудь, чтобы не страдать попусту, не утомлять глаз поиском прорех в серости. Нет их, крепка туча. В ней зима и содержится, оттуда истекает, пока вся не выльется – такова её работа… Сперва отмачивает цвет листвы, делает линялым. После саму листву счищает с веток щёткой дождя, выстилает ковром на жухлую траву. И принимается тот ковер поливать да из него вымывать яркость летнего праздника, чтобы эту краску накопить, до весны закрыть в ларец… А чем ещё шьют цветы, как не загодя сделанными запасами ниток? Ведь всякий год куп получается синим, а марник – розовым, без малой ошибки, без ничтожного огреха…
Древесные стволы в зиму пропитываются неразбавленной чернью, они по тусклому небу такой узор веток кладут – хоть срисовывай для вышивки.
Теперь вышивать стараются, кому не лень. Слух прошёл: если ловко подбирать нитки, всего можно добиться колдовским способом, без большого труда. То есть шьют и самые ленивые, чтобы после вдесятеро взять за свои труды, отдохнуть впрок… И дождик зимний, неизбывный и привычный – он тоже шьёт. Ровно кладет стежки, шелестит иглой, навевает сон. Мысли толковые, годные к делу, прячет невесть куда. Вместо них подсовывает всякую чушь про куп да марник, про узоры да шитье.
Шаар, а точнее, как уже третью неделю принято говорить, князь Горнивы – на меньшее брэми ничуть не согласился, выслушав столичные новости – сердито смял перо, казня его, неповинное, за свою рассеянность. С эдаким настроем впору складывать стихи, но никак не законы писать. Между тем, стихи ничуть не требуются ару Шрону, он выр, а не красная девица… Опять же: назвать выра красным, значит, жестоко оскорбить, намекая на ошпаривание. Не прислать тросны с заметками – и того хуже обида. Делу большому, важному промедление и помеха.
Князь решительно придвинул кубок с остывшим киселём… и отодвинул его снова. Кто придумал, что старость – время тихого созерцания и размышления? Достойное, возвышенное, полное мудрости…
Само собой, он-то ещё не стар. Но порой возраст будто волна, накатывает и так прижимает, что сил нет верить в свою «нестарость».
По коридору мягко прокрались кожаные башмачки. Князь испуганно покосился на дверь, снова подвинул к себе кубок, затравленно глянул в сторону окна. Если успеть выплеснуть… но поздно. В комнату вплыла жена, румяная и улыбчивая. Сразу всё рассмотрела и исправно сделала вид, что слепа и ничуть не умна. Как полагал сам князь, способность делать именно такой вид и создавала прочность положения достойной женщины в доме. Хотя внешность – она тоже вполне приятна и очень важна. Без изъяна внешность. Два с лишним десятка лет назад, девицей, хороша была, и теперь не подурнела, только руки загрубели от работы да в волосах появились светлые прядки.
– Неможется мне, – осторожно пожаловалась жена, изучая устало опущенные плечи князя и его желтовато-бледное лицо. – Голова болит, силушки нет. Дай, думаю, схожу, на тебя гляну хоть одним глазком. Вдруг да и полегчает. Тебя повидать – уже отрада.
Князь невольно приосанился, понимая наивность довода и всё же… всё же принимая его. Распрямившаяся спина предательски хрустнула, в глаза потемнело, перо в пальцах дрогнуло. Жена всплеснула руками, пробежала через комнату и обняла за плечи. Забормотала свои глупости о донимающей её усталости, о ночных страхах. Повела мужа к кровати, уложила. Победно улыбнулась и хлопнула в ладоши. Из коридора вывернулись две девки, мигом притащили меховой полог, вязаные носки, баночки с мазями и – как же без него – новый кубок с киселем.
– Ну что ты травишь себя работой, – жена не выдержала прежнего окольного тона, составленного из намёков и жалоб на себя, вполне даже здоровую. – Давай я начну пером скрипеть. Я умею, меня выучила Маря. Ты говори, всё в точности перенесу на тросн. А сам отдохнешь, глаза вон – красные… Себя ничуть не щадишь, разве гоже? Кто спасибо скажет? И что я Маре нашей отпишу?
– Я ничуть не устал, – солгал князь.
– И сильный ты у меня, и мудрый, и враги тебя боятся пуще огня, – сразу согласилась жена. И вернулась к хлопотам. – А ты к стеночке повернись, вот так. Поровнее, спиночку побереги. Разотрем мы её, и еще моложе сделаешься. Эй, косорукие! Кому сказано, носки длинные нести, пуховые. И мазь с ядом змеиным. Не видите будто, как мысли выгоняют из человека силу… Один он и может помочь арам, кто ещё с таким делом справится? Лежи, свет мой, отдыхай. Опять же, соскучилась я, хоть рядышком посижу.
Девки сгинули, явились снова с нужными носками. Князь прикрыл глаза, признавая на сегодня победу за женой. Это куда приятнее и легче: сдаться красивой женщине, а вовсе не недугу… Князь расслабился, пошевелил пальцами ног в пуховых носках. Подумал: более месяца назад иным он себя полагал… Как выбрался из погреба, обманом туда запертый, так сгоряча вспомнил прежнюю силу, Казалось, холод его ничуть не сломал. Да, замерз до костей и сами те кости проморозил. Да, после кашлял крепко, долго. И жилы так крутило – выл по ночам, прикусив одеяло. Начал дожди за три дня вперед предсказывать без ошибки: потому ни сна перед ними не ведал, ни покоя… Так ведь – от расстройства занемог, от забот!
Пока в азарте первых дней выискал врагов, заговор против себя извёл накрепко, прижал наемников к ногтю, – был здоров, боль перемогал. Злостью её вытравливал. Но после свалился, бредил, так исходил жаром, вспомнить страшно. Чем бы всё кончилось, и был бы теперь князь у Горнивы – кто ведает? Слуги – они слуги и есть, не скажи, не пригляди, шагу не шагнут. Бабы, которых он сам в дом приволок для забавы, те хуже слуг. От него ждали и подарков, и обхождения, и заботы. Праздника каждодневного и любви жаркой, но пустой – вроде горения сухих листьев. Пыхнет огонь, взметнётся… и нет его. Зрелость – она располагает к иной любви, чем молодость. Зрелости не пожар надобен. Всего-то ровное горение, печное тепло. И костям, в холоде иззябшим, подмога – и сердцу отрада.
Бабу, изгнанную два десятка лет назад из дома, но так и засевшую занозой в памяти, он позвал назад, угождая дочке. Наследнице… Только дочка опять пропадает невесть где, родной двор ей не мил. А баба – вот она. Законная жена, привезенная с почётом из глухой деревни в столицу Горнивы, чем гордится всякий день. Он-то думал ли, что создает пользу себе, а не дочери? Только на второй неделе новой жизни и начал осознавать, сколь сейчас был бы плох без суетливых забот жены, без ее окольных и необидных жалоб. Без этой настойчивости, готовой вроде бы легко уступить – но лишь затем, чтобы погодя снова гнуть свое.
Нет, молодость закончилась… Но только теперь удалось изгнать с подворья докучные и неприятные приметы былого разгульного житья. И вставал он не в срок, и ложился заполночь, и пить-есть подавали в доме, что придётся, да ещё и отравить пробовали, корысть свою в том деле усматривая… вспомнить тошно.
– А вот кисельку испей, – мягко предложила жена.
– Ненавижу кисель, – упёрся князь.
– Ты какой сегодня ненавидеть станешь: брусничный, овсяный или калиновый? – серьёзно уточнила жена. Вслушалась в ответное молчание. – Знамо дело, когда молчишь, то как раз овсяный. Эй, кто не разобрал? А ну бегом, и кисель чтобы теплый был, проверю.
Князь попытался спастись от бабьей проницательности, накрывшись с головой меховым одеялом. Не помогло. Отобрала мягко, но решительно. Снова подсунула кубок под нос. Всегда упряма была, если толком-то припомнить. И двадцать лет назад имела ровно ту же манеру. Молча глядела, прямо в глаза, да так, как ему тогда ничуть не нравилось: словно смотрит на своё, личное и родное. Он в ту пору ценил свободу. Не знал, что второе имя подобной свободы – одиночество…
Кисель оказался достаточно вкусным, хотя жидкого тягучего питья князь не уважал. Родился на юге, где предпочитают острое, где жарят на огне жирное мясо, а не варят под крышкой постное – медленно и долго. Увы: сколько раз пояснял своему же брюху относительно молодости, княжьей воли, нерушимости здоровья… В ответ приходили лишь боль да желчь, в горле горели, спать не давали. Животу князь не указ. Зато княгиня преуспела в убеждении. После её киселей боль унимается, хотя приязни к отварному это и не добавляет.
Погладила по голове, словно маленького. Опять смотрит в спину, он верно чует— как на своё, неотъемлемое. И спорить уже нет сил. Пусть глядит. Он сегодня старый, сдался и ослаб. Ему нужна опора. Опять же, такой княгиней можно гордиться – собою статная и разумная, неперечливая. Дом ведёт крепко, в делах помогает. Дочку упрямую держит в узде ловчее, чем он сам. Он-то силой и злостью пробовал перешибить Монькин норов, а матушка опутала её лаской да так помыкает, как иным и не додуматься.
– Отдохни, все дороги замокли, даже выры не доберутся до нашего подворья, – заверила жена, гладя по накрывшему спину пуховому платку. – Баньку велю истопить завтра же, надобно ещё раз прогреть косточки. В погребе семь дней провести! Иной бы и не выдержал, но в тебе сила немалая, мне ли не знать.
Новая лесть пришлась кстати. Князь совсем успокоился, лег поудобнее, радуясь теплу, осторожно и неторопливо греющему спину. Ненадолго забылся дремотой. Очнулся куда как помоложе и поздоровее.
– Купава, курьеры приезжали? – шепнул князь, не сомневаясь, что жена по-прежнему сидит рядом. – Только не начинай темнить.
– Приезжали, – нехотя отозвалась жена. – Неугомонный этот выр, именуемый Шроном златоусым. Но брат его Сорг и того хуже. Покоя от них, нелюдей, и зимой не сыскать.
– Отчёты не сошлись? – нахмурился князь. – Я ведь настоящие передал ару Соргу. Число людей, населяющих Горниву, указал без утайки, и причитающуюся вырам десятину с дохода заявил полную.
– Не знаю, письмо короткое, – грустно молвила Купава. – Оповещение, что послезавтра сам Сорг прибудет. Вот я и надумала: баньку. Знатного костоправа вызвала из Глухой пущи, из сельца далёкого. По всему северу идет о нём слава.
– Говорила, дороги замокли, – припомнил князь, зевнул, но встать и не попробовал. Тепло и благость покоя одолели его окончательно.
– Так не солгала ни на ноготь, замокли, – отмахнулась жена. – Сорг этот из столицы направляется к нам озером и далее речкой, которую так раздуло, что к самому городу заводи подступают. С чем плывёт, в письме не указано. Иначе я проводила бы курьера к тебе. Не без ума, в большие дела лезть и не стала бы. А так… рыбкой угостила заезжего да и отпустила далее, куда он поспешал.
– Курьер – выр?
– Здоровенный, усатый и весь зелёный от мха, – шепнула жена в ухо. Хихикнула и обняла за плечи. – Сказывают, баб у выров нет, все утопли в глубинах. И то: что за красота в вырьей бабе? Подумаю, сразу смех разбирает: усатая, мохнатая и склизкая!
Князь попробовал возразить, но не смог. Видение вырьей бабы позабавило его. При таком сравнении родная жена особенно хороша. Мягкая, тёплая, в теле. Налегла на плечо легонько, смех у неё грудной, тихий… Остатки мыслей изгоняет из головы вернее всякого иного средства.
– Купа, синий ты мой цветочек, – оживился князь, ворочаясь. – Ведь я чуть стих тебе не сочинил. Хотя сел иное писать.
– Стих? – восхитилась жена. – Хоть так расскажи, простыми словами, о чем он был-то…
– Девок разгони до утра, дверь прикрой потуже, – задумался князь. – И садись, что ли, вот сюда. Как же я думал-то? Ох, погоди… Нитки веток чёрных нас с тобой связали… Нет, не так. Дай соображу.
Вырьи дела перестали беспокоить. Хотя дел тех – амбар трещит, сколько! Новые же все прибывают, словно прежних мало.
Месяц назад шаар Горнивы проводил в стольный город Усень выров из рода ар-Бахта. Глянул, как сходится вода над их панцирями, как затихает круговое волнение… да и счёл ушедших мёртвыми. Мыслимое ли дело: так нахально и самонадеянно, впятером, лезть менять весь закон, на коем жизнь зиждется уже пять веков! Кривой закон, гнилой насквозь, иначе и не сказать. Только разве посильно кому сходу выпрямить столь древнее, вползшее корнями в каждый клок земли, в каждую душу? Привычное оно – житьё-бытьё… Связало накрепко традиции, свой уклад имеющее, ставшее основой мирового порядка!
Но выры не сгинули. Правда, один вроде канул в бездонную водную пропасть, но прочие утвердились в столице. И даже, что вдвойне нелепо, дотянувшись клешнями до власти, они не позабыли о случайном союзнике. Хотя много ли он, шаар, сделал для чужой победы? Встретил, пару советов дал да проводил до ближнего омута. Знака в столицу, прежней власти, не отослал и шума не поднял…
Нырнули выры ар-Бахта в безымянной заводи, вынырнули в столице, велика ли затея… Однако круги по воде пошли – словно горы рухнули. Закон пошатнулся и ослаб. Все попритихли, ожидая окончания колебания неспокойных вод событий и судеб, взметнувших первой волной ара Шрона на вершину власти. Он получил именование златоусого, что в исконном вырьем понимании означает – мудрец, первейший и верховный над прочими.
Волна перемен вполне предсказуемо смыла тех, кто был ару Шрону главным противником и преградой новому закону. Прежний кланд, происходящий из рода ар-Сарна, давний хозяин земель Горнивы, был предан позорной казни – погиб от топора выродёра при согласии и наблюдении знатных выров, именуемых хранителями бассейнов. Но земли кланда никому из них не отошли. Ар Шрон собрал стариков – выры весьма высоко почитают своих старых, живущих в мире более века и потому, как полагают нелюди, ума накопивших поболее прочих.
Старые подробно рассмотрели семью ар-Сарна и ужаснулись: все выры рода неумны и так тяжело ущербны, что нуждаются в опеке… Как им таким – править? Ясное дело, соседи немедля ощерили клешни на Горниву, принадлежащую по закону выров семье ар-Сарна. Но ар Шрон и тут проявил себя памятливым и упорным союзником. Никому не дал дотянуться до дармовой власти. Сказал: если так угодно обстоятельствам, пусть земля пребудет пока что без вырьего правления. С того и можно начать разбор новых законов. А десятину Горнива пусть платит прямо столице, Усени. Город сгнил и обезлюдел, надо восстанавливать.
И в единый миг стал он, шаар Чашна Квард, князем всей Горнивы. Его власть равна власти знатных выров, хранителей бассейнов. Почёт велик. Но с ним навалилась и новую головная боль: опека над замком ар-Сарна. Гнилым, замокшим и изрядно вонючим… Неделю лучшие мастера пытаются его хоть как отскрести от плесени, приводя к должному виду, крепкому и здоровому… словно без того дел мало!
Он, Чашна, должен сдержать слово и приготовить тросны с мыслями по новому закону, равно полезному людям и вырам. Только мыслей тех – увы, не густо. Как написать единое право для столь неодинаковых, как люди и выры? Он сперва лихо взялся за дело. И увяз, как в болотине, в разборе имущественных вопросов.
Для людей владение – оно личное и родственное, определяемое правом рождения и крови. У выров же брат – тот, кто душе близок и допущен в замок, кто назван родным. Как учесть такое? И дальше не легче! Всё, что принадлежит морю – исконно собственность выров. Тогда можно ли безоглядно удить рыбу, ловить сетью? Выры-то не ходят к людям на овсяное поле кушать да топтать зерно! А если с каждого улова – десятину, учёт вести непосильно, во всякую рыбачью лодку не посадишь учётчика, каждому в прибрежном поселке не заглянешь в рот…
Реки, вот ещё одна загадка. Вода в них течёт. Она – вырье достояние? Но и людям без воды нет жизни. Как делить?
Чашна попробовал отвлечься от имущественного закона, нацелил мысли в сторону прав и свобод. Так запутался еще хуже! Убийство у людей всегда грех и тягчайшее преступление. Выры же дважды в год – и это самое малое! – собираются на мелководье близ города Синга, там лучшее место, известное всем. Клешнятые устраивают бои, и так калечат друг дружку – глянуть на побеждённых страшно. И до смерти дело доводят, нередко. Грехом содеянное не полагают, казни за то не предусмотрено. Бои есть основа уклада жизни молодых, способ выпустить горячность и проверить силу. Не дай им права на бой, они разнесут Сингу по бревнышку, да не одну её. В боевом выре слишком уж ярко удаль играет, просится на волю.
Вместе жить трудно… Не так уж глупы были древние выры, отгородившие свой народ от людей высоченной стеной запретов. Подлость в их решении очевидна, заметны корысть и несправедливость, из этого проглядывает помеха развитию всего мира… Но в целом-то закон у тех выров получился работоспособный, приходится признать. Перекраивать его непросто.
И, словно мало всех сложностей, надо учесть ещё одну. Вышивальщиков. Пока-то их двое на весь мир. Но, того и гляди, явятся новые. Люди и выры, способные менять вокруг себя очень и очень многое.
До сей поры никто, пожалуй, не понимает даже приблизительно, каковы возможности вышивальщиков и что за силы им подвластны. Подчини вышивальщиков общему закону – сделаешь их слугами, а то и рабами, людских князей да вырьих хранителей. Каждый, кто у власти пребывает, начнёт искать в шитье выгоду себе, благо свои землям и ущемление соседям. Тут и до войны недалеко… Поставить вышивальщиков над законом – а какова тогда сила и власть князя, если он кое-кому не указ? Опять же: как выявлять их, как отличать фальшивых от настоящих, как обучать? И вдобавок надо вести учёт их делам. Без учёта если, то из чьего кошеля оплачивать те дела? И в целом ведь получается: всем они в пользу… Всем – значит, никто и медного полуарха не даст, такова жизнь.
Вопросы, вопросы… Нет к ним ответов. Только на жену глядючи, можно ненадолго забыться. Глаза у неё синие, за то, видно, и названа Купавой – болотный куп всегда синий и растёт над бездной, непролазной и гиблой. Князь улыбнулся, ощущая, что утонул уже окончательно, погиб и ума лишился, что выры ему так же мало интересны, как и законы. По крайней мере, сегодня…
Ар Сорг, как и указал в письме, вынырнул из мутного озера, разжиревшего на зимних дождях – два дня спустя от прибытия курьера. Повёл усами, оглядел десяток опрятно одетых вооруженных людей – охрану. Приметил у кромки воды и самого бывшего шаара. Рядом стоит и жена достойного человека, гордо поглядывает по сторонам. В руках – поднос на расписном полотенце. Вот еще новость…
– Добро пожаловать, гость, – ласково пропела женщина, кланяясь и двигая вперед свой поднос.
– Здравствуй, князь. Всем вам желаю крепкого здоровья в сию сырую погоду, славную для нас и ненастную – для вас, – прогудел Сорг. Выбрался на берег и изучил содержимое подноса с немалым интересом.
Нелепую привычку людей встречать с хлебом, для выров малосъедобным, и тем более солью, словно в море её мало, Сорг давно усвоил. И порадовался: эта женщина умнее иных. Гостя привечает, не сочтя его человеком. Выложила на поднос душистую печень и мытый белый корень айры. Вкусно, полезно и уважительно.
– Ты чего приплыл один? – нахмурился князь, пока выр торопливо поедал угощение и одновременно хвалил его. Благо, едят выры ртом, а говорят – носовой складкой. – Ар, разве дело: без охраны, без брата…
– Мы собрались к тебе вдвоём, – усмехнулся Сорг, двинув бровными отростками. – Но, увы, Шрона изловили и удержали наши старые. Решили: пробуем сбежать. Устыдили. Мол, вы подняли эту муть с законами, взволновали донный ил, вам и разбираться. Я успел нырнуть и уж лапами работал так, что меня не догнали. Устал я от столицы, князь. Свои земли в запустении, покуда я решаю чужие беды. Всё я свалил на Шрона и сбежал.
– Хороши ли дела у друзей ара? – осторожно уточнил князь.
– Ларна тоже пытался сбежать, – весело отозвался Сорг. – Но его успели назначить ар-клари. Дочку твою не обошли, тоже при высоком звании. Сразу его получила, как прибыла в столицу с горнивскими наёмниками. За них спасибо тебе: кстати пришлись, порядок поддерживать надо весьма усердно. Слово «свобода» люди восприняли очень странно, брэми. Мы с братом в некотором замешательстве от происходящего.
– То ли ещё будет, – вздохнул князь. – Идём, гость дорогой. Поселю под навесом в парке, там имеется пруд. Хорошее место, вырье.
– Я ненадолго. Тросны привез от брата, – уже без шуток отозвался Сорг, поднимаясь от воды к дороге. – Это по общим делам. И вот ещё короб. Тут наше, северное. Шаар города Тагрима желает устроить порт в северной оконечности наших земель. Вам польза, нам, ар-Рафтам и вырам замка Тадха. Я уже говорил с их старым. Трудное дело, оно потребует немало золота. Я посчитал вчерне, с кого сколько. Надо бы согласовать да определиться по срокам.
– Глядя на вас, я понимаю, почему все шаары Ласмы против свободы, – усмехнулся князь. – Чуть не в слезах, не желают иной власти…
– У ар-Рафтов и того хуже, – признал Сорг. – Оружейники и рудокопы угрожают пойти войной на замок, если ар Юта не явится домой и не объявит себя князем. Ну какой из выра князь? Впрочем, пока что мы не смогли наполнить новым смыслом это старое слово. Оно ничего в точности не обозначает. Ни полного списка прав, ни правила передачи власти. Пока все утрясем, один вырий князь у нас неизбежно появится. С северными оружейниками спорить – себе дороже.
– А что же брэми Тингали и брэми Ким? – осторожно уточнил князь.
– В здравии… Князь, не надо спрашивать меня про шитьё. Я в этом ровно ничего не понимаю. Давай решим с портом севера и черновым вариантом уложения по поводу собственности и наследования. Это гораздо понятнее, – мрачно ответил Сорг.
Глава первая.
Тингали. Нитки города
Ох, никто слушать меня не стал, хотя я умоляла и убеждала: нельзя отсылать Шрома вниз, в бездну, одного и прямо сразу – больного, израненного. Подлечить следует и только потом… Малёк твердил то же самое. Но выры словно обезумели. Мол, не уйдет теперь – не вернётся в сезон красного окуня, а значит, не будет возрождения истинного смысла праздника сомги. Словно этот сезон один решает всё. Шрон сказал чуть больше: что внизу выр не во всякую пору может удачно найти грот и заснуть. Обещал, что во сне Шром быстрее излечится. И задумчиво уточнил: сам он приметил ещё по дороге в столицу, что пояс мною вышитый, глубинный, меняет брата. Такие перемены вверху, в мире воздуха и суши, опаснее любых ран. Виновато замолчал, развёл руками. Вот тогда я заплакала горше прежнего: получается, снова я виновата! Пояс шила, не понимая своего дела. Чужое заветное желание исполняла… Вышивальщица, чудодейка неразумная. Мало ли, чего он мог пожелать! Сперва следовало всё дотошно выспросить, Кима выслушать, Шрома и даже, пожалуй, Ларну. Он хоть и зовется выродёром, и к смерти более причастен, чем к лечению, но про выров знает много.
Увы, сделанное – Ким прав – сделано… На следующий день от погружения Шрома в столице огласили тросн. По всем площадям кричали с самого утра о завершении вражды людей и выров, о даровании вырьим рабам свободы, об установлении нового закона. Не сразу и одним махом, но постепенно, «в своё время». А пока шаары в прежней силе, только жаловаться на неправые их дела можно ар-клари нового правителя над всеми землями – златоусого ара Шрона. Было в указе особо отмечено, что рабство отменяется немедленно, и тант, лишающий людей ума, попадает под полный запрет вместе с иными ядами. Общение же людей и выров наоборот, из-под запрета выводится.
Ларна усмехнулся, наблюдая праздник на улицах. Нехорошо так усмехнулся, я тогда его ничуть не поняла. Ким мельком глянул и осторожно вздохнул: обойдется.
– Сколько я повидал дорвавшихся до свободы, ни разу не обходилось, – туманно хмыкнул Ларна и сел точить топор.
Странное занятие для мирного времени… Хотела мимо пройти да в город сунуться, глянуть на праздник хоть одним глазком – изловил, злодей, за косу, грубо и без разговоров. Подбородком дёрнул: иди, сиди в своей комнате. Да кто он такой, запирать меня? И не на один денёк! Три недели мы в городе. Всё время я сижу безвылазно в особняке выра Жафа. Он славный, да и прислуга в доме душевная, их Ким набирал, когда тантовых кукол стало можно заменить разумными людьми, новый закон это разрешает всякому выру. Но я хочу увидеть город! Я за всю жизнь ни разу большого города не наблюдала…
Говорят, Усень в десять раз крупнее Тагрима. Говорят, в центре его стоят не просто большие дома, целые каменные хоромины! И так они велики, что каждая подобна замку Шрома, а то и покрупнее. Рынок имеется шумный, порт немалый. А что окраины в запустении – так я туда и не пойду… Опять же: охрана в городе крепкая. Выры посменно, по пять стражей постоянного дозора, оберегают верхний град, где мостовые выстланы белым камнем. Он так и зовется – «белый город». Люди и ещё три выра стерегут покой среднего города, в котором улицы замощены бурым обожжённым кирпичом, за что он зовется «красный город». Там рынок, богатые лавки. Говорят, есть целые торговые дома, где нитки продают. Ларна мне трижды обещал тех ниток купить, и ещё клялся проводить на базар, когда у него высвободится время. Только пока что не держит слова. Обидно. И Ким пропадает дни напролет, со старыми вырами ведёт умные беседы.
Мы с Холом забыты и брошены, сидим в тени крытой беседки над морским берегом – и шьём. Ким дал нам урок новый: глядеть на порт и настроение его угадывать, вдвоём в единый узор складывать. Какое там – единый… Хол хвост прижимает и лапы втягивает. Ему, прирожденному лоцману, на бухту со стороны взирать, глубин не оценив и личной лоции не составив – пытка! Я косу с плеча на плечо бросаю, передник поглаживаю и тоже страдаю. В порту люди и шум, грузы приходят, галеры скользят по воде… Почему надо велено взаперти ждать невесть чего? Общее замирение узаконено, свобода всем дана. Только нам оно выходит – хуже прежнего. Вроде бы мы с Холом – последние на свете несвободны, ни праздника нам, ни роздыху.
– Сегодня кухарка пойдёт на рынок, – хитро сообщил мне утром Хол, едва нас очередной раз бросили Ким и Ларна, сгинувшие сразу после завтрака. – Я сказал ей, что ты согласна донести корзинку, да. Что Ким разрешил. Она поверила. Уговор, Тингали: завтра ты будешь врать. Скажешь выру-стражу, что меня отпустили в порт. Что Шрон так велел, да.
– Хол, ты лучше всех, – обрадовалась я.
– Я ныркий, – снисходительно согласился выр. Снял с зажима на нижних лапах кошель и мне отдал. – Золото. Тебе на нитки. Нам двоим, да. Хочу тоже начать шить обычными. Шрома хочу вышить, каким он вернется. Я точно не знаю, как выглядит панцирь второго возраста. Никто уже не помнит. Но описания есть, Шрон нашёл. Ты купи много ниток, разных. Самых разных, да.
Сказал – и опасливо смолк. Я кошель убрала поскорее в карман передника. Ещё бы! Шум в нашем обычно тихом саду. Клокотание, щёлканье клювов… От беседки всего и не рассмотреть. Мы с Холом бросили дела и побежали к дому. А там – такое…
Два благообразных мужика переминаются. Оба в белых рубахах с синей да черной мрачной вышивкой, в таких лишь на похороны ходить. Каждый тянет за повод рыжего страфа, впряжённого в лёгкий возок. На возке… гроб. Настоящий гроб! У меня ноги подкосились. Ким ушёл только что, живой. Ларна и того живее – при топоре и вороном страфе! Неужто беда? Два горба у нас во дворе…
Ар-тиал – человек, недавно назначенный распорядителем нашего особняка и доверенным лицом выров рода ар-Нашра, семьи старого Жафа – выскочил из дома и тоже сделался белее полотна, убедившись в том, что знал пока лишь со слов слуг: гробы во дворе.
– Кто впустил вас? – просипел он, облокотясь плечом о косяк. – Насмешки строить прибыли? Что за повадка подлая! Кто таковы?
Мужики переглянулись, поникли, украдкой дергая поводья и убеждая страфов прекратить шумный птичий скандал. Более дородный гость виновато поклонился, снял шапчонку, свил ловким жестом невидимую нить – Пряхе уважение выказал – и приступил к делу.
– Плотники мы. Заходил в нашу слободу посыльный от самого ар-клари Ларны, от славного выродёра, гм… бывшего. Сказывал: здесь услуги плотника надобны. Дело спешное, но сперва желательно показать образец работы. Нас двоих отрядили. Ну, мы не без ума: ежели Ларне надобны услуги плотника, ясное дело, каков следует товар везти. Самое наилучшее взяли. Вот, извольте убедиться: гроб цельный, ручки литые, узорные. Полировка. Лак в пятнадцать слоев с медленной просушкой, хоть шаара хорони. Мы даже усомнилися: кто покойник? Не сам ли ар-клари? В городе-то всякие слухи бродят. О цене договоримся…
Мужик хитро прищурился, полагая возможным перейти к обсуждению своего интереса. Хол восторженно шлёпнулся брюхом в траву и свистнул. Я рухнула рядом и захихикала, душа смех ладонью. Сколь Ларна не представляется лекарем, а только все в городе верят, что больные после его лечения исключительно плотнику интересны. Тут бы не смеяться, а думу думать. Я сшила пояс Ларне, жизнь его пыталась переменить с боя на мир, а пока что не видна работа моего пояса. Так получается? Хотя – не так. Плотник-то больным Ларны не требуется!
Пока я думала, более щуплый мужик умудрился протолкнуть своего страфа вперед и к ар-тиалу в ноги упасть, звучно выбивая лбом поклоны о ступени крыльца.
– Не верьте ему! Он гробы из сосны делает, не из дуба. Дерево сырое, летнее, берёт в работу! И слобода его не посылала никуда, разве к вырьей матери. А сюда он сунулся сам. Его совестили, а он упёрся: свобода теперь всем дана, значит, можно без указа старосты лезть вперед и товар поганый везти на показ, весь город позоря. Да в его кривобокий гроб покойника и положить невозможно! Какого там шаара, или самого Ларну… пьянь портовую хоронить, и то совестно! Вот мой товар: дуб мореный, узор врезан без единого изъяна…
– У нас нет покойника, – ровным тоном оповестил плотников ар-тиал. – Все здоровы. Совершенно все. Более не стану просить Ларну о помощи в делах…
Тяжело вздохнув, ар-тиал спустился по ступенькам. Опасливо глянул на образцы работы. Мрачные, с синей отделкой и толстенными медными ручками, торчащими по бокам. На ближнем гробу имелся медный же узор, наклеенный или прибитый поверх крышки: поворотное бердо Ткущей, старшей сестры Пряхи, а рядом и веретено самой Пряхи. В изножье – нить жизни, сложно собранная в узор и оборванная… На втором «образце» отделка представляла собой сложный узор, вырезанный по цельному дереву. Ар-тиал вздохнул, смиряясь с необходимостью изучать столь неожиданные примеры работы. Нагнулся, рассмотрел полировку, пощелкал ногтями по крышке, спросил о цене, условиях работы. Мужики приободрились, закивали, пихаясь украдкой локтями и нахваливая себя, мастеров на все руки.
– Ладно же, оба годны, – нехотя вынес решение ар-тиал. – Ваша работа, брэми, – обратился он к щуплому плотнику, – более изысканная. Вам доверю исполнение срочного заказа самого старого ара Жафа. Для второго мастера дело попроще. Гостевые гроты надо переделать под новые надобности. Старые доски мы уже выломали, гниль выскребли. Теперь следует всё обустроить для подпола. И дверь хорошую соорудить. Без узора, – ар-тиал опасливо глянул на медное веретено, украшающее крышку гроба. – Просто дверь.
– Так… а гробы-то куда? – сник посланец плотницкой слободы.
– Вы что, издеваетесь? – возмутился ар-тиал. – Я разве просил тащить их сюда, позорить мой дом? Пускать сплетню по всему городу? Куда хотите, туда и девайте! На работу извольте явиться в пристойном виде, что за наряд: синие вышивки. Нет у нас похорон! Нет и не предвидится, слава глубинам… Идите, после полудня жду снова. С набором плотницким и без этих… образцов. Для переделки погреба материал закуплен, да и на заказ ара Жафа всё нужное доставлено.
Ар-тиал развернулся и удалился, не слушая благодарностей и вздохов за спиной. В высоком звании распорядителя особняка он пребывал неполный месяц, ещё не утратил вкуса новизны, гордился собою и норовил все дела исполнять наилучшим образом. И вдруг – гробы, сплетни, того и гляди – скандал…
Мужики ещё чуток постояли, обсуждая, куда Ларна дел покойников. В отсутствие таковых оба плотника упорно не верили. Дружно перебрали врагов из нижнего города, загибая пальцы и морщась – явно кто-то из плотников-нищеглотов перехватил дорогой заказ… Сошлись чуть погодя на том, что сейчас уже спорить поздно. Хорошо уже то, что иное дело нашлось, не впустую через весь город гнали страфов. Во время беседы мужики развернули возки и неторопливо зашагали к воротам.
Из-за полуприкрытой двери подсобы на опустевший двор выглянула румяная кухарка. Помахала рукой Холу, улыбнулась мне. Выставила большую пустую корзину. Сбегала за второй – и вот мы уже идём в город! Ай да выр-малыш! Удружил. Помог сбежать из-под замка, пусть и ненадолго.
Усень хоть и считается городом, стоящим в срединных землях, но зимы тут не знают, совсем как на юге. Нет ни затяжных дождей, ни непролазной сырости, нет и прочих «радостей», одолевающих Горниву. О дождях мы, оказавшиеся здесь в месяц можвель, знаем лишь что? То, что Омут Слез за городом переполнен. Уже вторую неделю, как объяснил Ким, шлюзы на двух дополнительных стоках подняты. По каналам сбрасывают излишек воды в обход стен столицы, к морю. Это значит, что к северо-востоку от Усени, над озером, зима льёт слезы. Тучи мокрыми тряпками облепляют горные склоны, тропы непроходимы.
А здесь, в столице, солнечно и тепло. Вполне приятная погода, только восходы хмуроваты да в каналах вода бурлит жёлтая, мутная. Но мне и шум течения в радость. Ничегошеньки я не видела в Усени!
От особняка выров, расположенного на скалах над морем, дорога широкими игривыми петлями вьётся по склону к белому городу. Одумавшись, ныряет в долинку и степенно выбирается к воротам. Плотницких повозок, запряжённых рыжими страфами, не видно. Похоже, мужики устыдились, повезли свой груз окольным путем, вдоль стен. Мы с кухаркой довольно долго обсуждали, как плотники станут объяснять произошедшее дома. Сошлись на том, что вывернутся, оба ловки, даже сверх меры. Кухарка понятливо усмехнулась.
– Про Ларну много сплетен. Новая ничего не убавит и не прибавит. Знаешь, как теперь в городе именуют новый закон? Топором Ларны. Потому – как усатый выродёр решит, так и пишут выры. Все заметили: сперва он сделает такое, хоть караул кричи… а с утра уж тросн появляется, и в нём подтверждение: прав во всем, неча вопить…
– Так разве он плохо делает? – уперлась я, обидевшись за Ларну.
– Всем хорошо не бывает, – сухо отметила кухарка. – Красный город доволен… пока. А гнилой, нижний, в голос кричит: продался Ларна вырам. За их золото служит и людей рубит, не выров. Если б выродёра еще при кланде предали казни на площади, весь город плакал бы и славу ему пел тайком. Живой же он страшен. Я сама боюсь его. Понимаю, что глупо, а как случаем под взгляд попаду, так и тянет на колени бухнуться да в грехах покаяться. Вчера творожники унесла из особняка – гостинец тётке. Лишние, никому не надобны. У калитки с ним столкнулась… так хоть назад иди и ссыпай в миску! На корзинку глянул, на меня, прямо ножом зарезал! Глаза у него страшны.
– Так не оговорил же!
– Топор погладил, доброй ночи пожелал, – всхлипнула впечатлительная кухарка. – И пошёл себе. У меня враз ноги отнялись, еле добрела к тётке… Хорош гостинец. Мне ни один творожник в горло не полез.
Дальше мы пошли молча. У ворот кухарку приветствовали, как знакомую, она показала бляху, и нас сразу пропустили. Лишь уточнили с осторожным недоумением: что за повозки проехали по дорожке, не умер ли кто в особняке?
В белом городе улицы оказались широки и светлы. Особняки стояли просторно, все в зелени, в цветах. Тишина давила на уши: словно тут и не живут вовсе. Ни души вокруг, но спина мокнет, взгляд чужой чует, а доброты в нём не примечает.
– Шаары тут живут и их ближние, все насквозь наипервейшая знать, – шепотом уточнила кухарка. Рукой махнула в сторону. – Там закрытый город, за каналом, за стеной. Выры там. Твой брат, пожалуй, туда и пошёл с утра, он в большом уважении у клешнятых.
– Нитками тут не торгуют?
– Нет, – улыбнулась кухарка. – Мне ар Хол всё пояснил про нитки. И что срочно, и что дорогие надобны, самые лучшие. Как в красный город спустимся, сразу покажу. Теперь на нитки великий спрос. Прямо у рыночной площади недавно лавка открылась. Огромная, в два яруса. Ты там побудь, покуда я закуплю продукты. Боюсь, если на площадь тебя поведу, Ларна меня со свету сживёт.
Спорить я не стала. И так получила больше, чем могла ожидать. Город рассматриваю. Одна, сама. Свобода… Все от этого слова немного пьяны. Может, потому и тих белый город: шаары умнее прочих. Потому и опасаются похмелья. Их страх я ощущаю куда полнее, чем настроение порта, ставшее для нас с Холом непосильным уроком. Порт слишком многолюден, в нём намешано всякое, и единого характера у него нет. По крайней мере, мы такого не нащупали. Другое дело – этот вот город. Он весь – струна, натянутая и похрустывающая натужно. Из страха та струна свита пополам с жадностью. При старом законе шаары привыкли жить сладко, все обманные тропы выведали, привычки проверяющих выров усвоили. И вдруг перемены!
Марница как приехала в столицу, так и сидит, не разгибаясь, над учётными пергаментами. Ким объяснял мне недавно с явной насмешкой, да так, чтобы запоздавшая к ужину Маря расслышала: её уже и красавицей называли, и дарили золотые шейные ожерелья потяжелее камня для утопления, и намекали на иные способы отблагодарить… Но учёт по-прежнему не сходится… Значит, угроза встречи виновных шааров с Ларной возрастает день ото дня.
За воровство пока что новые власти карают по закону Ласмы, родного края семьи ар-Бахта. Этот закон, видимо, станет постоянным. Первая кража – плети, вторая незначительная и если есть защитное прошение от старосты – плети, а без заступника – клеймо на руке. Третья в любом случае – повинную руку до локтя долой. Шаары белого города, я ощущаю это кожей, пропитаны гнилым страхом насквозь. Пожалуй, и узор того страха я вижу, и сшить могу. Точнее – нарисовать под вышивку. Разве такое потянешь нитью из души? Я злодеям и ворам ни казни не желаю, ни чудесного спасения. Не надобно им шитье мое, не для них существуют особые нитки. Этим гнильцам Ларны довольно. В душе у них страха полны амбары, а света – меньше одной лучины сырой. Не готовы шаары одуматься и по-иному жить, к перемене потянуться. Может, Кимочка считает важным для меня умение видеть такую вот готовность измениться? Чтобы кому ни попадя поясов не шила…
Я даже споткнулась о свою мысль. Была ли у Шрома нужная готовность? Или его мечта копилась привычно и подпитывалась традициями? Нет, он сам решил уйти вниз. Твёрдо и окончательно. Он, пожалуй, и без пояса нырнул бы. Юта ар-Рафт пробовал мне пояснить, когда цветы приволок и начал умолять создать да подарить ему шитье. Только я пока что Юте пояс не шью. Ким не велел.
Белый город остался позади. Мы подошли к кованой решётке, кухарка снова показала бляху. Я прикрыла глаза и прижалась лбом к металлу ворот. Красный город дышал в лицо своим настроением. Иное оно, чем в белом. Вовсе иное! Без слитности большого страха. Здесь куда как поинтереснее сплетается узор. Плотнее, многообразнее. И явно он цветной.
Базар чувствуется, с шумным его торгом, с крикливой праздничностью. Купеческая жизнь течёт своим чередом, шуршит золотом в кошелях, топочет страфьими лапами, шлёпает мерной поступью упряжных биглей – груз тянут из порта и везут в порт.
Мастеровые ведут своё дело, хозяйки держат дом и берегут уют. Толковый узор. Только поверх – еще один наброшен. Словно канву городского настроя смяли, а затем грубо наметали столь ненавистными Киму белыми нитками. Нет в городе настоящего закона, общего и всем понятного. И покуда нет его, временный закон иной раз сработает, а когда и мимо пройдёт, непорядка не приметив.
Мне стало страшно. Оказывается, в обществе людей и выров тоже можно пороть и шить. Точнее – нельзя, хотя иногда руки сами тянутся к игле, поправить и подлатать! Но – не для вышивальщиков эта работа. Шром затеял перемены. Шром да Ларна… Кланда они выпороли с канвы мира, и златоусого Шрона вшили в центр узора власти. Только узора-то ещё нет, один туманный замысел, неявленный! Шьют по намёткам выры, люди же пока молча глядят и не участвуют в деле. По крайней мере, здешние люди, столичные. Так мне увиделось. Прошлым они живут, плотно сидят в старой канве привычек и традиций.
– Идём, – запереживала кухарка, цепляя меня под руку. – Негоже стоять возле стражи. Ежели голова болит, лучше провожу я тебя домой… Ох, вот зачем я ара Хола послушала, доброму своему сердцу волю дала? Не к пользе ведь, не к пользе…
Мы выбрались за ворота и двинулись по красному кирпичу, уложенному весёлыми полукружьями – ровно, красиво. Улица чуть сузилась, дома встали плотнее. Людей прибавилось, шума и самой жизни тоже. За широко распахнутым окном трактира его ранние гости стучали кружками об стол: видимо, отмечали выгодную сделку. Мимо пробежал зеленщик с полной корзиной. Споткнулся, выругался и пропал. Я проводила его взглядом… и обмерла.
На углу двух шумных улиц, в бурливом водовороте людских потоков, неподвижно замер слепой старик. Прямо на пыльной кирпичной мостовой он сидел, закинув голову и пялясь в небо страшными бельмами. Перед бедолагой была брошена старая валяная шапка, на дне – я приметила, проходя мимо – несколько жалких медяков.
Я споткнулась точно там, где и зеленщик. Порылась в кошеле и наугад выудила арх, нагнулась, опустила к шапку. Бросать показалось неловко, будто я презираю слепого, будто и не человек он. Молча положить тоже как-то нескладно. Может, ему иная помощь нужна? Может, ему жить негде? Подумать страшно – один и совсем слепой… Пока я думала, как бы начать разговор, кухарка вцепилась в мой локоть, во всю силу дернула вперёд, прерывая мои размышления. Нищий остался позади, меня тащили, ругали сквозь зубы, обзывали едва слышно деревенщиной.
– Почему? Он же кушать хочет, ему помочь надо, совсем слепой…
– Получше твоего видит, – огрызнулась кухарка. – Нищий он, у таких своя жизнь. Думаешь, в красном городе, на торговой улице, любой может сесть и денежку просить? Ох, откуда такие наивные девки берутся? По виду взрослая, а ума меньше, чем у моей племяшки пятилетней…
– Из леса взялась, из самого дикого, откуда ещё, – обиженно шепнула я.
– Вот там бы и сидела, чего в город-то сунулась?
Оговорив меня в полный голос, кухарка окончательно взяла на себя выбор пути. Она всё сильнее досадовала на утреннюю сговорчивость, на обретенную некстати обузу в моем лице. Я молчала, виновато вздыхала и торопилась, как велела её рука, больно сжимающая локоть.
Сейчас я гораздо полнее осознавала причины, побудившие Ларну запретить посещение города. Мне казалось, что большой город лишь размером отличается от малого. Нет! Здесь люди иные. Вовсе иные… Доброты и внимания к окружающим в них мало. Каждый спешит, накрытый своими делами, как тяжелым грузом, из-под которого не видно ничего, никого… И мочи нет у горожанина распрямиться да осмотреться по сторонам.
Чудно мне: кругом толпа, а никто не здоровается! Нищему не подают… Это ведь не важно, почему он просит. И как место себе заполучил – тоже. Может, насквозь он гнилой гнилец, но ведь шапка-то пуста, неужели всем безразлично его несчастье? Я ещё раз оглянулась на горемыку, да так и охнула: слепец на миг опустил голову. О тоже проводил меня взглядом. Зрячим, столь острым – Ларне до него далеко!
Кухарка выругалась громче и дернула за руку зло, рывком. Я послушно потащилась за ней, более не оглядываясь по сторонам. Этот город – паутина, – стучала кровь в висках. Я муха, глупая и жирная. Нити липнут, я не могу сбросить их. Нити дрожат, дают сигнал здешнему пауку.
Город полон пауков, готовых поживиться наивными.
Мне вскорости стало казаться, что я иду неодетая, с непотребно распущенной косой – и золото в моём кошеле светится, видимое многим сквозь ткань передника. Нищий уж точно всё рассмотрел.
Что мне делать? Кого звать? Ким далеко, выры донимают его своими делами. Марница и того дальше, ей тошно от учёта дел шааров, от вранья их непрестанного. Хола нельзя в город пускать. Как и меня… и даже более моего! Он – выр…
Остаётся Ларна. Стыдно его звать. Не умею я – звать. И не обязан он слышать меня, кто я ему? Зато услышав, ох, как он надерёт мне уши… Улица резко свернула, я последний раз оглянулась. Нищего не было на прежнем месте. Я судорожно перебрала пальцами, более не раздумывая. Нитка сама легла в руку. Толстая нитка. Все та же жалость моя к Ларне. Знакомая, старая, даже чуток пообмятая, полинявшая… Вдвое сплетенная, надо же! Выходит, и ему жаль меня. Хотя с чего бы? Я живу хорошо, все меня берегут.
Нитка натянулась, зазвенела! Страх мой стал явным, совсем как страх шааров, живущих в белом городе. Страх убежал по нитке вдаль и не вернулся. Натяжение нитки не ослабло. Хол такому путеводному искусству быстро научился. У него сразу вышло и более сложное дело, плетение самоводной путевой нити, какие мне не давались до сего дня. Ким прав: я многое делаю только тогда, когда не в урок оно надобно, в жизнь.
– Да что же ты высматриваешь? – отчаялась кухарка. – Топай резвее! Вон торговый дом ниточный. Двигай вперед. Умаялась, что ли?
– Не устала, – коротко ответила я.
Мне снова чудился взгляд нищего. Теперь из ближней тёмной подворотни… Миновали благополучно. Я вскочила на порог торговой лавки, словно в ней спасение моё. Кухарка вошла следом, сразу поклонилась человеку за прилавком. Представила меня, как гостью знатного брэми, вхожего в закрытый город. Важно помолчала, не упоминая имя брэми: видно, вовсе она не глупа. Попросила помочь мне с нитками и до её возвращения без пригляда не оставлять.
Больно сунула локтем в бок. Я очнулась от задумчивости, вспомнила указания, настрого мне высказанные ещё в белом городе. Рука моя полезла в кошель, и стало понятно: потная эта рука, два серебряных арха сами к пальца прилипли. Их следовало отдать торговцу сразу – «за труды». Хотя он пока и не пытался трудиться.
Получив мзду, лавочник сразу переменился в лице, поклонился, украдкой глянув на монеты. От пересчета серебра лицо ещё подобрело, гнилец два раза пожелал нам с кухаркой здоровья, улыбку к губам приклеил. Перестал с презрением изучать мой передничек. И ленту старую, в косу вплетенную, более ничуть не замечал! Ларна не зря мне как-то сказал: уважение тоже товар. Многие его не заслуживают, а просто покупают… Сейчас я сама так поступила. Только тошно мне получать купленное, липкое оно и гнилое, нет в нём ни капли искренности. Ну и пусть. Мое дело нитки глядеть и время тянуть.
Кухарка ушла. Страх-то в душе не оседает, копится… Чужая я городу. И ещё мне вдруг сделалось неспокойно за Кима: каково тут ему? Он лесной житель, в столице леса нет, и радости Кимочке – тоже нет… Вот же распустиха, я себя жалела и не заметила, недоглядела беду, навалившуюся на братовы плечи. Выберусь из этой городской западни. Сразу с Кимом поговорю. Обязательно. А пока пригляжу нитки. Дело – оно отвлекает от страха.
Торговец повёл вдоль прилавка. Услужливо подал корзиночку для покупок: хитро сплетенную из расписного пергамента, бусинами и рисунком украшенную. Сразу цену вещице указал. Пять архов. Дорого, пожалуй… Ну и ладно. Нитки нам с Холом нужны. Продавец смешно их называл: не по цвету и не по красоте. По дороговизне. Здесь, на нижнем ярусе, нитки были медные и серебряные, так он разделил. Я медных охотно набрала, тепло труда в них ощущается. Эти нитки деревенские, мягкие они, вручную крученые. Краска не особо яркая, но цвета избраны верные, в дело годные. Серебряные нитки потоньше, поярче. Когда я набрала и их, пергаментная корзинка наполнилась. Торговец заулыбался ласковее. Сразу протянул вторую корзиночку, сам вызвался нести покупки. Мы пошли на верхний ярус по широкой дубовой лестнице. Мне стало смешно: как же, узнаю работу, тощий мастер-плотник эту лестницу сооружал! Один узор у него и здесь, на перилах – и там, на гробе для шаара.
Золотые нитки меня удивили. Не видывала ничего подобного! Тонки, как паутина и непривычно ярки. Крикливые они, надоедные. Я даже малость расстроилась. Зато в открытое окно влился гомон базарной площади. Подошла я и стала глядеть из-за занавеси. Отсюда, пожалуй, можно. Сверху ведь гляжу, спокойно и безопасно. Никто меня не затолкает локтями и не утащит силой в подворотню. Смешные мысли. Одно слово: деревенщина… Все ходят, белый день, суета, смех, бойкий торг – а я со страхами не могу расстаться. Если холодным умом подумать: ну кому я нужна? Отберут кошель – и всем бедам конец. Додумавшись до такого, я чуть успокоилась. Но площадь всё одно решила рассматривать сверху, из окна.
Торговец засуетился, устроил мои покупки на столике и убежал. Скоро вернулся с отваром трав и сладкой булочкой. Стул поставил, столик подвинул удобнее, к свету. Нравится – гляди в окошко, только и товар присматривай, вот он. Образцы прям под руку суёт… Кроме упомянутых золотых ниток, цена на такие указана в долях полновесного кархона, имелось немало интересного товара. Ракушки очищенные и лаком покрытые, каждая с двумя дырочками – на узор нашивать. Перламутра кусочки, все одной формы в каждой ячейке, цветные, блескучие. Камешки с дырочками, пряжки, бусины разные – медные, стеклянные, деревянные и серебряные. Вышивать с такими добавками в узоре я не пробовала. И выбирала их придирчиво, понемногу, но разных.
Базар за окном гудел, волновался. Я глядела и постепенно привыкала. Да, оказывается, людей бывает вон как много в одном месте! И, когда они вместе, они ничуть не подобны себе же – сидящим дома или по лесу шагающим. У таких душа раскрыта, как солнечник – она тянется к теплу и подвоха не боится. Здесь люди иные, словно их застал пасмурный день, и лепестки душ не расправились, остались сведены плотно, бутоном. Не рассмотреть узор сокровенного. Даже в глазах не светится он, колючесть там, подозрительность да корысть… Но разница общности людской от одного человека тем не исчерпывается.
По площади, словно ветер, гуляет единый настрой. То явится и задует в полную силу, делая голоса громче и гомон их яснее – то сойдёт на нет, распадётся группками отдельных мыслей и впечатлений. Засмеётся кто заразительно, от души – и вспыхнет малое солнышко, и радости вдруг прибудет всем вокруг. Скажет гнилец гадкое слово, сплетню выпустит – и ползет она, как змея в траве: след её видать, лица чернеют, тень на канву падает…
Площадь живет своей жизнью. Как, наверное, и порт. Теперь мне гораздо понятнее, что пытался мне объяснить Ким. У площади есть норов. Тихих да робких она высмеивает, наглых выслушивает, над неумехами посмеивается, чужому богатству завидует, примечая его издали. Не по душе мне такая площадь. Пожалуй, и получше бывают. Шить её мне не хочется, даже в урок. Надо, вернувшись домой, наново рассмотреть порт. Там работа идёт, должны там люди создавать иную общность, более достойную шитья.
– Вор! – зло закричали у дальних рядов. – Держи его, вор!
Тут я и ощутила сполна, как могут нитки людских мыслей в единый канат скручиваться. Площадь колыхнулась, притихла и вся, сотнями глаз, оглянулась на крик. Подалась в его сторону, насторожив уши и изготовив руки для ловли вора. Только сперва эта площадь осторожно прищурилась, убеждаясь: вор невелик собой и топора в руках – подобного любимому Ларной – не имеет. Иначе, я сразу это заподозрила, ловить злодея предложили бы городской охране. Особого мужества за сборищем столичных жителей я не заметила… Только азарт травли слабого и предвкушение победы над ним.
Я не рассмотрела вора. Люди смешались, толпа комком тел выросла там, в дальних рядах. Крик вскипел, растёкся по площади – все шумели разом, понять я не могла ничего. Ни словечка… Вдруг так же внезапно ком тел распался, и тощий пацан в возрасте Малька оказался виден отчётливо. Он сидел, сгорбившись, прижимал к груди добытую с лотка булку – даже бросить не догадался… Воришка зыркнул по сторонам и торопливо, жадно, вцепился зубами в добычу. Сглотнул крупный кусок, хотя хлеб сухой и наверняка застревает в горле.
Мне стало страшно: нитки узора общего настроения наливались темнотой и багрянцем. Город не любил нищих. Он охотно мстил им за их неприглядность. Мне захотелось поскорее сбежать вниз, прорваться через толпу и оплатить злосчастную булку румяной торговке, ругающейся победно и весьма грязно. С лихвой оплатить, пока не сделалось окончательно худо. Я людские нитки прежде не видела так ясно, не понимала, как они страшны, как подобны тому спруту – чуду вышитому, что пять веков на выров охотилось. Я и не догадывалась, как велик и опасен общий настрой толпы…
Я качнулась бежать от окна, но тут же на слабых ногах села на свой стул. Поздно. Кто первый бросил камень, я не рассмотрела. И откуда он вывернул тот камень на ухоженной площади, где и камней-то нет… Парнишка взвизгнул, сжался ещё плотнее. Толпа зашумела и страшно захохотала, становясь всё более подобной чудищу. Люди на площади не думали и не глядели своими глазами. Не видели крови на руке мальчика и не сочувствовали его голоду. Точнее, тех немногих, кто охнул и попробовал вступиться, сразу перекричали, утопили в общем настрое. Всем было – вот ведь страшно-то – весело. Им нравилось вместе творить гнусное дело и вместе полагать его правым и честным… Мальчишка метнулся – но его снова поймали и кинули в очищенный от людей круг красной кирпичной мостовой. Я закрыла лицо руками… и услышала странную, ничуть не похожую на ожидания, тишину. Даже сквозь веки я разобрала, как выцветает багрянец в узоре дикой площадной забавы, как его заменяет серо-зеленая гниль общего страха. Площадь боялась так же люто и едино, как только что – презирала.
Я осторожно глянула через щель меж пальцами ладони, улыбнулась и убрала руки от лица. Мне стало хорошо. Я наконец-то поняла, что мой поясок с котятами – работает, да еще как! Любо-дорого глянуть.
Взор толпы сосредоточился на неширокой улице, которая набережной поднималась вдоль одного их главных каналов, – мне так кухарка про неё пояснила – от самого порта. Вот как раз по середине набережной ехал Ларна. Не спешил, двигался в темпе ровного страфьего шага. Глядел поверх голов и щурился, бровь гнул и подбрасывал на левой ладони тяжёлый нож. Один ехал, без охраны, без крика да суеты.
Стёртый медный полуарх – вот цена моим вышивкам, если примерять их полезность на городскую толпу… Моя работа действует медленно. Она хоть и силу имеет немалую, но такую, которая здесь не обещает спасения. Глупой и злой площади требуется иной вышивальщик: Ларна! Канва людских намерений ничуть не подобна природной… Не золотая игла и доброта дают надёжный указ растерявшей ум толпе, – а только топор. Или нож боевой, тускло взблескивающий при повороте лезвия.
Что может сотворить один боец с прорвой народа? Ничего, тут требуется сила иная, сотня стражи, не менее. Или имя, знакомое каждому. Громкое имя – оно вроде работы вышивальщицы, в каждую голову вшито. Оно делает Ларну непобедимым для толпы.
Для общего настороженного взора Ларна – великан! На него все глядят снизу, словно он макушкой до солнышка дотягивается, и страф его тоже ужасен – непомерно. Люди не в силах оторвать взглядов от всадника. Сами выхватили его фигуру из сутолоки, сами единым шепотом выдохнули имя – и уже клонят головы, мнут шапки, никнут повинными головами. Опасливо слушают рухнувшую на площадь тишину, вздрагивая от каждого удара лап страфа.
– С чем он подошел к тебе? – Ларна приблизился вплотную и спросил у торговки, чуть наклоняясь с седла. – Сразу потянул булку или что спросил сперва?
– Сказывал, из порта. Наняться на работу хотел, – не рискнула соврать женщина.
Ларна бросил мелкую медь на лоток, страф сделал еще два шага и встал возле пацана. Серые глаза выродера будто потрошили толпу. Люд корчился, как от боли, и ниже клонил головы. Тихо сделалось до оторопи. Ар-клари стольного города Усени молчал, пытая площадь беззвучием.
– Великая победа красного города над гнилым, – наконец насмешливо молвил он. – Бывшему рабу вы не пожелали дать работу, он чужой, таких не надобно вам. Вы же люди… свободные. Его пусть кормят выры. А вы кидайте камнями, чтобы не зарился на вашу сытость. Так получается? Сам вижу, именно так. Между тем, взятое в крайней нужде по новому закону рассматривается отдельно, не вполне даже как кража. Самосуд по тому же закону карается страшно… и вам это ведомо. Ты, ты и ты, вы двое и ты ещё, пожалуй. Сегодня до заката сами подойдёте к страже. Внесете оговоренные деньги за смуту, затеянную вами. Будете снова замечены в подобном деле, в городе и не появляйтесь. Под топор уложу. – Ларна ещё раз глянул на людей и нагнулся ниже, к воришке. – Ты глух на оба уха? Что было сказано освобожденным в порту? Подходить к старостам слобод по поводу работы. Если откажут три раза кряду, жаловаться мне или иному кому из охраны. К кому ходил? Отказывали тебе трижды?
Парнишка коротко, едва заметно, кивнул. Из задних рядов его уже жалели, со всхлипами выражали сочувствие. Почему-то в мудрости слов Ларны и правоте его деяний город не сомневался. Особенно когда сам Ларна находился рядом, на расстоянии броска ножа. Сероглазый завершил выслушивание перечня слобод, отказавших пацану. Усмехнулся заинтересованно.
– Хлебопёки кланялись сегодня шаару в ноги, как я слышал. Работников требовали себе. Оказывается, врали. И медники врали. Про плотников, которые с утра хоронят меня на всех углах, я помолчу.
Люди начали подхихикивать и переговариваться живее: история с заказом гробов, видимо, и правда оказалась сладка для сплетников… Воришка встал на ноги и, озираясь, торопливо дожевывал булку. Крупный мужик пробивался через толпу и басил на всю площадь, защищая интересы хлебопёков, которым работники нужны, но исключительно крепкие. Его слушали, выкрикивали ехидные вопросы и советовали почаще кормить помощников. Ларна подцепил воришку за шиворот и усадил на страфа впереди себя. Что-то вполголоса уточнил. Мальчик кивнул, глотая последний кусок сухой булки. Сжал в ладони нечто, переданное Ларной, спрыгнул на мостовую и побежал без оглядки с площади по той самой улице, ведущей к порту, вдоль канала. Я отвернулась от окна. На душе стало тепло: ещё одного котенка сероглазый пристроил к миске…
Створки ставней резко хлопнули, в комнате сгустился зябкий полумрак. Шум площади разом отдалился. Я с новой опаской изучила человека, занимающего второй стул.
Пока я глазела на узоры толпы, оказывается, принесли стул! Образцы камней и ракушек убрали. Вместо них на опустевший стол без шума установили большую кружку с пивом, поместили рядом тарелку с солёными рыбьими спинками. Когда всё было готово, пришёл незамеченным и занял своё место тот, кто заказал питье… И вот – деревенщика Тинка наконец его заметила, чего он ждал весьма терпеливо, надо признать! Тощий, весь извёрнутый, кривоплечий человечишка с мутноватыми глазами старался сидеть в кресле ровно. Смотрелся он не молодым и не старым, цветом волос имел невнятный, словно их засыпало пылью. Одет вроде небогато, но без заплат… Как явился, когда – так это вопрос не для меня, ротозейки. Остается лишь охать от неприятного удивления и хлопать глазами.
– Брэми, я к вам по делу, не надо беспокоиться, – заверил линялый человек. – Я давно желаю побеседовать с вами, однако вас усердно прячут. Давайте уточним: вы Тингали, настоящая и единственная в своём роде вышивальщица. Я уже пробовал по моему делу испросить помощи трех иных, заявивших за собой то же ремесло. Но быстро установил: они фальшивые.
– Как же вы установили? – насторожилась я.
– Если я не вижу левым глазом и едва слышу правым ухом, не надо полагать, что я соображаю медленнее и хуже иных, – неприятно усмехнулся человек. – Это вредное заблуждение… для здоровья и жизни.
Он сразу не понравился мне. Ну зачем угрожать и выказывать себя важным? Хотя… не все рождаются Ларнами. На сероглазого только глянь – уже пробирает страх. С неприглядной и даже жалкой внешностью всё иначе: приходится словами выжимать испуг из собеседника. Я глянула на незнакомца внимательнее, ругая себя за то, за что Кимом изругана уже раз сто. Брат любит мне Малька в пример ставить: вот, гляди, он людей не делит на милых и немилых… Сразу глубже всматривается.
Да как ни гляди: гниловатый человек. Извёрнутый. Страх ему нужен в собеседнике, он так себя уважает – через чужой страх. Но сюда он пришёл с важным делом, действительно так. Сам пришёл, если разобраться. Меня никуда не поволок и пугает скорее по привычке, не умеет он иначе.
– Я Тингали. Вы поскорее излагайте дело, а то Ларна вот-вот придёт, – предупредила я.
– Через ставни он не видит, – усмехнулся человек. Чуть помолчал и вздохнул. – Брэми, я хочу заказать вышивку. Не буду обманывать вас: моё место в городе особое, оно всегда в тени, но при том вовсе не худшее, на жизнь жаловаться нет причин. Скажем так, я староста своей слободы. Если бы того воришку побили сильнее, он прилип бы к нам рано или поздно. Уродам и калекам подают охотнее, чем здоровым. У нас выстроен свой порядок, мы не выделяем золота ворам и не откупаемся от охраны, мы честно платим десятину напрямую шаару. Я вполне деловитый и разумный староста.
– В чем же ваше дело?
– Оно особого свойства, – щека гостя стала отчётливо подёргиваться, выдавая волнение. Он нахмурился, сухими пальцами помассировал сероватую кожу лица. – Как я сказал, на жизнь не жалуюсь. Все, что нам требуется, мы умеем получать без вышивок. Это личная просьба. Потому я и не могу допустить обмана. Я редко обращаюсь с личными просьбами. Ещё реже говорю с посторонними о себе. – Его щека снова дернулась. – Я знаю, кто сделал меня таким. Уродам лучше подают… Прежний староста заказывал ворам кражу детей. Его ближние калечили добытых. Но это в прошлом и это уже оплачено.
Человек снова потёр щеку и хлебнул пива. Чуть помолчал, нахмурился. Не смог сразу найти нужное слово и стал рассматривать тарелки с закуской. Прихватил солёную спинку селёдки своими тонкими пальцами с излишне крупными суставами. Отправил пищу в рот и стал неторопливо жевать. Лицо его при этом искажалось сложно, неприятно. Нитка жалости у меня в душе натягивалась всё туже и порождала боль. Она такая, легко попадает под руку… Я её немного опасаюсь в последнее время. Невесть чего ведь нашить могу от жалости – вон, хоть со Шромом история, с поясом его глубинным и заветным желанием. Этот человек не таков, чтобы сразу на него тратить нитки. Гнилой он, злости внутри много накоплено. Темноты в его мыслях ещё больше. Он – душа, которая ни разу не осмелилась полностью раскрыть лепестки своего цветка, радуясь теплу. Город его таким выкроил…
– У меня есть дом. Женщина, которая меня ждёт, вполне искренне ко мне привязана, – сообщил мне между тем гость с напускным спокойствием. Гордо кивнул и хлебнул ещё пива, выравнивая голос и добавляя в него малую долю угрозы. – Не советую смеяться, слушая далее… Мне порой снится сон. Как будто меня зовут и ждут. Это сильно выматывает. Я хочу заказать вышивку, брэми. Возьмите ниток каких угодно и заштопайте мое прошлое. То, до кражи меня из дома, детское. Я и так не помню семью, где родился. Я не хочу, чтобы меня звали и беспокоили. Вот вся просьба. Цена значения не имеет, наша слобода вполне состоятельна, как и я лично.
Дверь приоткрылась и в комнату протиснулся торговец, получивший от меня две монеты «за труды». Шёл он на цыпочках и улыбался белыми губами натужно, но старательно. Дверь распахнулась шире, пропуская Ларну.
Сероглазый выродер подмигнул мне.
– Как верить людям? Торговлей зарабатывает на жизнь, а памяти нет… Не видел, говорит, брэми, здесь вашей знакомой. Какие, говорит, брэми, ореховые глаза?
Ларна развернул торговца и бодро качнул в сторону лестницы. Все мы выслушали визг и дробный грохот пересчета ступеней. Ларна выглянул вслед воплям, рявкнул в полный голос:
– Увидишь стул, рыбье мясо, неси. Не увидишь – я скормлю страфу твои глаза! На кой слепому и беспамятному глаза?
Ларна обернулся, кивнул моему собеседнику и прищурился. Чуть выгнул бровь.
– Пиво где брал? Небось, подольше моего в городе, знаешь надёжные места… и доставуч не в меру. Твои тросны находят меня всюду. Подай ему вышивальщицу – и всё. По иным же вопросам посидеть и мирно побеседовать нам не досуг, важные мы…
– Всё же Ларна видит сквозь ставни, – поморщился гость. Чуть наклонил голову и сказал, не повышая тона: – Принесите пива для брэми. И стул тоже. Мне думается, торговец не вернётся. Его теперь можно сажать на главной площади. Или падучая хватит, или перелом красивый случится… Всяко будет смотреться он жалобно и доходно.
– Тросн намалюй: «Его изуродовал выродёр Ларна», – посоветовал сероглазый, принимая у явившегося через вторую дверь человека стул и пиво. – Скрип, я же сказал, к моим домашним не лезь. Не станет она шить тебе, не тот ты человек. Мечты у тебя гнилые. Это я не в обиду, лишь в пояснение.
С тем Ларна сел, нагло намотал мою косу себе на ладонь и хлебнул пива. Вмиг сделалось мне уютно и – вот странно – ничуть не обидно. Ну и пусть намотал. Зато никто более не сядет рядом и не полезет с глупостями: стращать, гадости говорить. Тащить в подворотню и шитьё с меня требовать. Цена его, видите ли, не интересует!
Названный Скрипом нехотя пожал плечами и допил свое пиво. Снова его щека дёрнулась. И человек не стал ничего с этим делать. Прикрыл глаза, откинулся на спинку стула.
– Это личная просьба. Я хочу всего лишь узнать ответ.
– Вы не понимаете, – осторожно уточнила я, чувствуя, как сел голос. – За мои вышивки вы платите не мне. За них вы с кем-то иным рассчитываетесь. Может, с Пряхой. А может, с Ткущей… Я не ведаю. И цену не могу указать заранее. Шрома я люблю всей душой, а что натворила? Канул он с поясом моим в бездну и жив ли…
Я замолчала и жалобно глянула на Ларну. Он усмехнулся в длинные усы, заплетенные косичками. Дернул правый ус, на котором подвеска золотая с иглами – знак того, что он меня бережёт всегда и от любой беды.
– Скрип, всё правда. Я получил от Тинки в подарок пояс. И что? Всяк день валятся на мою шею бездомные котята. Пристраиваю-обихаживаю, и конца им нет… желание же пока не сбылось, хотя что-то меняется.
– Нельзя заштопать прошлое? – тихо и огорченно уточнил странный проситель.
Его глаза, мутные и мелкие, глянули из-под низко висящих сосборенных век с настоящим отчаянием. Теперь я разобрала на лице усталость, а бессонницу домыслила без ошибки. Видимо, ночной непокой донимал всерьез… или это что иное, похуже сна? Оно уже меняло Скрипа и без моих вышивок. Если душа у человека жива, она рано или поздно захочет раскрыться, узнать тепло. Иногда это очень больно даётся… Скрип, отчасти того не сознавая, норовил остаться прежним, избавиться от боли перемен, упростить себе жизнь…
– Вы не того хотите на самом деле, – упрямо выдохнула я. – Фальшивое желание высказали. Не в обман… То есть вы себя обманываете вернее, чем меня. Я знаю, выбрать нитку попробовала, в ней нет веса. Невозможно сделать вышивку, если она не нужна и во вред вам же. Но я могу дать иное. Только отказаться будет невозможно, когда начну делать.
– Что именно? – он уточнил нехотя, с трудом смирившись с утратой выстраданной, пусть и ненастоящей, мечты.
– Нитку. Она висит, вот… Ваша нитка, из вашего житья-бытья сильно уже вытянулась да выбилась. Она и болит, и норовит цепляться за всё подряд. Тянется куда-то. Не исключаю, что вас и правда зовут. Или прежде ждали да искали, но уже поздно… Не знаю я. Но могу смотать в клубок тянущееся к вам оттуда, извне, и вам же отдать. Слышали сказочку про клубки путеводные?
Он поморщился и кивнул. Глянул на Ларну. Молча принял новую кружку пива из рук человека, подкравшегося со спины. Смахнул без жалости на пол последние лотки с нитками со столика, очистил место для подноса и кубка. Прибыли пирожки, сладкие сухие фрукты и питье. Кубок, кстати, подвинули мне. Приятно: и я с угощением. И не пиво получила их нелепое, а вкусный сок.
– То есть заштопать нельзя никак, – ещё раз уточнил Скрип. Глянул на Ларну, вздохнул и сменил тон, лицо исказилось в подобии улыбки. – Прямо уж я доставучий… сам не лучше. Зачем искал? Шаару я плачу сполна. С иными старостами живу в ладу, и с явными для города, и с неявными.
– Сменится шаар – снова у вас, у неявных, как ты это обозначил, вспыхнет война. Затянется на полгода, не менее, – отозвался Ларна. – Сменится он через неделю, не позже того. Ты бы новому-то подсунул тросн да и перебрался в явные. Выры сказали: если людям привычно жить подаянием, пусть узаконят себя и платят в городскую казну. Пришли человека к Киму. Надо обговорить всё толком. Обязанности ваши, например. А то сунется к вам кто, место попросит в городе, ему откажут, куда идти далее? Опять же, все твои… слободчане живут без документа. Сам ты покупал пергамент у воров. И себе, и жене. Разве не так?
Скрип нехотя кивнул. Глянул на меня с каким-то даже сочувствием. Еще бы! Сижу, не шевелюсь, их разговор слушаю и колючки мне в шею впиваются. Так всё сложно, напряженно. Непонятно…
– Я обдумал твои слова, вышивальщица. Клубок можно просто спрятать? Засунуть подальше, под замок… В речку бросить, наконец, и забыть о нем.
– Вряд ли. Он тянуть будет хуже каната. Изведёт.
– Делать нечего, мотай, – кивнул этот странный староста, и щека его снова дернулась. – Видно, верна присказка: от прошлого не убежать. Только зачем оно мне? И зачем я таков вот – кому-то иному, нездешнему… Да и лет минуло многовато.
Он осёкся, смолк. Я осторожно подцепила кончик нитки. Жёсткая она оказалась, толстая и немного колючая. Вроде шерстяной, что ли? Не знаю. Цвет в нитке смутный, словно весь он в тон с самими Скрипом: вылинялый, стёртый. Осталась лишь серость всех оттенков. Наматывалась ниточка споро, в охотку. Клубок получился довольно крупный. Я рассмотрела его, покосилась на Ларну и Скрипа – оба тоже видят. С моими нитками всегда так. До поры их вроде и нет, а как выявятся – уже не спрячешь…
– Левую ладонь раскрой, – попросила я у своего заказчика.
Он послушно протянул руку. Принял вес клубка, под которым чуть дрогнула ладонь. Нахмурился: сжал кулак, раскрыл снова – пусто… Усмехнулся.
– По крайней мере, не фальшивый, тут и не придраться. Он тянет, ты права. Сильно тянет. Как им пользоваться по назначению?
– Как в сказках описано, в точности, – заверила я. – Кинуть и идти следом. Ну – плыть, ехать на страфе… не важно. Для отдыха поймать, он снова пропадёт в руке. Потом опять кинуть и идти. Приведет, до ниточки размотается там, куда указывает.
Скрип кивнул, сквозь зубы пробормотал нечто вроде спасибо. Покосился на Ларну.
– Шаар, значит, скоро поменяется… Я подумаю. Дороговато в оплате встанет мне клубок, как оно видится уже теперь. Захочу узаконить слободу – лишусь места старосты. Это яснее ясного. И золота немало отдам, закрывая счета с ворами. Они, кстати, не искали твою Тингали?
Ларна оскалился и промолчал. По моей спине сползла тяжеленная капля пота. Искали… Ох, сходила дуреха по городу за нитками. Никому она не нужна, как же! Сама-то не нужна, а вот шитьё – в нем уже многие рассмотрели пользу, издали ничуть не приметив вреда. Скрип усмехнулся и подмигнул мне, подражая Ларне. Получилось криво и очень страшно: всё его лицо смялось, исказилось.
– Не будут более искать, полагаю. Я им подробно расскажу о цене. Им от такой цены вся польза в деле станет не нужна. Как, впрочем, и многим иным. Страшные у тебя нитки, вышивальщица. И узоры они создают опасные. Пусть Ларна хранит их под замком. Пряхе платить – это чересчур жутко. Понял бы прежде, не взял бы клубка. Хотя… – он усмехнулся. – Такого меня – с клубком – даже из мести поостерегутся убивать. Не захотят переводить на себя расплату с Пряхой. Прощай, Тингали. Очень постараюсь не попадаться более на твоем пути и просьб не высказывать.
Он сгорбился, нашаривая пристроенный к стулу, до поры незаметный костыль – красивый, резной. С серебряным узором. Скрип ловко опёрся и встал. Зашагал к дальней двери, припадая на левую ногу. Я уткнулась носом в плечо Ларны и всхлипнула от запоздалого страха. Само собой, он привычно это обозначил насмешкой:
– Что, опять поджимаешь хвост после драки и в кусты налаживаешься? Пораньше не могла испугаться? Ещё дома, ну хотя бы у ворот города. Тогда бы следовало сообразить, а сообразив, назад повернуть?
– Прости. Глупая я. Непутёвая. Можешь ругать и лупить. Виновата кругом.
Он расхохотался, азартно скаля свои волчьи зубы. Ему ничуть не было интересно ругать и лупить, облегчая мое самоедство. Так и пояснил: сама себя ругай, сама казни. Иного не будет… Злодей! В косу как вцепился, так и не подумал освободить. Нитки, выбранные мною, комком свалил в мешок заплечный. Туда же ссыпал все бусины и ракушки, без разбора – прямо из ячеек. Потащил за косу по лестнице в нижний зал, там ещё набрал ниток по своему разумению. Хищно прищурился на торговца, затравленно жмущегося к углу. Лавочник щербато улыбнулся от ужаса, продолжая прятать за ладонью синяк в пол-лица.
– За счёт заведения, – пискнул ушибленный гнилец, теряя голос.
– Ума нет у того, кто дарит нитки вышивальщице, – укорил его Ларна и звонко отсчитал золотые из горсти на прилавок. – Я уже пропал, мне не выбраться вовек. Нитки подарил, пояс получил и жду исполнения желания, спасая котят. Но ты-то, немочь трусливая? Ты ж удавишься с того подарка в первый день, тьфу… Живи, копти небушко и нам не дави на совесть.
Ларна прихватил еще пук ниток, усмотрев мой интерес к ним. Сунул в мешок. Меня толкнул к двери, и мы вывалились на улицу. Ох, как же мне стало жарко и жутко! Я мигом сообразила: сплетня с гробами утратила интерес для города.
Голодная, вечно ждущая зрелищ рыночная толпа оглянулась на Ларну, которого она всюду замечает. Толпа впилась в меня осиным роем колючих взглядов. И знать не желаю, что они подумали! И слышать не желаю. Сгорю на месте, угольки Ларна сгребёт в куль и оттащит в особняк ара Жафа…
– Косу резать станет, – твердо и громко заверила баба, собирая с прилавка нераспроданные остатки вялой зелени. – Видно, поделом.
– Не-е, оттащит подалее и там стребует плату, – зычно отозвалась другая.
– А то и сам приплатит, – добавили издали…
– Он человек сурьезный, просто зарубит, и все дела, – строго изрек дородный возница, придерживая пару рыжих жирных страфов. – Вона гля, в мешке ейном полно гадости. Надут весь. Небось, людей травила?
– Отпусти косу, – взмолилась я, уткнувшись носом в чешуйчатые ноги вороного страфа Ларны.
– Чтобы ты снова пошла смотреть город, раз людям теперь дана полная свобода? – усмехнулся злодей в усы. – Тинка, терпи. Умнее будешь наперёд. Ты хоть знаешь, что воры усвоили из сказок? Вышить, мол, можно шапку-невидимку, а кошели бывают бездонные. И ковры летающие.
– Так это же – в сказках, – всхлипнула я, усердно прячась за страфом и охотно шагая к белому городу, где нет толпы.
– Как тебе сказать… – весело прищурился злодей. – Я пообещал им с помощью топора без всяких там ниток и иголок вмиг намахать голов-невидимок. При первом подозрении, что сунутся к тебе с заказом или хоть попробуют завести беседу. После подумал, Кима отвлек от забот, мне сделалось интересно: можно ли сшить летающий ковер? Он сказал сразу и громко: нет! Из чего я сделал вывод…
Ларна хитро изогнул бровь. Я охнула и подавилась возражениями. Неужто можно? Настоящую сказку соорудить, какие на юге в древности были в ходу, мне Ким так и говорил, много раз. Летали ковры над безводной пустыней, быстро и удобно. Товар возили и воду доставляли в эти… города, которые среди песка. Название их не помню.
Нет, глупости! Не сшить мне вовек такого ковра. Я покосилась на Ларну с новым подозрением. А говорил ли Ким «нет»? Может, меня совсем уж бессовестно обманывают?
– Не бывает летучих ковров!
– Я всё выведал, – усмехнулся Ларна. – Бывают. Только для воров они неполезны. Ковры летали над горячим песком, в них было зашито призвание нужного ветра. Но позвать его можно только там, где он и должен явиться. Понимаешь? Опять же, крой у ковра сложный. Не вполне он и ковер. Кроя никто уже не помнит. Да и юга более нет, Тинка. Там, за проливом, узкая полоска годной для жизни земли, владения ар-Рагов. Их злоязыкие соседи именуют красными вырами. Жара юга так велика, что вода чуть ни вскипает, а панцирь может, мол, обвариться.
– Я видела их хранителя. Ничуть не красный.
– Он перелинял два года назад, – упрямо отозвался Ларна. – Прежде был краснее красного.
– Ну почему ты со мной споришь? Я ведь права!
– Потому что больше не с кем, – покаянно вздохнул он, отпустил косу и бережно приобнял за плечо. – Тинка, больше никто не спорит со мной так славно и весело. Раньше Малёк пищал и шумел. Но теперь он остепенился, заделался в помощники и звонко кричит «да, капитан» и «вы правы, капитан». Последнюю радость украл у меня. Как он хорошо спорил, как упрямо перечил мне… Теперь тошно взойти и на борт галеры. Он кланяется мне, представляешь?
Мне снова стало до слез жалко этого широкоплечего выродёра саженного роста… Кажется, ему доставляет удовольствие глядеть, как я страдаю и жалею. Наверное, это тоже более никому не приходит в голову: жалеть Ларну. Он силён, страшен и всегда прав… Он без устали раздает оплеухи и поигрывает топором, он перезнакомился в городе с таким отребьем, какое днем и не увидеть на улицах. Его уже и воры опасливо уважают, и нищие величают брэми. Только радости для него в той опаске нет. Ларна, я это точно знаю, полюбил Шрома, как брата. Потому что они и были с огромным выром – братья. Настоящие, по широте души, по преданности морю, по доброте своей мужской, жёсткой. И погружение Шрома в бездну Ларна перенес тяжело. Я теперь рассмотрела: у него складочка на лбу глубже залегла и в глазах копится тоска долгая, неотвязная. Висит дождевым облаком – зимним, тяжелим…
Мы миновали ворота белого города и зашагали по его мостовой, розоватой в ранних сумерках. Я вспомнила про кухарку и всполошилась. Ларна усмехнулся, меня от страфа отстранил и к себе поближе подтянул, под руку. В усы буркнул: он уже отправил кухонную девку домой, встретил на площади у самой ниточной лавки и отпустил, предварительно отругав… Помолчал и предложил мне вовсе уж неожиданное. И не просто так предложил! Остановился на повороте улицы, где два канала сходятся и надо перейти через красивый мост над водой. Пропустил усы через кулак, хмурясь и прикидывая нечто важное. Кивнул своим мыслям, даже слегка улыбнулся.
– Я не показал тебе город, хоть и обещался. Давай прогуляемся завтра? Возьмём для удобства страфа Марницы, Клык знает тебя, он обучен охране… Покатаемся на двух вороных. Гнилой город рассмотрим. Там каналы все в чистке, стройка огромная. Убогие хибары снесены, новые дома заселяются. Народ смешной. С такими большими глазами ходят люди, что, пожалуй, и на ночь их не закрывают. Все улыбаются, весёлые.
– Почему?
– Так даром отдают дома взамен старых! Точнее, в оплату работ по чистке каналов. Что одно и то же, толковой работы-то в гнилом городе уже давно не было ни для кого. Сейчас там выделилось семь слободок. Все они избрали старост, и все такие важные, новое имя своему городу выдумывают. Не хотят зваться гнилыми. У берега обосновались выры из безродных. Им тоже рады, зовут соседями, а не гнильцами… что для людей необычно.
Ларна чуть нахмурился и указал рукой туда, где находится новая вырья слобода. Потом повел ладонью, обозначая берег и начало порта. Нарисовал в три движения свою галеру, занимающую почётное место у причала для боевых кораблей.
Все невидимые отсюда и интересные места располагались далеко, и указывал Ларна на самом деле на светлую стену, расположенную на другом берегу более широкого из двух каналов. Старая кладка потрескалась и местами от воды камень слоился. Но стена высока и широка: вот по её гребню процокал лапами дозорный выр, приветственно качнул нам клешнями и скрылся за углом. Ларна махнул рукой в ответ… и резко подался вперёд. Я испуганно зажмурилась на мгновенье. Не решилась поверить, что слышала именно хлёсткий двойной щелчок спуска взводных крюков игломёта. И что вижу теперь, шагнув в сторону, две иглы, торчащие из спины Ларны.
Зато страф ни в чем не усомнился, взвился в прыжке над узким каналом, прянул в сторону, запросто уходя от третьей иглы. Обрушился всем своим весом за довольно высокую, в полторы сажени, стену ближнего особняка знати. Нечто сочно и страшно треснуло, страф победно заклокотал.
Со стены напротив – той, на которой Ларна рисовал порт – упал в воду дозорный выр и метнулся через канал туда же, где вороной страф нашёл врага. Я наконец-то выдохнула «ох», и вцепилась в Ларну, помогая ему сесть. Запоздало удивилась: почему этот выродёр ещё держится на ногах? Иглы, вроде, точно под левую лопатку вошли… или так мне, дурехе, от страха кажется?
Ларна сел на высокий край каменной набережной, улыбнулся мне ободряюще и обнял, усадил к себе на колени.
– Так спокойнее, – пояснил он, ничуть не думая умирать. – В тебя не попадут.
– Я слышала сплетню еще в Тагриме, – подозрительно прищурилась я, клацая зубами и вздрагивая всем телом, цепляясь за его плечо. – Что у тебя два сердца. И яды тебя не берут.
– Яды, – задумчиво повторил Ларна и порылся в поясном кошеле. – Тинка, дай иглу, хоть одну. Дёргай без опаски, это не больно. А сердце у меня одно… Я это точно знаю и не высовываюсь в город ни единого дня без малой кольчужки. Знаешь, не уважаю геройства.
– И часто тебя так? – охнула я, выдергивая иглы и передавая Ларне, жалостливо глядя его по больной спине.
– Последнее время редко, – отозвался он, рассматривая иглы, принюхиваясь к наконечникам. – Чисто. Видишь, какое дело: они рассчитывали не на иглы. На страфа понадеялись. Обычно самоуверенные седоки пристегивают к поясу повод, даже разбогатев и прикупив вороного. Рыжих-то страфов можно удержать, они не так норовисты. Если бы я поступил, как они думали – пристегнул, а не заткнул свободно за ремень – рывок птицы, бросившейся мстить обидчику хозяина, скинул бы меня в канал… Прямиком туда.
Ларна указал на решётку, перегораживающую узкий канал. Созданы такие для отслеживания подводного передвижения выров в столице. Миновать преграду – их в Усени немало – можно лишь по берегу, покинув глубину. Решётка почти скрыта в бурливой мутной воде, имеет надёжные прутья, упирается в самое дно. И располагается как раз за спиной Ларны, точно в том месте, где через канал метнулся вороной. Я долго смотрела на острые верхушки узорных кованых прутьев, и страх накрывал меня с головой, тянул всё глубже. В конце концов я всхлипнула и крепче вцепилась в плечо Ларны.
– Прости, виноват, напугал тебя, – покаянно вздохнул он. – Обманщик я, чего ещё ждать от выродёра? Так устроен: взгляды всегда ощущаю, когда мне целятся в спину. От поворота эти нехорошие люди выцеливали нас. Я сперва забрал тебя под руку, чтобы не попали. Потом сам присмотрел удобное место, где стоит меня пристрелить.
– А если бы в голову? – ужаснулась я, шмыгая носом всё чаще, ощущая себя ужасно жалкой и маленькой.
– Нет, не попасть в висок из такого положения, – качнул головой Ларна. – Они бы, пожалуй, и не сунулись, сняли на сегодня засаду, потому что рядом был выр-страж. Но я так заманчиво подставился: они уже видела, как страф нанизал своего беспечного владельца на копья… и сдох рядом. Не плачь. Не судьба мне умереть от игломета: ещё не все котята по мискам распределены.
– Так никогда тебе их всех не спасти… – начала я, шмыгая носом.
Он, злодей, прищурился и весело кивнул. Потом вроде посерьезнел, крепче обнял за плечи, чуть покачивая и успокаивая. Шепнул в самое ухо:
– Этого опасаюсь ужас как! Всех не пристроить. Вдруг мне теперь и смерти нет? Ох, Тинка, странные ты пояса шьешь! На той неделе два раза так нелепо промахнулись в меня – били-то в упор! Я уверовал: спасенные котята засчитываются мне. За каждого дают одну жизнь. За сегодняшнего вот – рассчитались сразу. Не плачь, обошлось. Не поджимай хвост. Всё равно мы поедем завтра смотреть город. Я давно заказал тебе кольчужку. Утром аккурат доставили. Первая пьянка свободных дураков в столице заканчивается, Тингали. Люди привыкают к закону. Ещё неделя, ну две от силы – и город примет новое. Собственно, как только спихнём и заменим шаара.
Он встал, повернулся к каналу и свистнул страфа. А я так и осталась сидеть на его руках, чувствуя себя неправой и не желая ничего менять. Он – ранен, но держит меня, потому мои ноги стоять не хотят, подламываются… Куда удобнее быть смелой, чувствуя себя бессовестной, но пригревшейся. Под защитой. Возле самого уха, под тонкой кольчужкой, ровно бьётся сердце. Единственное оно у Ларны, вопреки слухам… Даже жаль. Эта сплетня мне нравилась.
– Платок тебе вышью шейный, – пообещала я. – Я умею такие делать: он будет глаза отводить, и никто уж точно не попадет в глупую твою голову. Ты почему без охраны ходишь, ар-клари? Тебя ведь тоже, оказывается, надо беречь…
– Надёжный ты человек, Тингали, – рассмеялся Ларна. – Другая бы сказала: сиди дома, раз в тебя стреляют. Но ты выискала правильные слова. Меня защищать надо умеючи. Шей свой платок, буду рад. Я люблю подарки.
Страф взвился из незримого для нас парка и победно встопорщил крылья, заняв место на высокой ограде. Гордо прошелся вправо-влево, почистил клюв и закинул голову, щёлкая когтями и топоча лапами… Нет сомнений: извел врагов, допрашивать некого. Возле страфа из темноты парка выбрался выр-страж. Перевалился, плеснул водой аж до нас, пересёк канал и оказался рядом. Мокрый, встревоженный: вон как усы топорщит, глаза на стеблях вытянул и обшаривает окрестности, оба глаза по-разному бегают, так только выры могут глядеть.
– Брэми, их было двое и оба мертвы, – сообщил страж. – Два удара клювом в голову. Игломёт имелся у одного, второго ваш страф взял уже на стене дома. Думаю, это был соглядатай. Я свистел, вызвал усиленный дозор.
С высокой стены закрытого города плюхнулись в воду два выра, следом, негромко ругаясь, прыгнули люди. Все выбрались на набережную рядом с нами. Рослый северянин, немного похожий сложением и повадкой на самого Ларну, сказал ему несколько слов. Из которых я не поняла ни единого. Человек покосился на меня и сердито сплюнул. Снова вызверился на Ларну.
– Ты, твою мать, который день ходишь домой этой дорогой, гнилец?
– Третий, брэми Михр, – с самым невинным видом отозвался Ларна, изучая стену поодаль.
– То есть виноват и не отпираешься, – зло уточнил названный Михром. – Сколько тебе говорить…
– Так удобнее. Полагаю, это была последняя попытка. У меня, если верить слухам, два сердца, три руки и пять глаз. Они уймутся, устали пробовать. Да и выловили мы самых упрямых. – Ларна хитро прищурился. – Или это твоя работа? Захотел на неделю раньше срока стать ар-клари. Тинка, гляди: это тоже настоящий выродёр… бывший. Отошёл от дел лет семь назад. В Горниве прятался. Человек он неплохой, хоть и жаден до денег. Его нанял князь Чашна Квард, прислал к нам, а Шрон перекупил. Он ещё и на славу падок, наш брэми Михр.
– Ты и прежде не дружил с головой, а теперь вовсе сдвинулся, – оскалился в ответ Михр. – Да, я работаю за деньги и уважением не брезгую. Но что творишь ты? Тебе чего вообще надо? Место в столице получил, золотое! И уступить его мне… Не понимаю.
– Я оберегаю брэми Тингали и служу только ей, да ещё дому ар-Бахта, – гордо отчеканил Ларна, погладил свои усы. Развернулся и зашагал прочь. – Спасибо, что не отказался занять место ар-клари.
– Всегда пожалуйста, – буркнул в ответ северянин у нас за спиной. И добавил громче, вроде бы шуткой, но в голосе звучала надежда: – Как возьмёшься отпираться от княжеского титула, не забудь про меня…
Глава вторая.
Ким. Сказочник
– Вот так я могу, вот так, я совсем научился… – восторженно твердил Эгра, младший из выров семьи ар-Сарна, ещё недавно владевшей всем миром.
Тогда кландом был Аффар, и он не зря прятал свою родню от посторонних глаз, обосновывая замкнутость ревностным следованием закону раздельной жизни людей и выров.
Все три брата Аффара – ущербны. Увы, дело не только в малом размере и отсутствии некоторых пластин панциря, это легко принимается и допускается, препятствует лишь успешному участию в боях на отмелях. К сожалению, все ар-Сарны разумом подобны пяти-семилетним человечьим детям. Зато, в отличие от своего подлого брата, не накопили в сознании злобы и мстительности.
Вместе с прочими ар-Сарнами из затхлого влажного коридора нижних, закрытых, ярусов дворца выбрался и Эгра. Было всего три недели назад. Некрупный выр восторженно рассмотрел большой мир, обнаружил, что солнце, которым его пугали от самого рождения – прекрасно… И влюбился в столицу всей наивной детской душой. Он лишь теперь, после гибели брата, живёт по-настоящему, в радости. Аффара помнит плохо, но иногда вздрагивает усами и спрашивает, точно ли ушёл, не начнёт ли снова бить и ругать «тот, с золотым панцирем, совсем злой».
Из всех выров, которые пробуют осторожно налаживать общение с людьми столицы, одного Эгру город принял безоговорочно. Да, невелик, а что клешни смешные, крошечные – тоже хорошо, он не вызывает страха и не умеет угрожать. Зато трудолюбив, общителен, неизменно пребывает в отличном настроении и не обижается на шутки.
– Вот так я могу, – ещё раз повторил Эгра, забивая последний гвоздь.
Спустился с надёжных строительных лесов для отделки потолка. Именно их Эгра и возвел только что со скоростью и усердием, вызывающими умиление работников-людей. Закончив дело, сложил у стеночки все три молотка из правых рук, ссыпал левыми в корзинку оставшиеся неиспользованными гвозди и побежал к мастеру, отчитываться. Пожилой каменщик, руководящий ремонтом, выслушал, похвалил и дал новую важную работу. Сравнивать все привозимые для отделки плитки с одной – образцом. И, если хоть самую малость не совпадут размер или форма, если трещина видна, без жалости откладывать негодные. Эгра подтянул к себе несколько корзин и заработал шестью руками, помогая себе и верхней парой лап, тонких, кривоватых, но достаточно ловких. Мастер огладил бороду, нежно провел рукой по полумягкому, почти прозрачному в верхней части, спинному панцирю Эгры.
Буркнув похвалу, человек зашагал к дверям большого зала. Стащил с головы повязку, выказывая уважение к тому, кто ждал его.
– Ар Шрон, вы будете сами проверять работу?
– Зачем? О вас отзываются хорошо, нет смысла тратить время, – прогудел Шрон, двигаясь по наружной открытой террасе к перилам ограды над каналом. – Кажется, надо прекратить называть этот замок бассейном, тем более – главным. Люди не понимают слова.
– «Дворец» будет звучать удачнее, – согласился мастер. – Мы выгребли столько гнили и грязи… теперь он красив внутри и действительно нуждается в новом названии. Мы заканчиваем работы в больших залах через три дня, ар. Собственно, уже теперь можно их принимать, потому я и звал.
– И только?
– Мы хотели попросить… всей слободой, – замялся мастер. – Эгра несчастлив у вас. Он мельче стражей, не так силен. Ему обидно, он стесняется своих клешней. Мы бы забрали его в нашу слободу, если это не нарушает законов. Город у нас нижний, рядом море. Опять же, детишек много. Он очень любит детей, и сами они не отлипают от Эгры. Обещал всех научить плавать и за всеми приглядеть в воде. Работящий, склонен к плотницкому делу. И пригляд, и денежки свои, и уважение… Я слышал, нет у более ар-Сарнов законных земель, куда ему деться теперь?
– Замок у них есть, только отсюда далеко, весьма безлюдный… – отозвался Шрон. – Доход имеется немалый и казна накопленная, вы о том знаете. Я не грабитель и Эгру не обидел, не вынудил платить за гнилость брата. Но вы правы, брэми. У вас он счастлив. Поговорите с ним: будет так, как решит сам Эгра.
– Мы уже говорили, – оживился мастер. – Он душою прост. Сказал: всех нас станет опекать и позаботится о каждом. Эгра полагает, в заботе и опеке как раз содержится власть. Он в нашей слободе вроде кланда собирается быть: самым полезным… Чудно слова меняются, если на другого выра их примерить. А что братья его? Здоровы ли?
– Лекари Ларна и Ким смотрели вдвоём, думали, что можно сделать, – грустно отозвался Шрон. – Гнилость бассейна подкосила обоих выров. Ох-хо, чёрная плесень— она к нашему народу изрядно зла… Оба плохи и ещё до весны отбудут в замок. Там прохладнее, им это полезно, легкие у обоих едва работают. Опять же, они не привыкли к людям. Пусть живут остаток дней, как умеют. Князь Горнивы обещал подобрать достойную прислугу. Да и стражи отправятся с ними, нельзя бросать несчастных. Выры Ар-Сарна были весьма славной семьей, я в огорчении. Получил вчера тросн. Осмотр бассейна показал: неущербных личинок в нишах рода нет. Говорить такое мне страшно и трудно. Последняя надежда на возрождение для них – новые мальки. Те, кто согласится принять имя ар-Сарна и снова вырастит славу рода, от икринки и до взрослости.
– Эгру любят все дети, – упрямо повторил мастер. – И наши, и ваши. Как появятся они, мальки эти, так обязательно хоть один обоснуется у нас в слободе. Вот увидите! Уж не обидим, обучим на краснодеревщика. Или мастера по мозаикам…
Человек задумался, выбирая ремесло для неродившегося еще выра. Шрон шевельнул усами. Иногда такой вот малополезный для большого дела разговор и убеждает: не зря плыл в столицу и затевал перемены. Раз люди готовы отстаивать выра и бороться за его честь, будущим его семьи озабочены всерьез… Значит, что-то меняется в мире хорошо, правильно.
– Заказ-то вы выделили нам изрядный, – между тем, осторожно высказал свое подозрение мастер. – Небось, красный город сошёл с ума, как нас позвали во дворец и дали приводить в порядок главные залы. Большие деньги! Зелёный город сроду таких не получал. Вот за это спасибо, ар. В чести вы уравняли нас с ними, кичливыми.
– Зелёный? – переспросил Шрон. – Вы все же избрали название?
– Гнили у нас более нет, а какая осталась, всю выведем, – твердо заверил мастер. – Эгра подарил нам по своей простоте запасы северного мрамора, привезённого давным-давно для неясных уже нужд кланда. На берегу он свален, потрескался малость, мхом да травой зарос. Но гора изрядная. На главные мостовые хватит, мы уже прикинули всем миром. Мрамор зелёный, наилучший. И пусть красный город хоть лопнет, мы выложим мостовые получше, чем у них. Широко и гладко, с узором. Боковые отсыплем крошкой. Деревца насадим густо и нарядно. – Мастер чуть помолчал и вздохнул, глядя на мелкого выра. Эгра как раз выбежал из дверей, прихватил три новых корзины с плитками для сортировки. – Ар, мне неловко пользоваться деньгами Эгры. Он не ведает цены золоту. Готов дарить всякому, негоже… Вы бы какого стража поумнее определили ему в опекуны. Людям опасно доверить такой сладкий кус. Я сам грешен, как подумаю про его золото, так зарастаю ленью.
Шрон согласно качнул усами. Подумал, что в ущербном и не очень умном Эгре всё же сохранилась часть древнего дара исконных выров ар-Сарна: он умеет завоевывать доверие и налаживать не просто понимание, но настоящую дружбу. Не видит внешних различий и верит глазам своего сердца. Может статься, этого хватит, чтобы возродить семью? Странно думать, что выр станет каменщиком или краснодеревщиком. Хотя это как раз правильно и естественно: нельзя в новой жизни оставаться стражами и хранителями бассейнов. То и другое скоро утратит смысл. Эти слова и должности принадлежат немирью прошлого с его искаженным законом разделения двух народов – моря и суши…
Сам того не сознавая, последний достойный ар-Сарна делает дело, однажды возвысившее его род, создающее новую основу для гордости: Эгра учит выров жить на берегу. Не только сидеть в трактирах и пить таггу, не только по-хозяйски стоять на палубе галер и угрожающе шевелить усами, хотя это бессмысленно при свободных гребцах. Но заниматься полезным делом, общаться с людьми каждодневно и буднично – именно как с добрыми соседями.
В канале закрытого города появилась малая галера. Шрон, ожидавший её прибытия, приветственно качнул клешнями и замер, наблюдая, как на причалах суетятся люди и выры. Вежливо приветствуют старых: на совет прибыли все, кого позвал златоусый.
За месяц удалось из общего числа выров, доживших до столетия, решением хранителей избрать лучших. Тех, кто не заспался во влажных нишах ожидания и ещё крепок умом. Кто не сопротивляется новому яростно и упрямо, просто по привычке цепляясь за то, что дано от рождения. Кто здоров и способен долго находиться на берегу, вне воды: для многих пребывание на суше тягостно, ущербные панцири в старости не держат вес тела, как и больные лапы… Наконец, немалое значение имело уважение к старым как со стороны хранителей бассейнов, так и простых выров – стражей и безродных, не имеющих своих замков.
При составлении списка казалось, что столетних много, что совет соберётся огромный и в залах дворца станет тесно… Но вышло иначе и вовсе не плохо. Два десятка старых в большом совете, девять выров – в малом, собираемом теперь. И сверх указанного числа он, ар Шрон, именуемый златоусым. Ким по необходимости представляет интересы вышивальщиков и людей в целом. Ларна порой присутствует в качестве ар-клари, военного советника. Ар-клари согласно новому закону в мирное время отвечает за порты и дороги, за безопасность людей и выров, за покой их жилищ. Ещё почти каждый раз приходит Марница, рассказывает о законах людей и жалуется на воровство шааров. Сами шаары появляются редко, как и выры, не входящие в совет. Пока все заняты: от начала перемен время исчисляется днями и неделями, дел слишком много…
– Что за спешка? – проворчал старый Жаф.
Он гордо катился на пробной временной тележке, только этим утром полученной у краснодеревщиков плотницкой слободы. Два больших колеса сзади: чтобы кочки не донимали. Два более мелких и способных поворачивать впереди, устроены удобно, дотянуться до прочных спиц можно всеми тремя парами рук. Под головогрудью мягкая кожаная подушка. Рядом рычаг, позволяющий наклонно приподнять переднюю часть подушки на целый локоть. Сейчас Жаф как раз проделывал последовательно всё перечисленное: поворачивал, туда-сюда катаясь по пристани, дёргал рычаг и перемещал подушку.
– Ещё есть тормоз, чтобы на наклонной тропе стоять и не съезжать, – уточнил для всех Жаф.
Старые изучили тележку с интересом. Еще бы! У ар-Лима две пары лап заизвесткованы и не работают, ар-Рапр так пересох в своих южных скалах, что теперь еле гнется. Старость была добра к их разуму, но изрядно потрепала тела…
– Я позвал вас, поскольку нельзя и дальше откладывать дела, касающиеся восстановления здорового порядка вещей в мире, – начал Шрон. – Понятно, что для нас, выров, важнейшим является одно: обретение доступа в глубины. Я говорил с Кимом, поскольку добиться перемен способны лишь вышивальщики.
– Давно пора! – отметил старый ар-Раг. – Глубины всем нужны. Но я очень настаиваю на внимании к бедам поверхности. Юг умирает: засухи подступают к самому проливу. Наш замок погибает. Мне жаль личинок, но это теперь не кончина для рода, ведь мы прорвёмся вниз и будут новые, я уверен. Но людям-то каково? Мы вместе с ними сажали деревья, чтобы защитить берег от натиска злых сухих песков и страшного горячего ветра. Мы вместе копали каналы, выры юга не лежали в нишах ожидания, пока прочие работали. Глубины могут терпеть целый год. Но юг надо изучить до начала лета, когда невозможно сделается отойти от берега на три десятка верст.
– Ваш юг ничуть не более важен, чем наши пустоши, – уперся ар-Шарх. – Там невесть что творится! Там люди и выры сходят с ума. Их донимают страхи и сомнения, им чудятся голоса…
Шрон извлек из кошеля, пристегнутого возле нижних рук, довольно большой клубок. Бросил его на пол, покатал по плиткам, оставляя свободными петли. Размотал полностью.
– Старым и малым надо всё пояснять с выдумкой, – булькнул смехом Жаф. – Давай, златоусый. Мы слушаем.
– Мы говорили с Кимом, – негромко отозвался Шрон. – Это он принес клубок и сказал: нельзя сразу переделать мир. Его уродовали многие, слои работ наложились и перепутались. Последние вышивки создавались здесь, в столице. Начинать рассмотрение бед надо именно с них, чтобы не запутать окончательно нить событий. Доподлинно известно, где выбрался на берег сам варса Сомра, чтобы вразумить древнего кланда и остановить войну. Сейчас на месте, где вышел из вод Сомра, разросся порт Усени. Долгое время вышивальщики – Тингали и Хол – не могли осознать стёртого временем следа деяний древних. Но вчера они отсекли нынешнюю суету людей и выров и справились, нащупали кончик нити.
Шрон внимательно рассмотрел петли, выудил хвост нитки и победно воздел его вверх. Старые дружно повели клешнями и даже щелкнули ими, отмечая внимание к сказанному. Кончик нити – уже не просто слова. Это настоящий след и начало дел…
– Деяния древних шьющих, участвовавших в боях, они и есть нить. Они тянут след в глубь суши, в пустоши, – отметил Шрон. – Там наши вышивальщики могут попробовать понять, рассматривая искажение мира, что именно сотворили с ним. И распустить ошибочные узлы. Зима нам в помощь: на дорогах мало людей и грузов. Я очерчу границу земель, где могут происходить опасные явления. Надо закрыть к ним дороги по суше. Ар-Выдха, ар-Нашра, ар-Шарх, ар-Лим: ваши земли все под угрозой. Дайте знать в замки самым спешным образом: путь люди воздержатся от посещения пустошей. Мы пока что не уверены даже, уцелеют ли к весне горы! Вот как всё сложно и зыбко. Мы очень опасаемся пересыхания или, наоборот, разлива Омута Слёз, он выше столицы и мы заложники его поведения. Уже начали рыть дополнительный отводящий канал. Будем укреплять дамбы, следить за течениями и рыбой. Если ветры переменятся, как ещё отзовётся море? А они переменятся. Потому я принимаю совет ар-Рагов и утверждаю: в пустыни юга надо идти зимой, теперь же, и сразу после осмотра пустошей. Галера будет ждать вышивальщиков в порту близ замка ар-Шархов. Воду и пищу для путников в пустошах по дороге на юг обещали обеспечить люди князя Горнивы, я склонен им полностью доверять в этом. Тем более, выры и засуха – плохо совмещаются.
Старые помолчали, вслушиваясь в сказанное и обдумывая слова. Дружно хлопнули хвостами, отмечая согласие. Потом Жаф нехотя, со вздохом, спросил неизбежное: у всех ли готовы тросны с мыслями по поводу обновления имущественных законов? Ему так же вяло ответили: у всех. На фоне похода в пустоши прочее казалось не столь существенным и вдвойне нудным. Но закон нужен. Он тоже не может ждать – даже до весны…
Ким на совет не пошёл.
Он не выр, к тому же внешне не похож на старика людей. А настоящий возраст… Хороший вопрос: если ли у него такой? Чудом лесным – зайцем веселым да старичком лукавым – прожил он в Безвременном лесу дней без меры, нет там учёта закатам да рассветам. Из лесу выбрался минувшим летом против воли деда Сомры. Тогда и стал человеком, внешне подобным молодцу лет двадцати. В большом мире прожил так мало дней, что и сказать смешно. Нет для него верного возраста! Зато есть главное дело: сберечь сестру от бед и расправить канву так, чтобы жизнь в ней росла да цвела, а не погибала, покрывалась гнилью. Общая жизнь, для всех…
Ким виновато вынул из внутреннего кармана куртки вышитый сестрой пояс и снова рассмотрел. До чего узор хитрый! Зайцы выстроены в одну нитку и отгорожены от зелени леса цветками марника. Что ж, вернее и не сшить… Там, в лесу, его прошлое. Он полагал, и настоящее там, и будущее. Но Тингали порой делает не думая точнее, чем он сам может запланировать, всматриваясь и сверяя мысли со всеми доступными заветами людских сказок и легенд, мудростью вырьих глубинных преданий…
Он – Ким – желает искать общее благо. А заяц-то к простому стремится, к уютному.
Пояс снова лег в тряпицу и спрятался в кармане куртки. Ким обернулся на звук шагов, нахмурился. Вот тебе, заяц прыгучий, и подсказка, имя ей Марница. От леса отгораживает – и ещё как… Дом человеческий, он в самом лучшем случае стоит на опушке, и зверю такое соседство не в радость. Только он не зверь, не чудо лесное. Надо привыкать.
– Кимочка, тебя старые ещё не извели? – спросила Марница с легкой насмешкой в голосе и настоящим сочувствием во взгляде. Всегда она такова: подначка рядом с добротой. – Идём, нашла я спасение для тебя.
Возражения и уточнения не предполагаются… Ким вздохнул, ещё раз хлопнул себя по куртке, проверяя наличие пояса – и зашагал следом за ар-клари севера. Волосы упрямая так и носит распущенными, всем на зависть, смешанную с неодобрением. Мыслимое ли дело! В косу не убрать и даже лентой не перевязать, не накрыть шарфом по южному обычаю. Хотя – хороши, блеск по частым волнам так и льётся… А до зависти и порицаний ар-клари нет дела. Она и кожаные штаны носит по-прежнему, вместо юбки: так удобнее. Но, ради уважения к вырам, как просил Шрон, поговорив с людьми и уточнив их обычаи, сверху надевает достаточно длинную безрукавку, не сшитую на боках. И движению не помеха – и на женской наряд хоть отдаленный намек. Поясом безрукавка перетянута плотно, фигурка у ар-клари гибкая, легкая. Разве плечи чуть широковаты… Ким улыбнулся: пожалуй, она их-то и прячет в ворохе волос.
– От чего спасаешь, ар-клари? – Ким не выдержал игры в молчанку.
Еще бы! Прошли немалый путь: пересекли два открытых двора, спустились по лестнице, миновали тень под навесами закрытого двора. Выбрались в зеленый садик у самой стены, куда обычно никто и заглядывает. Зря: здесь тихо, свежо и даже есть настоящий пруд. На берегу лежит Эгра ар-Сарна, самозабвенно мастерит сразу три кораблика.
– Вот так я могу, – повторяет он любимую присказку.
В траве сидят, восторженно наблюдая за строительством флота, пятеро ребятишек: видимо, пришли поглазеть на дворец вместе с родителями, мастеровыми нижнего города. Кому ещё доверить возню с малышней, как не Эгре, пусть и не человеку – но лучше няньки всё рвано в городе нет!
– Дети, – звонко окликнула Марница. Вскочили. Поклонились, заулыбались: ждали здесь и знали, что хорошего и интересного дожидаются. – Эгра делает корабли быстро, он очень славный выр и не отказывает вам в просьбах. Сколько уже готово?
– Два, я умею считать, – стразу отозвался Эгра. – Ещё три делаю, я так могу… три сразу!
Он смолк, чуть смутившись: хорошо ли хвалить себя столь явно? Кораблики ведь ещё не рассмотрели и не назвали удачными. Ким сел рядом с мелким – тело в неполную сажень длиной – выром. Бережно поднял самую маленькую галеру и поставил на ладонь. Изучил её, удивляясь тонкости работы и точности памяти Эгры. Воистину: отнимая что-то, природа пытается загладить свою вину перед обделённым.
– Очень красиво. Это галера старого ара Жафа, личная малая, – узнал кораблик Ким. – Даже узор паруса намечен. Великолепная работа.
Марница глядела сверху вниз, щурясь от сдерживаемого смеха. Ким пока не понимал причин её весёлости, но в садике ему было хорошо, спорить не хотелось.
– Дети, вы знакомы с Кимом? Будем считать, сейчас вы как раз познакомились. Он очень добрый. Как Эгра. Не умеет так красиво делать кораблики, зато способен рассказать сказку о каждом из них. Или даже легенду. Или северную песнь, в каких поётся о большом шторме и отважном капитане, ведущем галеру сквозь непогоду. – Марница нагнулась ниже и перешла на заговорщицкий шепот. – Вы не отпускайте его запросто, за одну историю. Пусть говорит, пока все не вспомнит! Мы завтра уезжаем из города. Когда ещё у Кима получится сплести сказку для вас? А сказки, дети, по-настоящему живут, только если их слушают и в них верят! С этим вы, полагаю, справитесь.
Довольная собою ар-клари тряхнула волосами, блики солнца перекатились по упругим кудрям. Она отвернулась, заспешила прочь, не слушая ни детских ответов, ни возможного возмущения Кима. Да, завтра они уходят к пустошам, надо ещё так много успеть сделать… времени нет, его всегда нет, особенно теперь, в столице. Тем более в последний день. Только разве детям можно говорить столь ужасные взрослые глупости? Глядят во все глаза, полны радостью и дышат через раз от предвкушения сказки.
Эгра заработал руками ещё быстрее. Старается помочь начать сказку. Видно, как он раздувает уши: складки на боках близ жабр чуть расширились. Хочет запомнить сказки целиком, до последнего звука. Наверняка выучит сразу наизусть и завтра сам будет их повторять. Детей в нижнем городе много, и безнадежный в своей наивной доброте выр каждого постарается обеспечить и корабликом, и историей о капитане…
Ким улыбнулся, сел поудобнее и прикрыл глаза. Мысленно сказал Марнице спасибо. Он невыносимо, окончательно устал от столицы. Здесь нет леса, редкая зелень попорчена пылью. Не откликается, молчит: люди её словно омертвили, даже запах листвы и шелест её не таковы, как в живом лесу. И мелких букашек нет, и бабочки – редкость. Правда, этот сад в стороне от шума, здесь дышится полегче. Да и дети… Марница ведь права, сказки оживают лишь при хороших слушателях. Ким раскрыл ладонь и осторожно понадеялся на успех. Отзовутся? Ну хоть одна! На руку, едва ощутимо щекоча кожу, села бабочка. Мелкая, ровного золотистого цвета с черной каймой по краю крыла и парой точек в его вершинке. Эгра восторженно булькнул. Дети запищали и завозились, двигаясь ближе.
Ким пересадил бабочку на вершину мачты малой галеры и опустил кораблик в воду прямо на ладони. Тот исправно закачался на ничтожной волне.
– Давным-давно, – сказал Ким и ощутил, как усталость города покидает его душу, – когда на севере ещё жили люди, не было серых туманов и существовали холодные зимы, случилась эта история. Корабль смелого капитана…
Он чуть помолчал, подбирая имя и давая время детям предложить свое. Самый младший решился, улыбнулся и тихо шепнул:
– Капитана Эгры. Он обязательно построит большой корабль. Мы все станем ему помогать.
Под панцирем выра, полупрозрачным сверху, у основания усов, четче проступил узор темных сосудов: будь он человеком, выглядел бы покрасневшим от удовольствия. Закончил очередной кораблик и протянул его Киму.
Новая бабочка устроилась на мачте, и Ким продолжил историю. Он говорил о том, как капитан прорывался через рифы, как ужасен был шторм и опасны валы чёрной воды. Как пришло время хорошей погоды, но люди устали и утратили надежду. Парус порван, руль испорчен – как идти домой? Капитан говорил им о зелени берега и улыбке лета, но люди видели лишь бескрайнее море и хмурые тучи на севере… И тогда капитан попросил глубины о снисхождении к слабым. Бабочки иногда летали с севера на юг, никто не знает, почему они собирались в целые золотые облака и спешили вместе с лёгким ветерком в теплые края, презирая тяготы пути. Именно такое облако опустилось на галеру Эгры, и вся она стала золотой и живой… Люди поняли: берег не так уж далеко, если отбросить отчаяние, которое страшнее всякого шторма.
Ким перевел дух, глянул на новый кораблик, уже изготовленный расторопным Эгрой. И стал рассказывать о страшной встрече со спрутом. Потом о пленении корабля морем, заполненным водорослями так плотно, что и плыть-то невозможно. Об огромной рыбе, проглотившей галеру… Само собой, всякий раз капитан Эгра умудрялся вернуться в порт благополучно.
Приключения неугомонного выра длились до самого заката, когда мастеровые закончили свой рабочий день и пришли звать детей домой. К тому времени корабликов на воде пруда было уже очень много – десятка три! Охрипшему до потери голоса Киму выделили в подарок любой из них, на выбор, можно и не один. Он взял самый маленький и молча поклонился Эгре, благодаря за щедрость. Выр в ответ шевельнул усами, деловито убирая в коробку инструменты и обрезки дерева, шепча едва слышно слова. Ким не сомневался: сказки выучены с первого раза, все… Скоро их будет знать нижний город. И, возможно, это не самое бесполезное и малое из дел, исполненных в столице – оживление историй о море, для которых теперь есть замечательный рассказчик.
По первому впечатлению Эгра неумен и слишком прост. А если вглядеться, вдруг да окажется иначе? С кем он мог разговаривать, у кого мог учиться в унылом полумраке гнилых гротов, где кланд запер свою семью? Держал под замком, потому что стыдился ущербности братьев. Не пробовал их лечить и воспитывать.
Теперь, когда у Эгры есть и друзья, и дело – он может сильно перемениться… Ким огорченно вздохнул: будь выр помоложе, исправить развитие его клешней и панциря оказалось бы проще. Хол тоже рос слабо, год назад выговаривал лишь несколько убогих фраз. Но его изменили вырий гриб и иные лекарства, общение и уважение окружающих. В шесть лет – ещё не поздно… Эгре восемнадцать.
Дети ушли, часто оглядываясь на выра и уговаривая его поторопиться, обещая дождаться на пристани. Ким сел рядом с Эгрой.
– Ты все сказки запомнил?
– Трудно, – пожаловался выр. – Длинные. Красивые. Испорчу…
– Ты запомнил, – мягко заверил Ким. – Ты вспоминай так: бери кораблик, который делал, когда я складывал сказку. Начинай его рассматривать, чтобы увидеть капитана и всю историю, ты ведь когда делал – слышал её. Так? Вот рассматривай и вроде повторяй заново: движение за движением, слово за словом. Не торопись. Мои сказки – они вроде твоих галер, все разные. Можно наделать новых. Главное, доброты не жалеть и разрешать себе переиначивать слова под настроение. Ты подарил мне кораблик. Я дарю тебе все истории. Переделывай, как пожелаешь. Если что нескладно пойдёт, спроси у Шрона, он любит сказки и всегда рад тебя видеть. Договорились, сказочник Эгра?
Темный узор под панцирем проступил ещё ярче. Выру очень понравилось называться сказочником. Он охотно качнул усами, быстро собрал в сетку кораблики, ещё не подаренные детям. Ненадолго замер.
– Умею рыб вырезать, – тихо шепнул он, полез в свой ящик и достал фигурку. – Вот так.
– И про них рассказывай истории, сказочник, – улыбнулся Ким.
– Приходи ещё, – попросил выр.
Ким кивнул и поднялся в рост, потоптался, разминая затекшие ноги. Проводил Эгру до причала, где его ждали слободчане, не пожелавшие бросить маленького выра одного, в центре города, вечером… Кима тоже позвали на борт восьмивесельной пузатой лодки. Довезли до удобной пристани возле порта. Долго махали руками вслед. Ким шел и слышал за спиной тихий говор Эгры, уже пробующего выстроить первую свою сказку. Выр часто запинался, повторяя по несколько раз «давным-давно» или «очень смелый». Дети шёпотом подсказывали, и Ким полагал, что все вместе они обязательно справятся с делом…
Шагая к воротам по узкому временному – в две хлипкие доски – настилу мостовой зеленого города, Ким улыбался. Он ощущал в душе покой и готовность к дальней дороге. Город Усень вырос на том самом месте, где чуть не состоялась в древности казнь людей. Тут едва не произошло последнее и самое страшное общее вышивание, вплетающее смерть в канву жизни. От непоправимого шага победителей-выров и их неразумного кланда спасло лишь вмешательство самого варсы Сомры.
Те времена давно отцвели, успели стереться из памяти ныне живущих. Но тень беды осталась висеть над портом. Тингали вчера умудрилась её выделить из общего настроя. И даже бережно подпорола гнилые нитки. Но как вшить на их место новые? Он сам – Ким – запретил вышивальщикам трогать узор людских душ. Слишком опасно вмешиваться в столь важное. Сегодня к пользе развернёшь, а завтра оно, подспудно и бессознательно завязанное в узел, отзовется совсем иначе, да ещё и накажет вышивальщика за самонадеянность…
Пусть жизнь людская движется и развивается по своим законам, без вмешательства. Да, долго и трудно. Но теперь, может статься, все сложится наилучшим образом. Сказки для того и выплетаются, чтобы детей не касалась гниль взрослого мира. Им надо верить в лучшее и расти – людьми. Теперь Ким полагал: собранный из обрезков и щепок боевой флот капитана Эгры может сделать для детей больше, чем настоящие корабли…
У ворот особняка щурилась Марница, пыталась рассмотреть дорогу в густеющих сумерках. Её вороной страф мелькал в зарослях кустарника, пугал птиц и радовался свободе. Клык с первого дня невзлюбил город, где надо ходить чинным шагом.
– Ким, ты что, до темноты сказки плёл? – возмутилась женщина. – Мы с Клыком переживаем. Уже собрались идти искать тебя.
– Теперь за сказки в этом городе отвечает Эгра, – улыбнулся Ким.
– Блаженные издали примечают друг дружку, – мрачно буркнула Марница.
– Не сердись. Я очень стараюсь жить, как все люди живут. Только мне это трудно дается, Маря. Люди золото считают, а я и тогда на руки гляжу, а не на золото… У кого мозоли от труда пухнут, у кого страх пробирает пальцы дрожью, у кого жадность крючит их. И про всякую руку я могу выплести сказку. А без того обойтись, просто золото отдать или принять, не способен.
– Знаю, – тяжело вздохнула Марница. Погрозила кулаком Клыку, азартно роющему каменистый грунт: – Только повреди коготь, я тебя брошу, это ясно? Ишь, манеру взял, мясо дикое жрать от пуза… Всю округу запугал. Птицы уже не поют, икают!
Страф замер, обиженно взъерошил крылья и осторожно, бочком, двинулся к рассерженной хозяйке: мириться и доказывать свою полезность. Ким погладил, почесал под клювом – и лиловый глаз тут же снова стал косить в сторону глубокой ямы на месте чьей-то норы…
– Кимочка, я ведь, сказать неловко, уже написала о тебе батюшке, – тихо всхлипнула Марница. – Понимаешь? И Ларна ему говорил… Ты сказки плетёшь, как лукошки, одну другой красивее. Об ином и думать не желаешь. Кимочка, чужим деткам хорошо рассказывать про кораблики. А своим-то ещё лучше. Ты уж подумай. – Она быстро стерла нечаянную слезинку и добавила, испугавшись сказанного: – Я понимаю, надо идти в пустоши и помогать Тинке. Но ведь не на всю жизнь поход… Мне бы хоть намёком знать, зря я тебя, зайца, пробую за уши ловить или не зря.
Ким натянуто улыбнулся, порылся в кармане и снова достал пояс. Показал его Марнице, пояснил: сестра вышила. Подарила, а он и взял, не глядя… В темноте узор едва можно разобрать, женщина долго щурилась и водила пальцами, но опознала и зайцев, и зелень, и цветущий марник…
– Что же это значит? – нахмурилась она.
– Ты одна стоишь между мною и лесом, никто более, – вздохнул Ким, завязывая пояс. – Поймаешь – твой заяц. Не поймаешь – ничей, в лес вернусь, от людей отвернусь… Не ведаю, как жить мне там человеком. Но душа к зелени тянется, по дубраве моей плачет. Непутевый я мужик для дома, Маря. Ты сама точно сказала: блаженный. Иногда совсем зачислю себя в люди, а порой снова ветерок зазвенит да потянет за вихры – и меняются мои мысли. Лесовик я… Ну что тут поделаешь? Такой уж есть.
Марница упрямо шагнула вперед и уткнулась лбом в плечо, вздохнула, постояла молча, то ли думая о чем, то ли просто выискивая заново почудившийся давным-давно запах земляники в вороте линялой рубашки.
– Я отпишу батюшке, что ты мой заяц, – сказала она наконец. – Когда у выров время красного окуня?
– Совпадает с сезоном сомга, в Горниве как раз сбор урожая празднуют, последний колос подрезают, – отозвался Ким.
– Хорошо. Самое годное время. Блаженный – не блаженный, мне оно не важно. Ты один видишь меня такой, какой я себе нравлюсь. Не отпущу тебя в лес, лесовик. Это ясно? Выры баб своих разыщут, а чем я хуже? Все разом и отпразднуем. Хорошо? Вот правильно молчишь, я сама всё и порешаю. И батюшке сообщу, что осенью у нас праздник.
Ким неуверенно пожал плечами, приобнял свою странную невесту, которую и не привечал вроде – и оттолкнуть нет никакой возможности… Улыбнулся.
– Маря, знала бы ты, какая у выров ещё с их… гм… бабами история сложная. Но я дал слово Шрону ничуть не раскрывать тайны, ни полусловом. Видишь ли, древняя мать рода ар-Бахта полагала, что люди совсем отвернулись от выров, не понимая их способа жизни. Нет у выров семей и нет жен.
– У лесовиков есть жены? – взялась гнуть свое Марница.
– Да… пожалуй.
– Вот и не путай мне мысли этими вырьими нитками! – Хитро прищурилась Марница, плотнее прижимаясь к плечу. Шепнула прямо в ухо: – Пошли, посидим в саду. Все одно, нечего тебе собирать в дорогу. Вещи твои я давно сложила в мешок. Мало у тебя вещей, заяц. Одни сказки да пара ножей, мною припасенных. Странный набор. Я когда поглупее и помоложе была, иного приданого ждала за своим женихом. Топора Ларны, наверное. Ну и страха в его имени… Чтобы никто и пикнуть не смог! Потом прикинула, от третьего плечистого жениха сбежав: или он меня зарубит, или я его зарежу. Слишком мы похожи. Чуть что – лезем в бой. Разве это дом? Сплошная война да пожар с погромом. Давай, садись. Живо плети очередную сказочку. Помнишь, начинал как-то давно? Про девочку Марю, которая жила на краю леса. Я тогда не дослушала, заснула.
Ким покорно кивнул. Усмехнулся, выслушав длинный звучный зевок Марницы: ещё бы, весь месяц она была так делами завалена – недосыпала и, кажется, даже похудела. Шутка ли: все учетные пергаменты пяти шааров земель ар-Багга разобрать и проверить! Хранитель здешнего бассейна, уж на что к людям исполнен презрения и новому не рад – а проникся, оценил работу. Признал, что северная ар-клари воровство разбирает лучше всякого выра и хребет беде перерубает, не имя клешней – вполне надежно…
Марница заснула сразу после неизбежного начала истории – «давным давно, возле самого леса, жила-была…» Ким отнес её в комнату, уложил, накрыл одеялом из красивых шерстяных лоскутов, сшитых сложным узором. Добрался до своей комнаты, мельком глянул на готовый походный мешок у кровати. Лёг и забылся спокойным сном. Цветным и очень детским. Он снова был зайцем, а то и белкой… Прыгал по лесу, радовался свежей зелени, отмытой недавним дождиком. Приглядывал за девочкой, собирающей на поляне землянику. Даже спустился изучить её лукошко. Хитруля стала выкладывать угощение по одной ягодке, да и выманила на самую опушку слажкоежку-лесовика…
Разбудил всех Хол. Он готовился к походу в пустоши, пожалуй, серьёзнее остальных. Начал с многократного взвешивания, опасаясь того самого, о чем мечтал все прежние годы своей коротенькой жизни: быстрого роста… Теперь, достигнув в длину без двух ладоней сажени, выр полагал себя достаточно большим. Хол высчитал: ещё совсем немного, и он просто не поместится на спине страфа! Даже если вес будет посильным птице, сложение выра таково, что сделает пребывание в седле невозможным. Пешком же идти по сухим землям для выра трудно. Между тем, он – вышивальщик, его путь в пустоши определен даром и долгом. Когда-то выры едва не вплели смерть в канву, и Хол полагал себя прямым наследником дела варсы Сомры, обязанным исправить прежние ошибки и вернуть миру его исконный, здоровый, облик.
Взвешивание и замер длины тела показали, что уже который день выр не растёт. Как его и предупреждал Шром, после отверждения панциря изменения, происходившие на редкость бурно, надолго приостанавливаются.
Вторым шагом по подготовке ко встрече с засухами для Хола стало регулярное смазывание панциря специальным маслом, разведённым с водой и травяными вытяжками. После двух недель подобных обтираний потребность выра в воде снижалась в пять-семь раз. Само собой, если не лезть на открытое солнце среди дня и питаться только продуктами, обозначенными Кимом.
Еще ночью Хол проверил запасы, убедился, что обузой он никому не станет. Побежал кормить своего страфа. Как иначе? Страф для седока, полагал молодой выр – не просто две длинные лапы под седлом, но друг и даже родственная душа. Когда страф оказался сыт до изнеможения, дела Хола иссякли. Сон обходил его стороной, безделье угнетало. Так что всем пришлось просыпаться несколько раньше оговоренного времени…
Утро ещё не наметилось даже в оттенках цвета неба и воды, легкий туман губкой впитывал запахи города и тянул их к морю, куда неторопливо дрейфовал слабый ветерок. Луна делала туман загадочно-зеленоватым. Сонные страфы нехотя покидали стойла и снова прятали головы под крыло, едва взойдя на палубу галер. Хмурые люди отмахивались от азартно таскающего припас выра и тоже норовили лечь и досмотреть сны. Гребцы зевали, ар-тиал особняка выров моргал и тряс головой… Отбытие вышивальщиков в поход получалось совсем не торжественным и почти забавным.
Три малые галеры отвалили от личного причала семьи ар-Нашра, обогнули мыс и вошли в один из широких обводных каналов, огибающих стены города и сбрасывающих в море излишки воды Омута Слёз. Сейчас, когда в Горниве шли зимние дожди, канал был полноводным и удобным для движения. Выры из числа городских стражей разобрали канаты и нырнули в поток, помогая гребцам преодолевать течение. Когда восход сделал воду розовой, и ночь поплыла на запад синими корабликами теней мелких волн, галеры обогнули город и вошли в озеро. Выры отпустили канаты, прощально свистнули и взобрались на дамбу – провожать, махать усами и глядеть вслед… Рядом с ними стоял всего один человек – Малёк. Стоял и глотал слезы. Он полагал, что поход без него не обойдется. Но капитан Ларна приказал: провести галеру морским путём до главного порта земель ар-Шархов. То есть исполнил мечту, по сути дал право командовать на корабле…
Как это часто бывает, прежде желанное не доставило ожидаемой радости. Нельзя разорваться надвое и быть в пустошах, одновременно управляя галерой. Нельзя – но хочется. Малёк, впрочем, выслушав приказ Ларны, повёл себя достойно, молча сморгнул предательскую сырость с глаз и ломающимся юношеским голосом сказал: «Да, капитан». Он не девчонка, чтобы выказывать норов и требовать себе поблажек. Если его место на галере, он будет именно там. Ларна усмехнулся в усы и посоветовал прикупить перед выходом из порта пару запасных страфов. Чем, само собой, очень и очень обнадежил…
Галеры по озеру пошли ходко, рисуя на розовой воде синие линии, прямиком указывающие на малый торговый порт, кое-как пристроившийся в тесноте береговой полосы, под каменным боком гор на границе трех владений: людской Горнивы и земель, управляемых вырами семе ар-Выдха и ар-Нашра. Гребцы поглядывали на север, где хмурились тучами зимние дожди. Пока, по счастью, непогода проливала свою влагу чуть в стороне.
Скоро впереди обозначились тёмные панцири выров сопровождения, прибывших по указанию старого Жафа из родных для него земель. Канаты снова натянулись, скорость галер изрядно выросла. За завтраком Ларна решительно пообещал, что завтра, ещё до темноты, то есть на редкость быстро по любым меркам, галеры встанут у причалов. Одна короткая ночёвка – и вот они, пустоши, во всей красе, надо лишь миновать узкий скальный коридор…
Ким сидел у мачты, в тени, подозвав Тингали и Хола. Вышивальщики по очереди излагали свои наблюдения, он слушал и хмурился, пытаясь создать из обрывков впечатлений целостную картину. Пока получалось не очень ловко.
– Сборочка там, за горушками, – поясняла Тингали, как ей казалось, вполне внятно. – Небрежная такая, стянутая. Но не рюшечкой, а скорее кантиком, что ли…
– Нитки гнилые, хоть и выры ими шили, – страдал Хол. – Стыдно. Наша вина. Совсем гнилые, злость в них, мстительность. И вовсе дурное, да. Обман. Они хотели победы любой ценой. Они пожелали страшной смерти людям. Не сборка там, стяжка. Точно стяжка, да…
Ким прикрыл глаза и попробовал отдышаться. Понимают ли друг друга Тингали и Хол? Вероятно – да. Они видят нечто, пусть и не вполне одинаково, но достаточно отчетливо. Сам он – Ким – слушает обоих, но разглядеть беду во всей её полноте не способен. Он не умеет шить. И канву воспринимает иначе. Вот если бы здесь имелся лес… Хоть самый слабый и малый! Он врастает корнями в канву год за годом. Он сам и есть мир, он ловит дыхание ветра и слышит ток воды. Помнит кольцами годового роста всю древность от того дня, когда упало в почву первое семечко и дало росток… Но леса нет. Пустоши тем и ужасны: они негодны для жизни. Совсем не годны. Хотя лес вынослив, но здесь он сдался, высох. До последнего корешка высох – и смолк его говор. Даже стонущий скрип мертвых стволиков чахлых кустов давно рассыпался трухой.
Без леса Ким ощущал себя полуслепым. Он различал общий вид канвы, ощущал кожей её искажение, как свою боль, как след старого, так и не заросшего, гниющего ожога… Но опознавал беду кое-как. Точнее, лишь примечал фальшивость данного зрению. Горы вроде и есть – но верхушки их нерезки. Людям кажется: это из-за того, что облака сели на серый камень и мешают всмотреться. Но – нет, всё куда как посложнее. Не на своём месте стоят горы. Это ли Тингали называет «сборкой»?
– Тинка, вот тебе ткань, – попробовал добиться понимания Ким. – Шей, что видишь. Обычными нитками. Хол, то же задание и тебе. Врозь шейте, надо понять разницу в ваших оценках.
Вышивальщики дружно кивнули и занялись делом, более похожим на безделье. Крутят лоскуты, вздыхают, мнут, то так иглой приладятся уколоть, то иначе… Подрезают ранее зашитые нитки, иные подбирают. Тингали вон – чуть не плачет. Не получается сборка… Ким огляделся, махнул Ларне.
– Подержи канву. Без тебя наша Тинка совсем не справляется. Ты её понимаешь. Может, дело в поясе с котятами, а только я вижу: хорошо понимаешь.
– Я вообще умён, – насмешливо прищурился Ларна, пристраиваясь рядом с Тингали. – Такой уродился. Можно сказать, неущербный. – Он покашлял и сделал голос по возможности низким, загудел и забулькал, подражая вырам: – Я мудр, как Сомра! Я канву держу, ох-хо… Тяжкая работа, тяжкая…
Тингали тихонько хихикнула, потом рассмеялась во весь голос. Сразу расправилась складочка напряжения меж её бровей. С улыбкой и подначками работа пошла куда живее. Ларна исправно держал лоскут обеими руками и даже зубами. Хол шил один и вздыхал; потом разобрал кивок Кима и присоединился к общему занятию.
Поодиночке вышивальщики не видели ничего в точности – это уже понятно. Зато вместе, с шумом и чуть не в драку, довольно быстро изуродовали лоскут до нужной им и, как обоим казалось, правильной, формы. Ким принял в ладони готовую работу, удивленно изогнул бровь. На ткани наметано в две нитки кольцо, обе нити присобраны, серединка морщится и выгибается вниз – донышком, как пояснила Тингали. Сама сборка торчит уже упомянутым «кантиком»… Главное – рваных дыр нет, как нет и сложных скруток, угрожающих расправиться и сильно исказить мир. Прочее же маловнятно, увы.
Ким тряхнул головой, чувствуя себя окончательно запутавшимся. Взглянул на горы впереди. И решил оставить разбирательство на завтра. Тем более вот и Марница проснулась, позже всех, зато отдохнувшая и в хорошем настроении. Потребовала обед – и все сели обедать. Даже Клык сел, чтобы удобнее выпрашивать подачки. Ткань с кантом и донышком Марница изучила, щурясь от смеха.
– Зачем всё так усложнять?
– Я пытаюсь понять, будут ли меняться высота берегов и рисунок дна Омута Слёз, – вздохнул Ким. – Как мне думается теперь, худшего не случится. Когда нитки окажутся распороты, горы чуть подадутся к закату, так мы это будем ощущать и видеть. Пустоши вроде бы побольше сделаются. Путь от земель ар-Лимов до столицы удлинится на полный день… хотя я могу и ошибаться. Край ар-Шархов вырастет в размерах. Но в целом мир не изменится. Только наше о нем представление станет точнее. Почти всё шитье, исполненное древними в пустошах – вросший в канву мираж, мне это название говорил дед Сомра. Мираж не даёт видеть мир цельным, не допускает войти в тот круг. Который обведен «сборкой»… Что удерживает мираж и зачем создан, увидим завтра.
Узкий проход в скалах, начинающийся от побережья и ведущий в сердце пустошей, никому не понравился. Он давил нависающими громадами камня. В лицо сухостью и злобой бил хлёсткий ветер юга, щедро перемешанный с песком и мелким каменным крошевом. Хол гнулся ниже на спине своего страфа и тихо постанывал: для выра такая погода ужасна. Между тем ещё далеко до рассвета, вышли специально пораньше, как советовали люди в порту.
Солнце поджидало путников за плавным изгибом скального коридора – утреннее, красное и горячее. Не сговариваясь, все придержали страфов и плотной группой замерли на границе пустошей, настороженно рассматривая их в первый раз. Не на карте, не на канве – вживую…
Пустоши состояли из бурого мелкого песка, и казалось, что всё живое в них долго и страшно сохло, пока не превратилось в такой вот песок, безжалостно перетёртый временем и жарой. Каменный бок гор на вид был тоже бурым и пыльным, ничуть не похожим на вторую свою сторону, обращенную к озеру – серую, влажную и прохладную. Скалы в утреннем свете лоснились багрянцем, они вздымались отвесными стенами сказочного замка. А ниже, под лапами страфов, начинался совсем иной узор поверхности: изрезанный плоскими частыми наплывами, резкими линиями, словно каждую из них некогда выдолбила мягкая, но безмерно упрямая, вода, выбирающая себе самый удобный берег. Ким нахмурился, рассмотрел скалы внимательнее.
– Этому узору каменных наплывов не пять веков! И не вышивальщиками он создан, – уверенно пояснил Ким. – Здесь, как я думаю, было в незапамятной древности море. Канва – она живая и порой сама подаётся, изгибается. Новый удобный поворот миру выбирает… Море ушло, сгинуло. А песок остался. Сухой, мёртвый. Впрочем, если прежде не было такого злого южного ветра, здесь росла трава, имелись мелкие кусты. Но теперь они сгинули. Хол, не переживай. Пустоши велики, но мы знали это. У нас два вьючных страфа с запасами воды и масла для твоего панциря.
– Хол справится, – припомнив детскую манеру называть себя по имени, а не «я», отозвался выр. Усмехнулся, шевельнул ворсом у губ. – Хол не трус, да… Мы с Тинкой исполним своё дело. Вперёд.
Он шевельнул повод страфа, и вороной первым начал спускаться по плоским уступам-ступеням иссеченных ветром камней. Ниже и ниже, почти точно на восток, к рыжему морю песка. Сменившему древнее, высохшее – водяное… Страфы шли по пустошам охотно, жара им даже нравилась. Вороные, выращенные на севере, они оказались на редкость хорошо приспособлены к условиям юга. Уже к вечеру Хол признал, что не сходит с ума от жары, одно и то же все видят: действительно, чешуя птиц начала менять оттенок, она светлеет, переливается перламутром – красиво и неожиданно… Глянец черных перьев тускнеет, словно засыпанный пеплом. Страфы приспосабливаются. Людям и выру – труднее. Для них закат стал мечтой, желанной и убегающей, как горизонт. День казался бесконечным… Но и он подошёл к концу.
В сумерках Ларна объявил отдых в тени невысоких скал. Указал приметную вершину дальнего отрога гор, недавно обозначившуюся на самом горизонте. Пояснил: в порту советовали усмотреть именно на этот признак, предлагая от него пройти вперёд, на восток, не более половины обычного дневного перехода и далее резко забирать к югу. Потому что далее впереди будут гиблые пески без края, куда ходить не принято: там и голоса слышат, и страх безмерный испытывают.
Когда закат отгорел, и жара утратила свою ярость, Хол и Тингали забрались на плоскую вершину скалы. Ким поднялся с ними. Теперь все трое достаточно отчетливо ощущали искажение канвы. Посовещавшись, сочли место удобным для работы: если подойти к области искажения ближе, кто знает, как ещё «отбросит» отдачей, когда пропадёт стяжка ниток – и мир попробует расправиться, вернуть себе здоровое положение.
В полумраке светлой беспокойной ночи, утомительно-сухой, шуршащей песком слабого ветерка, реальность выглядела зыбкой и вымученной. Канва наоборот, проступала особенно явно и резко. Ким прикрыл сухие утомленные веки. Напел старинную песенку, более похожую на деревенский заговор. Про нитку юркую да ловкую, про иглу проворную, про швею умелую… Тингали едва слышно шептала отдельные слова из песенки, Хол подсвистывал, точно поймав ровный монотонный ритм. Эта ровность была сейчас важнее всего: следовало плотно и точно настроиться друг на друга, чтобы ничего не происходило случайно, не в лад. У всякого ведь своя работа, свое умение…
Хол ловчее придерживает канву, ему хорошо видны искажения: здесь море, пусть оно древнее и песком ставшее, но – родное. Душа выра ощущает близость с ним, даже пересохшим дном.
Тингали усердно и внимательно наметывает кромку перемен, чтобы ничего не порвалось от резкого изменения. Затем выпарывает старые нитки, и ночь шумит песком сильнее, ветер крутится, взвихривает вьюны песчаных воронок и снова опадает до пугающе ровной тишины. Чтобы подкрасться и ударить сухим шершавым порывом в спину…
– Готово, – Тингали закашлялась и с трудом распрямила плечи. – Можно ослаблять нитку.
– Сперва спустимся. Прошлый раз нас едва не разбросало в разные стороны, когда ты выпорола старую стяжку, помнишь? – быстро шепнул Ким. Подхватил сестру на руки и пошел вниз по узкой неверной тропке. – Только там-то был лес… Там я мог помочь.
Выр сбежал по камням напрямки, с обычной для себя отчаянностью существа очень и очень молодого, уверенного: осторожность опасно похожа на трусость. Ким слышал, щупая камни и двигаясь без спешки, как под скалой в два голоса Хола отчитывают Ларна и Марница. И вовсе не трусость упоминают, как пару к осторожности, но противопоставляют им глупую лихость и «младенческую глупость». Хол молчит, виновато сопит и пьёт из фляги воду. Какой там азарт! На вершине он просто пересох… Кажется, Ларна первым сообразил: скрипнула кожа сумок. Запахло маслом, смешанным с травами.
– Уже лучше, – шепнул голос Хола. – Спасибо. Совсем сухое море, да. Море, где не могут жить выры. Страшно мне тут. Душа сохнет.
– Пойдем на юг, скоро ветер задышит солью, – пообещал Ларна. – Ты потерпи. Мы умнее станем, здесь ночами надо двигаться, а днем отдыхать в тени. Я подумаю, как ловчее приспособиться.
У основания тропки переминался Клык. Ждал. Принял Тингали на спину и зашагал к лагерю, подставляя крыло для Кима: держись, я вижу, все вы устали… Марница, помнившая прошлый случай с выпариванием нити на кривой короткой дороге, сама догадалась привести вьючных страфов, нагруженных по-походному. Все встали в тесный круг, Ларна снял Тингали со спины Клыка, но не отпустил. Ким обнял панцирь Хола и вцепился в руку Марницы.
– Можно, – решилась и скомандовала сама себе Тингали.
– Можно, – отозвался Хол.
Канва хрустнула и заскрипела, это было ощутимо даже не для слуха, а для чего-то глубокого, нутряного. По спинам вечерним холодком, небывалым в жаре пустошей, пробежал страх. Мир колыхнулся, растягиваясь и теряя привычную свою прочность. Первая волна перемен породила вторую, зримую и несомненную: загудел камень под ногами, ветер закрутил высокие и тёмные вьюны пыли, повёл их танцующий круговой хоровод всё шире, во мрак ночи, за пределы поля зрения.
Одна за другой, словно являющиеся из-под сдернутой ткани, засияли настоящей своей яркостью звезды. Снова дрогнула пустошь, волна зыби, гонящей крупные песчаные валы, прокатилась, зло и резко ударила в щит прикрывающих путников скал. Ветер стих, чтобы взорваться воем и свистом. Только-только очистившееся небо потемнело, гася светляки звезд.
– Прошлый раз был дождь, – с надеждой припомнила Тингали.
– Дождь… – восхитился выр.
Сине-серебряная многохвостая молния ударила в песок, яростно заплясала на вершинах скал. Один из её изломанных хлыстов оказался так близко, что волосы встали дыбом и затрещали.
И снова упала темная тишина. Тягостная, выжидательная. Никто не решился шевельнуться, отпустить сплетенных рук, хотя каждый надеялся: худшее позади.
Вторая молния осветила космы туч, стало видно: их не так уж много, сушь не желает сдаваться. Упали тяжёлые капли, зашумели всё гуще, их звук наполнил чашу сухого моря. Дождь оказался коротким, он не промочил песка, оставив после себя душноватую, пахнущую пылью, влажность. Отдыха и ожидаемой свежести она не принесла, лишь укутала окрестности от взгляда зеленовато-рыжей дымкой.
Ларна хмыкнул, усадил Тингали на одеяло и взялся деловито распаковывать вьюки.
– Конец чудесам, ночуем, – весело сообщил он. – Всем спать! Я буду дозорным. Я так решил.
– Ну, если ты решил, – хихикнула Тингали.
И послушно свернулась комочком на одеяле. Рядом лег Хол, усом касаясь руки девушки. Возле пристроилась Марница. Ким задал страфам вторую порцию корма и улёгся последним.
Едва затеплился огонек в лампаде предутренних сумерек, Ларна всех разбудил. В его серых глазах плескалось такое неподдельное и огромное удивление, что спорить и жаловаться на ранний подъем никто не стал. Ларна молча вывел всех из-за скалы и указал рукой на север, на горы. Выглядели они иначе, чем вчера. Сделались гораздо выше, на двух верхушках обозначились невиданные никем прежде белые снеговые шапки. Вся гряда сместилась и словно бы развернулась, подалась так, что южное её крыло стало ближе, а дальнее на северо-востоке сомкнулось с изломом второй гряды, хотя прежде барьер для южного ветра казался ровным, не имеющим изгибов и провалов.
Между цепочками гор образовалась низкая седловина. Отсюда, издали, она казалась тонкой щелью в створках высоченных каменных ворот. И в щели, на самой седловине, надежным запором для незваных гостей возвышался гордый белокаменный замок. Точнее, развалины замка, это видно с первого взгляда. Ким охнул и прочесал пальцами кудри.
– Так вот он где был! Я думал, эта песнь уже рассыпалась в пыль… Да и искать её я намеревался в краю серых туманов.
– Какая песнь, Кимочка? – сразу уточнила Тингали, восторженно рассматривающая замок.
– Когда люди уже признали власть выров, он ещё держался, – тихо ответил Ким. – Последним пал север, вот я и думал, что песнь сложили там… И что сам замок – тоже там. Воины в нем держали оборону точно не здешние, исконные северяне, это я знаю. Вряд ли кто в нынешнем мире помнит песнь. Но я должен был догадаться! Погодите, попробую напеть, как следует. Песнь медленная и нет в ней радости…
Ким прикрыл глаза и стал почти шепотом выговаривать слова.
- Собственной славою и судьбой
- Предан замок Семи ветров
- Нам отказали в праве на бой
- В праве встретить врагов.
- Мы дали клятву и сберегли
- Честь и силу сказанных слов…
- Слова рассыпались и легли
- Насмешкой для простаков.
- Повсюду окрест ослепляющий юг
- Он душит огнем жары
- И все пути замыкает в круг
- Насмешку чужой игры…
Ким грустно вздохнул. Снова глянул на разрушенные временем стены замка, имя которого он один и смог вспомнить. Ларна неторопливо поклонился развалинам и оглянулся на Кима, ожидая рассказа.
– Я напел только малую часть истории, – пояснил тот. – Говорят, замок Семи ветров отгораживал север от юга. Что ни разу его не брали враги и, якобы, никогда такого ему на роду не написано: сдаться и впустить противника в кольцо своих стен. Но выры, как теперь я понимаю, действительно обманули судьбу этого замка. Обошли его морем. Сшили мираж, искажение мира и отрицание всех путей… Полагаю, выйти из замка его защитники могли. Но вот вернуться – никогда… Замок словно сгинул из мира, утратил свой смысл. Не знаю, как долго ждали врага на перевале. И куда защитники, так и не удостоившиеся боя, ушли после. Может, кто-то из них оказался в рыбачьих селениях юга.
– Дедушка нашего Ларны, – гордо кивнула Тингали.
– Много раз «пра» дедушка, – усмехнулся Ларна, с новым интересом глянув на развалины и не отрекаясь от лестного родства. – В общем и целом… да. Ким, если возьмешься петь эту песнь, добавь в конце коротко так, без подробностей: ещё не известно, кого обманула судьба. Им не дали права на бой, они тут высохли и чуть не вымерли, отчаялись и ушли на юг, но я вернулся и вскрыл последнему кланду его гнилой панцирь. Дурное дело, ненадежное – бегать от боя. Все равно прошлое достанет и прищемит хвост.
Ларна еще раз рассмотрел развалины, розовеющие в лучах рассвета. Снова им поклонился и пошёл седлать страфов. До порта, – думал он, щурясь на ярое и жаркое солнце, хоть и низкое пока что, – никак не менее десяти дней, а то и все две недели пути, как ни гони страфов. Бедняга Хол изведётся… А ведь впереди, за проливом, станет только хуже! Зачем выры древности так нелепо и яростно стремились к власти? Нет сомнений: люди сами их довели до отчаяния, испоганив море. Но ответные дела выров не лучше, изуродовали мир до вовсе уж негодного состояния.
Месть создает больше боли, чем способна унять… Увы. И все же она многим желанна и сладка. Это заблуждение Ларна изучил подробно еще в столице, где ему норовили отомстить очень и очень многие. Ни сладости, ни облегчения не обрели. Разве – последний покой. Оглядев небольшой отряд, бывший выродер довольно улыбнулся. Может, они и не похожи на могучую боевую силу. Зато никто из спутников не готов искать в прошлом повода для обид и розни.
Глава третья.
Малёк. Южный пролив
В столице купить страфов не удалось. Малёк не захотел оттягивать отплытие: понимал, что вышивальщики будут выпарывать древний узор в пустошах. Значит, на море может пасть шторм, а то и хуже: вдруг изменится сам рисунок береговой линии? Новый путь до ар-Шархов сделается длиннее и труднее. Он, Малёк рэм-Бахта, самим Ларной поставлен на личной его галере капитаном, и он обязан всё предусмотреть. Исполнить указание в срок, вопреки помехам и неурядицам.
Проводив озерные галеры, Малёк бегом добрался до рынка. Оглядел загоны со страфами, приценился, морщась от наглости столичных перекупщиков. Вороного полукровку с кривоватыми ногами на локоть короче, чем у Клыка, отдавали за пять сотен золотом! Врали в глаза: белые перья в крыльях – знак породы. А рыжие в хвосте? Ах, эти… просто прилипли! Единственный более-менее годный страф ценился дороже галеры. Видимо, торговец опознал в Мальке помощника и друга самого Ларны, выродера страшного, но явно и безусловно, богатого безмерно.
Своего точного возраста Малёк не знал. У кого спросить, если он сирота? Ещё год назад выглядел щуплым недокормышем, ему и двенадцать давали с сомнением. Приобщившись к семье ар-Бахта быстро отъелся и раздался в плечах. Теперь и на четырнадцать выглядит вполне достоверно, но и в таком возрасте помощники капитанов – небыль… Но не повод завышать цены, словно он пацан и ума не нажил! Малёк нахмурился, в точности припомнил самое длинное и заковыристое из ругательств, подслушанных и выученных в порту. Отвернулся от онемевшего перекупщика и зашагал прочь, придерживая тяжёлый кошель. Еще надо закупить провизию, выбрать бочки под пресную воду: свои на галере старые, да и людей прибавилось. Присмотреть впрок хороший запасной парус. Взять людям лёгкую одежду, обычную для южан: жара не должна застать галеру врасплох. Много дел. Если кто-то думает, что он задирал нос и ничему не учился, только восторженно поддакивал Ларне – то ошибается. Потому что ещё не выучил главного правила: северянин слишком умён и опытен, чтобы дать в важном деле повод к спору и несогласию.
В полдень Малёк прибыл в порт на наёмной лодке, сопровождаемый вереницей подобных же, везущих покупки. Команда была уже в сборе, на борту. Погрузка прошла быстро, люди за месяц пребывания на берегу соскучились по морю. Напоследок Малёк написал два коротких тросна, попросил знакомых слободчан передать их во дворец, для ара Шрона. Ничего секретного: короткое сообщение об отбытии и указание времени в пути. И еще тёплое письмо к ару Жафу, старику уважаемому, знакомому недавно – но ставшему почти родным…
В предвечерний тихой час галера отошла от причала и взялась резать тонкий лист золота водной глади, направляясь точно в закат, к выходу из широкого устья Омута Слез, вливающегося в море множеством каналов, естественных и созданных людьми. Знакомые выры – сменившиеся с дозора стражи порта – подплыли, поздоровались и сами предложили помощь. Дотянули канатами аж до Ценнхи, сократив вдвое предполагаемое время первого дневного перехода. Там прощально качнули усами и ушли под воду, порыбачить в удовольствие.
Сумерки уже легли плотными красками южной черной сливы, затенили горизонт до неразличимости. Рыжие береговые факелы сотнями отсветов зажигали масло темной воды, плескались и перетекали, играли и качались. Видна была оконечность мыса, за ней – большая вода… Расправленный парус поймал северо-западный, вполне удачный, ветер. Люди разделились на две смены, ночная села на вёсла, сам Малёк встал у руля, даже не пытаясь прятать блестящую в глазах гордость. Он чуть не плакал, провожая друзей в пустоши. Но теперь, на палубе, оценил совсем иначе приказ капитана Ларны.
Второй день прошёл без приключений. На третий Малёк приказал держаться дальше от берега, опасаясь изменений в мире. И потому не удивился низкой длинной волне, качнувшей галеру в ночь перед четвёртым днём плаванья. Волна ушла в сторону острова ар-Фанга. Грозе, короткой и злой, разразившейся под утро, Малёк даже обрадовался: значит, перемены пошли в пользу. Воспитанник Шрома верил и в сомру Варсу, и в того полузабытого бога северных людей, которого Ларна именовал по-простому – Синеглазым. И грозу Ларна полагал не гневом божьим, а скорее благом и очищением.
К исходу десятого дня пути галера, миновав огромный залив Вырьей Клешни, добралась до оконечности южного мыса, выступающего в море от земель ар-Нашра. И повернула на восход, входя в широкий пролив, разделяющий обжитые земли и горячий, почти мёртвый край Великих Засух, у кромки которого боролись за выживание самые упрямые и дружные в своём соседстве люди и выры, полагающие земли рода ар-Раг своей родиной. Говорят, рабства и тем более тантовых кукол уже два века нет в землях южан. Об этом догадывались все кланды. Но проверяющие исправно закрывали глаза на такое нарушение закона. Потому что им намекали: иначе можно неожиданно оказаться вне спасительной тени. Песок в пустыне так горяч, что панцирь краснеет очень и очень быстро. Вернуться в столицу с полным отчетом и стать при этом красным выром не согласился никто… Потому что смутно подозревал: можно и вовсе не вернуться.
Люди на галере переоделись в закупленные капитаном светлые просторные штаны и такие же рубахи тонкого полотна, похвалили предусмотрительность и щедрость брэми Малька. Снова сели на весла, соблюдая достаточно плотный и требовательный ритм гребли. Ветер, как и рассчитывал юный капитан, в это время был попутно-боковым, что неплохо. Даже при том, что задувало с юго-запада, несло над морем сухую пустынную жару с привкусом песка на зубах. Неделя пути изрядно выгнала с потом жирок, накопленный за время сытой портовой жизни. Зачернила кожу загаром.
В порт столицы земель ар-Шархов галера вошла на закате девятнадцатого дня от отплытия из Усени. Более всего Малёк опасался увидеть на пристани Ларну, мрачного и утомлённого ожиданием. Готового сказать нечто вроде: «Стоило ли уважительно называть брэми такого лентяя и неумеху?». Вслух сероглазый подобного бы не произнес, но Малёк не мог избавиться от своего кошмара, и страшные слова звучали в ушах… Все же – первый раз он рассчитывал сам весь путь и определял нагрузку для людей. Он не посмел просить большего, ведь работали от души, для общего дела. Лишь один Ларна и способен яростно, бешено гнать – и так же лихо даровать отдых… Он бы провел галеру куда быстрее. И веселее. Он бы покрикивал: «А кто тут ленью зарос?»… Или: «Толстых рыбам на корм, жирных вырам на воспитание». Сам Малёк пока что покрикивать не умел. И не пытался, вышло бы лишь нелепо, он это понимал.
Дозорные выры порта взобрались по трапу, внимательно изучили знак рода ар-Бахта на корме. С долей недоумения рассмотрели капитана, мелкого даже для человека, недоросшего – так обычно это именуют земноводные. И все же толково управляющего командой, получающего в ответ полное уважение. Сверх того, принадлежащего к семье ар-Бахта, с правом на звание воспитанника самого ара Шрома! Лучшего из бойцов отмелей, известного каждому выру.
Столичные новости тут слышали кое-как и краем уха. Завершив не особо придирчивый досмотр выры охотно остались на борту и обсудили с необычным брэми, именуемым рэм-Бахта, новые законы, замирение с людьми и даже великую надежду на доступ к глубинам, столь важным для каждого выра.
Малёк, само собой, сразу спросил о Ларне и его спутниках. Выры дозора дружно качнули клешнями: курьер добрался и сообщил, должны скоро прибыть. Очень важные гости, их даже в замке ждут! Сам хранитель ар-Шарх, и с ним молодой Ронга ар-Раг, лучший боец юга, весьма уважаемый выр. Разве только… несколько непоседливый. То лезет лично сажать деревья, то вовсе глупости вытворяет – в пустыню ходит в дозор. Дважды так прожаривался, сказать стыдно: до красноты лап и грудной пластины. Несолидно это для знатного ара. Хорошо хоть, год назад перелинял и пока что смотрится достойно.
Упомянутый легкомысленный выр, надо отдать ему должное, постарался немедленно обеспечить полное соответствие сказанному о нем. Шумно плюхнулся в воду прямо со стены замка и поплыл к галере, издали начал азартно махать усами и гудеть, требуя внимания. Выбрался на палубу – все две сажени светло-серого с прозеленью, восхитительно мощного панциря. Потоптался, стряхивая воду. Изучил людей и выров на борту, представился, лег.
– Ты Малёк? – басовито уточнил он. – Это который наглец и Шрому на хвост сел? Везет же… Я вот не решился. Хотел всё бросить по молодости, по глупости, десять лет назад. Нырнуть от дома и вынырнуть у отмелей. Как же, славный боец, гроза полнопанцирных… Но мне быстро усы вывернули. Хранитель сказал: разве наш род не имеет должной славы? Разве дело спасения юга не требует твоей работы, личинка ты малоумная? Стало стыдно, я одумался. Я ар-Раг и горжусь этим… Твой род был плох – или ты просто хотел большего?
– Я не знаю своего рода. Я был рабом, – вздохнул Малёк.
– Тогда ты правильно выбрал хвост! – весело отозвался огромный выр. – Ох и интересно стало жить! Весть прошла: к нам в гости валят два… нет, три! Три рэм-Бахта. Люди из семьи выров. Ну, тут я уже не выдержал. Я нырнул от стен своего замка и вынырнул тут. Я буду вашим проводником.
– В пустыне? – поразился Малёк. – Разве выры могут туда пройти?
– Не особо далеко, – признал Ронга. – Но, знаешь, тут важно, пожалуй, не сколько дней идти, а куда в точности. Я знаю место. Очень подозрительное место. Туда направлю вас. Слегка подшпарю панцирь, пустяки. – Выр оживился и повел усами. – А кто вякнет, что я красный, тех сам позову на мелководье! У меня лучшие клешни на всём юге. Во, гляди. У Шрома сильно крупнее? Я его не видел три года. Что за слух бродит: вроде, он нырнул?
Галера за время беседы неторопливо добралась до причала. Ронга оборвал себя на полуслове, отмахнулся клешнёй от ответа, пусть и весьма желанного. Прыгнул на берег и принялся распоряжаться там, в порту рода ар-Шарх, как у себя дома. Все его знали и никто не спорил. В считанные мгновения команда оказалась расселена по лучшим трактирам и гостевым домам города. Ронга замер ненадолго в задумчивости. Осторожно уточнил:
– Ты таггу как, перевариваешь? В смысле запаха…
– Привык, – кивнул Малёк. – Даже нахожу, как сказал Ларна, пикантной. Люди ведь едят сыр с плесенью. Он пахнет не лучше, если без привычки.
– Сыр не пробовал, – окончательно развеселился Ронга. – Прыгай на спину, капитан. Я бегаю быстро, тут привыкли. Иначе не умею, такой уродился. Я иначе принимаюсь лезть во все дела и вреда от меня… в общем, прыгай. Ночь на дворе, не приведи глубины, задумаюсь и решу что-нибудь вытворить. Прошлый раз посоветовал трактирщику сломать сарай. Сам и помог… А там было пять страфов и три этих, меховых мелких, у них ещё задние лапы мощные, а передние покороче… как их? На них пашут.
– Бигли. Разбежались?
Выр азартно щёлкнул клешнями. Подал две пары рук, помогая устроиться на спине. Загнул назад короткие усы, сунул под руку – держись. И помчался по городу, на поворотах оседая до мостовой и скользя брюхом по камням, чтобы не терять ход. Редкие прохожие вздрагивали. Охали. Пару раз за спиной кричали: «Он опять явился, подлец!». Без особой злобы кричали. Скорее – весело…
– Точно, бигли! – крикнул выр на бегу. – Когда они разбежались, ничего такого опасного не произошло. Но когда я начал их ловить… Город это помнит! Хранитель ар-Шарх выгнал меня из своей столицы на полный год. За безобразное и недостойное ара поведение. Да: он и теперь меня аром не зовет. Недостоин я.
Выр затормозил всеми лапами, поймал на руки перекатившегося через его головогрудь Малька и поставил на мостовую. Ощущение мучительной качки, свойственной шторму немалой силы, не сразу покинуло сознание. Отдышавшись, Малёк пожал плечами, тряхнул головой – и юркнул в низкие двери трактира. Зал для приёма вырами тагги и людьми – пива был общим, Ронгу здесь знали.
– Когда ты утонешь, пропойца! – приветливо встретили его. – Или сваришься.
– Скорее уж сварюсь, – пообещал выр, забираясь на своё место, на длинную низкую лежанку у окошка. – Малёк, ты еще сильно недоросший? Пиво тебе заказать?
– Младенцев совращает с пути истинного, – мрачно пробормотал трактирщик, сочувственно глянув на нового посетителя. – Десять лет я здесь хозяин, от отца принял трактир. Десять лет мне обещают, что этот выр повзрослеет и остепенится… В длину он весьма серьёзно повзрослел. Дважды лежак переделывали. Тагги в него помещается столько, что погреб я вырыл новый, а как иначе? Но ум нейдёт к нему, стороной обплывает. – Трактирщик прищурился и задал совсем убийственный вопрос: – Правда ли, ар, что на тебе дома пашут, как на бигле, чтобы ты хоть так в утомление пришёл и дал покой окружающим?
– Гнусная сплетня, – возмутился выр. – Я лучше дюжины биглей! Они мелкие. Они плохо переносят жару, они слабы и не умеют корчевать старые корни. И камней не выворачивают. Ты бы видел меня в деле! Грохот на весь берег, пыль до небес, вспашка клешнями и лапами! Да у меня захват пять саженей. Если к хвосту что толковое успеть привязать.
– Когда ты полпорта снес, привязали явно толковое что-то, – ехидно подсказал сильно пьяный голос от самых дверей. – Нелюдь!
Повисла короткая тишина, трактирщик усердно нацедил тагги, шевеля бровями: дал указание своим людям. Сказавшего недопустимое и обижающее гостя выволокли на улицу и тычками в спину направили вдоль по ней. Малёк уселся за стол. Выр дернул вниз один стебель глаза – подмигнул. Прихватил двумя верхними руками шар с таггой, припал ртом к длинной тонкой трубке. Помолчал, наслаждаясь вкусом. Малёк опасливо принюхался к своей кружке: пиво он пробовал, но напиваться теперь, в звании капитана… Трактирщик рассудил мудро и наполнил кружку травяным настоем.
– Не томи, он нырнул? – повторил свой вопрос Ронга.
Малёк вздохнул. Поставил кружку на стол, удивляясь предостерегающему движению бровей трактирщика: что не так? Начал рассказывать всю историю, от самого первого дня, когда Ларна и Шром должны были умереть, принеся немалый доход подлецу-работорговцу, капитану гнилой галеры. А вместо этого объединились и начали новый и весьма опасный путь… Кто тогда мог подумать, как далеко он заведет обоих, да и не их одних? И как сильно изменит внутренне.
Ронга слушал азартно: стучал кружкой, хлестал усами по стенам, сбивая свежую – явно подновляли после его прежних посещений – побелку. Описание боевого флота кланда в бухте замка ар-Бахта и страшных дней осады повергло выра в неподвижность. Зато последующее спасение, бег страфа по воде и устранение боевых галер… Трактирщик успел крикнуть: «Берегись!», но смысла его предупреждения Малёк не понял, пока не увидел происходящего сам.
Ронга подпрыгнул на всех лапах, качнулся назад, упираясь согнутым хвостом в пол. И с хрустом и треском метнулся вперед, по стене, на потолок, снова на стену – и наконец, на свой сильно попорченный лежак…
– Теперь брэми знает, чем мое заведение отличается от прочих, – усмехнулся трактирщик, смахивая со стола обломки кружки. – Когда Ронга, лучший мой гость, третий раз снес стену и разворотил весь зал, я удумал эту вот штуковину. Беговую дорожку на потолке. Глядите: там изгибы. Чтобы он мог и заскочить, и спрыгнуть. Норов у него южный, такие вот дела… таггу подаю, извольте глянуть, в сушеных тыквах. Устал посуду покупать.
Малёк потрясенно кивнул. Ещё раз глянул на потолок и задумался: а каков был нрав Шрома лет двадцать назад? Есть поводы думать, что во многом похож на увиденное только что, именно так и говорил Шрон. Кому ещё верить, он старший в семье – Шрон, он мудр. Значит, Шром вырос и переменился. Разительно! Малёк поежился, глянув на Ронгу. Ему вдруг представилась на миг та, древняя, война. Множество азартных молодых выров, готовых идти в бой просто так. Словно бой – это развлечение. Да оно так и думали: в них сила играла, но вот, увы, не оказалось рядом старых, никто не заставил молодняк пахать и не сделал в трактирах полукруглого потолка…
– Ты так сильно испугался, что совсем замолчал? – осторожно уточнил Ронга. – Или тоже считаешь меня теперь нездоровым, как некоторые люди в городе?
– Просто задумался: все молодые неущербные выры сильны и горячи, или только…
– Ты меня не видел лет пять назад, – смутился выр. – Сейчас-то я попритих. Взрослею. Просто я очень рад встрече. Понимаешь? Я сижу и думаю: почему я сам не сломал панцирь кланду? Ну почему? Я ведь молод и силен.
– Потому что выры, даже молодые, не хотят воевать, – улыбнулся Малёк. – Просто вас надо чем-то занять. Например, вовремя отправлять на отмели, для расхода боевитости. Вы все быстро понимали: кланд живет в столице. Там нет боев и значит, там скучно. Потому никто его и не пытался смять. А когда вы умнели, взрослели…
– … и не находили прелести в торговле, золоте или тагге, тогда нас заказывали выродёрам, – тихо и грустно, без прежнего азарта, отозвался Ронга. – Я знаю. Я очень уважал обоих бойцов ар-Нашра. Как братьев любил… Мне будет трудно подать руку Ларне, их убийце. Но я внимательно выслушаю тебя, побегаю по потолку и привыкну к новому. Хорошо бы вспахать поле! Но здесь нет подходящего поля… Ларна придет завтра. Так что рассказывай, не мешай мне пить и бегать.
– Я буду очень стараться говорить интересно, – пообещал Малёк. – И знаешь… Ларна тоже изменился. Он был вроде вас, молодой и жадный до боя. Теперь он ищет иного. Семья ему важна, дом, покой вокруг, даже общее благо. Ну да ладно. Вот тебе история Хола ар-Ютра. Она не в черёд общему ходу событий, прежде надо бы иное изложить… но эта история славная! Слушай, как мы с ним спасли капитана Трага.
– Думаешь, после я дам круг? – выр весело описал усом предполагаемый свой бег по потолку.
– Два! – заверил Малёк.
– Впечатлил, уважаю, жду, – прогудел Ронга.
Трактирщик подкатил на малом столике блюдо с жареной рыбой и посоветовал не перемещать на основной: чем дальше от Ронги еда и питье, тем больше надежды их скушать, а не смять или размазать по полу… Для выра, шумно и насмешливо осуждаемого хозяином заведения, тоже имелось угощение. Достойное похвалы, если понимать во вкусах выров. Нелюбимым гостям разве станут подобное готовить? Впрочем, и шумно, изобретательно на нелюбимых не ругаются.
Малёк разбирал жирную полупрозрачную рыбину, прожаренную до золотой корочки в незнакомых приправах. Приберегал напоследок, отламывая по малому кусочку, ломтики запеченной в сухариках икры, поданные отдельно на малом блюдце. И рассказывал. Больше он не удивлялся манере Ронги вскакивать и без разгона взбираться на стену, да так лихо и резво, что его тяжеленная туша удерживалась от падения даже на потолке. Посетители каждый забег отмечали стуком кружек по столам и криками: «Ещё разок!», «Наддай, крутни два оборота».
– У вас всегда люди так мирно уживаются с вырами? – спросил Малёк, слегка утомившись, но доведя рассказ до появления Шрома в столице.
– Не всегда, – нехотя развел руками Ронга. – Разные мы, к тому же с некоторых пор ар-Шархи взялись угождать кланду, ведь тот посулил золото. Когда своего дохода нет, на многое можно согласиться. Но последнее время стало получше. Думаешь, я только по глупости тут сношу сараи? – Выр перешел на булькающий шепот: – Страфы в том сарае были – курьерские! Столичные! Мы, ар-Раги, крепко против того стояли, чтобы наши соседи предали юг и взялись служить мягкохвостым гнильцам из-за денег. Мы близко, кланд далеко. Опять же, я не только страфов и биглей в городе ловил. Я нечаянно прижал к стене столичного выра так, что хвост у него сделался вовсе плоский. Он понял намёк и незамедлительно слинял назад в Усень. Так-то…
– Замок Рагов богат? – удивился Малёк.
– Не особенно, – развел верхними руками выр. – Но ткани самые дивные на весь мир, тонкие, делаются у нас, наши люди сохранили секрет. Опять же, травы у нас полезные, мор на птиц не нападал, наш хранитель запретил покупать птенцов на этом берегу, на больном. Мы производим лучшие тросновые листки, тонкие и гладкие. И замок наш в должной сухости, нет гнили. Оттого мы неущербны по большей части, а сейчас вот – все братья из живущих полнопанцирные. Пять нас в замке, еще старый в столице. Братьев ты увидишь: все пять вполне собой хороши. Как кость мы были в горле у кланда. Два раза за последние двадцать лет нас заказывали выродёрам. Не Ларне, другим. Мы выловили их. Одного предали казни, он ничего лучшего не заслуживал. Другому предложили выбор: смерть или служба. Помнишь, я говорил о странном месте в песках? Вот он туда и ходил. Вернулся еле живой от сухости и жары. Записал всё, что видел. Теперь живёт в наших землях, мы разрешили. Дальше рассказывай о столице, я тебя угощаю, чтобы слушать, а не чтобы говорить самому! Или рыба не вкусна? Только намекни, я незамедлительно разгромлю трактир.
– Ты при деньгах? – без малейшего страха в голосе оживился трактирщик, вроде бы и не слушавший чужого разговора. Подбежал к столу и указал на дальнюю стену, затем на остальные, по очереди. – Туда громить пойдёшь, готовь сорок кархонов. Туда – семьдесят, пятьдесят и сто. Добротный полный разгром встанет тебе в…
– Не потяну, – признал Ронга, весело хлестнув усами по потолку и тем ссыпав щепоть побелки на голову трактирщика. – Придётся ограничиться мирной ночевкой. Комнаты мне и капитану Мальку приготовишь?
– Выры ар-Раги, – гордо приосанился трактирщик, возвышая голос, – в замке нашего хранителя ар-Шарха не живут. Потому что мой трактир куда краше и уютнее. И капитаны дальние, северные, тут останавливаются на ночлег.
– Погрома не будет? – огорчились за дальним столом.
Трактирщик не изволил услышать подлого намека на любовь к зрелищу разрушения его заведения, развернулся и удалился во внутренние помещения, видимо, готовить ночлег для гостей. Малек доел рыбу, завершил историю последнего боя Шрома и схватки Ларны с кландом, закованным в сталь доспеха поверх панциря. Отмечая победу выродёра, Ронга сделал-таки два оборота по своей беговой дорожке. Чуть помедлил и добавил ещё два. Отдышался, жадно выпил тагги.
– Я подам ему всё руки, шесть, – заверил он Малька. – Человек зарубил на суше выра в стальном панцире? Вооруженного выра! Одним топором, имея всего две руки и тонкий малый доспех? Он мне нравится. Ты сыт? Отдыхай, здесь хорошие комнаты и для людей, и для выров. Утром побежим в пустыню и встретим гостей, первыми. Уже люблю их всех, ты хороший рассказчик.
«Встретить первыми» – нелепая идея…
Ещё в пустошах, на краю опасных земель, в обозначенном заранее месте, имелась первая застава встречающих. Люди из Горнивы привезли, как и было уговорено, воду, пищу. Натянули толстый двухслойный полог для отдыха. Убедили путников передвигаться ночами, как и намечал Ларна, подтвердили правильность отдыха днем. Выделили проводника, указавшего следующую заставу. Даже сникший и пересохший Хол через три таких удобных перехода повеселел и счёл пустоши вовсе не опасными для подготовленного выра, которого сопровождают опытные люди. Еще два перехода – и Хол освоился с сухопутным ритмом жизни. Вспомнил, что он – лоцман. То есть проводник! Занял место передового всадника в группе. Он первым заметил встречающих – не людей Горнивы, других. Пригляделся, ощупал длинными пальцами верхних рук канву, которую понимал с каждым днем всё полнее и точнее.
– Малёк! – голос предательски сорвался в детский писк восторга.
Выр отдал повод и защелкал, убеждая вороного поторопиться. Страф принял сразу с шага в резвый скок и очень скоро домчался до высокого уступа, вершину которого занимал незнакомый светло-серый с прозеленью выр. Ронга – а это, само собой, был он – приветственно шевельнул усами. Буркнул Мальку «держись» и, надеясь на силу лап и привычку, сиганул со скалы вниз, хотя там были камни…
– Человек едет верхом на мне, – прогудел он, подбираясь вплотную к страфу и поглубже пряча из осторожности глаза в надглазья, – выр катается на вороном! Воистину, мир изменился. Славно! Я рад. Хол ар-Ютр, приветствую. Мой замок и моё сердце открыты для тебя. Но есть одно условие: следующий раз приезжай гостить со своим дядькой, с капитаном Трагом.
Ронга обернулся к подъехавшему, спрыгнувшему со страфа Ларне. Исполняя своё обещание, протянул ему все руки.
– Как видишь, они пусты, – торжественно сообщил выр. – Я не держу на тебя зла, бывший выродёр. Ведь бывший?
Ларна кивнул и улыбнулся в усы, раскрыл свои ладони. Неторопливо, соблюдая ритуал примирения, провел ими по вырьим пальцам. Помог спешиться Тингали, представил всех спутников и пошел рядом с Ронгой, рассказывая о столице, выслушивая новости юга. Снова кивнул, признавая точность планов молодого ар-Рага: в замке ар-Шархов придётся задержаться по крайней мере на неделю, меньше – невежливо, их хранитель ждёт пересказа столичных известий и сплетен. Что ещё важнее – за это время Хол восстановит силы и подготовится к встрече с пустыней: ему следует погрузиться в масло, чтобы пропитаться им впрок. Земли за проливом сухи и недобры к вырам, а прощённый после исполнения службы пожилой выродер, знающий не понаслышке о «странном месте», живет теперь далеко от берега. Туда, собственно, Ронга и намеревается проводить гостей. Чтобы своими ушами услышали рассказ и задали вопросы, если они накопятся.
Глава четвёртая.
Ларна. Великий ящер юга
Берег южных земель ар-Рагов за проливом удалось вблизи рассмотреть лишь десять дней спустя. На людской лад край именовался Арагжа: древнее название его забылось, а новое уважение к вырам ар-Раг накопилось и стало так велико, что их имя впиталось в имя земель, стало неотъемлемой его частью.
В порту Ронгу встретили радостно. Тут его чудачества не полагали обидными или нелепыми. Скорее находили в них повод для гордости: вот как силен младший ар семьи!
Тингали общего приветственного шума не слушала. Она с восторгом рассматривала деревья, высаженные у самого причала для создания тени. Ничего подобного в жизни не доводилось видеть! Крона круглая и плоская, ствол ровный, невероятного красного цвета. Веточки ещё темнее – багровые. Плетутся тонким узором, так плотно – небо сквозь них едва видать! А листва-то зеленая, яркая и густая. Не дерево – а прямо гриб-беседка от солнышка. И красиво, и прохладно, и уютно. Хочется сделать вышивку на память, хоть так сохранить радость первого взгляда на плетение дивных ветвей. Но – увы… Для багрянца надобны те самые «золотые» нитки из столичной лавки, сочтённые слишком крикливыми, негодными к делу.
Север не ведает столь яростных цветов! Север приучил её глаза к тонким оттенкам, мягким, как теперь кажется, прелым и изрядно выцветшим… Ларна усмехнулся в усы. Вот уж на кого глянуть боязно! Всё примечает и на все у него найдется слово. Пойди заранее угадай, насмешливое или сочувственное. Тингали несмело улыбнулась в ответ. Припомнила, как сказал ей однажды сероглазый: он вдвое старше. Тогда слова показались обидой, острым намёком на её невзрослость. Теперь, пройдя бок о бок с бывшим выродёром непростой путь через пустоши, обиду удалось высушить и развеять по ветру… Да, вдвое старше. И потому за его спиной спокойно. Пусть себе насмехается, ведь не со зла, просто иначе не умеет. Привык к хищному миру и сам заранее клыки показывает – даже в улыбке.
Ларна ничего не сказал. Молча запустил руку в походный мешок, извлёк тряпицу и сунул в ладони. Тингали жадно разворошила подарок. И рассмеялась. Те самые «золотые» нитки!
– Откуда ты вызнал, что пригодятся мне? – поразилась она.
– Этот край порой зовут праздничным узором Ткущей, – отозвался Ларна, обнимая за плечо и толкая из тени дерева вперёд, ведь все уже покинули причал. – Ты не видела здешних мест, я сам – тоже… Но я был наслышан. Мне рассказывал приятель. Мол, кто пристанет раз к берегу Арагжи и глянет на её прибрежные долины, особенно закатные или рассветные, тот или возненавидит край и утратит покой, стремясь покинуть его, или полюбит… и более не захочет отплыть никуда.
– Возненавидит? – не поняла Тингали.
– Моей душе в этом крике цвета нет родных звуков, – поморщился Ларна. – Видно, я и правда принадлежу северу. Точно, как было обещано: глянул и готов дать команду к отплытию. Мне видится кровь в плоских красных деревьях. Море тут яркое, незнакомого цвета, словно я вдруг стал морю чужой. Нет, Тинка. Не моя это земля. Никогда не поворачивал назад, но теперь был бы рад. В предчувствие беды я не верю. Но – испытываю. От Клыка не отходи ни на шаг, обещаешь? Он получше меня охранник. И ему тоже не по сердцу этот край.
Подтверждая слова Ларны, вороной страф сам занял место рядом с рукой и двигался по широкой улице танцующим коротким шагом, высоко вскидывая лапы и демонстративно лязгая выбрасываемыми и втягиваемыми когтями. От урождённой масти, полуночной, за время пути по пескам мало что осталось: перо под безжалостным солнцем будто переплавилось, обрело тон закаленной стали, серо-перламутровый.
Тингали положила руку на тёплую чешую стрьфей ноги, улыбнулась. Чего бояться ей при таких защитниках? Да и Кимочка вон – близко идёт, с Марей беседу завёл, улыбается. Им обоим нравится Арагжа. Глянцевые чёрные волосы Марницы так и летят над плечами: женщина оглядывается, крутит головой. Синие глаза горят ярко, южное небо их наполнило сиянием глубокого цвета, настоящего…
Малёк закончил разгрузку галеры, убедился, что люди размещены удобно, и догнал своего капитана. Отчитался, пошёл рядом. Он тоже улыбается, захвачен в плен яркостью праздника здешних красок. Того и гляди, в танец пустится. Только хмурость капитана и мешает ему радоваться в полную силу. Ларна чуть усмехнулся.
– Не на тот хвост ты сел, воспитанник Шрома. Избрал бы родичами ар-Рагов, жил бы в их замке. Глядел бы со стены на плюшки древесных крон. Сверху они, пожалуй, поприятнее смотрятся. Зеленые, и всего-то. Без крови стволов.
– Какая кровь, брэми капитан? Это праздничный красный цвет, даже в Синге так украшают улицы перед боями выров на мелководье. У выров кровь бурая с зеленью, начни разбираться, всякое болото им мерзостно своим цветом, – обиделся Малёк. Вздохнул. – Шром мне родня, этого нельзя изменить из-за здешней красоты. У него душа ещё краше. Но саженцы я попрошу у Ронги: вдруг приживутся и у нас?
Ларна неопределённо повел бровью, но вслух не ответил. Догнал Кима, попросил по возможности не растягивать надолго очередное вежливое посещение замка. Года не хватит, если каждому ару хранителю рассказывать столичные новости! Между тем, сам Ронга упредил: через три недели, а то и раньше, может упасть большая песчаная буря. Никому не пережить такой ужас в сухих землях вне обжитого берега… Ронга согласно качнул усами и ответил за Кима: в замке подождут. Гости выйдут из песков и тогда будут нуждаться в отдыхе, это южные выры понимают, и потому держат свернутым парус любопытства.
Пока что надо спешить, гость прав… Уже собран в путь караван, это южное слово, и здесь оно ещё живёт, забытое на большой земле. Бочонки с водой, запас масла для панцирей, пологи, натянутые на седла четырёх страфов, обученных бежать и стоять ровно, создавая тень – всё подготовлено за городом. До жилья старого выродёра два перехода. Ронга пристроился возле Ларны, прицелил в него глаза на стеблях.
– Говорят, летом на севере ночь коротка, а зимой длинна, – сообщил он. – Нелепо. Неудобно! Если бы мы так жили, прокляли бы лето. У нас время разделяется почти ровно меж тенью и светом. Это правильно и удобно.
– Ким изложил сказку, – усмехнулся Ларна. – Про древние времена. За Серыми туманами есть, по его уверениям, земля, где ночь длится всю зиму. От бессолнечной жизни люди с непривычки теряют ум. И летом не легче. Солнце торчит в небе без устали, не даёт сна и вытравливает покой из души. Не знаю… Может, и правда. Но всё же мне нравится разный по длине день. Зимой пасмурно, и мысли охотнее идут в голову. Летом жарко, и дела движутся споро. У вас же нет разницы в жизни. Течёт она день за днем, и всяк похож на следующий и предыдущий. Утром ясно да празднично, после обеда над побережьем во влажный сезон дождь хлынет, духоту нагонит. К ночи всё высохнет. Нет, не мой это край.
– Барта так же говорил, – развеселился Ронга. – Тот выродёр, старый. Потом привык. Отбил себе подружку у местных. Дом выстроил. Личинок… то есть деток, у него двое. Теперь твердит иное: в одинаковости дней молодость ему видится более длинной. Не убегают в прошлое годы, как на севере, сезонами: приметно и даже досадно. Сам спроси у него. Хорошо в Арагже жить. Очень хорошо!
– Спрошу… – Ларна остановился и досадливо качнул головой, оглянувшись. – Тинка! И на кой я прикупил лишние нитки! Идём, вышивальщица. Отдыхай, пока можно. Неужто опять вся в шитье? Ну-ка, проверим. Ты сильно замерзла?
– Да…
– Тагги хочешь выпить?
– Да… ага, сейчас.
– Понятно. Плохо дело, – вздохнул Ларна и подозвал Ронгу. – Подставляй спину, пока она не споткнулась и не подвернула ногу.
Тингали говорила, но, как верно заметил Ларна, сама себя не слышала.
Она уже никого не слышала, с головой уйдя в работу. Юг казался ей особенным, достойным вышивания большого парадного узора. Ткань имелась: подходящий платок ещё в порту ар-Шархов перед отплытием приглядел и подарил Ким. Один сестре, второй – Марнице. Южной выделки, легкий, прохладный на ощупь. Цвет в нём играл и шевелился, довольно чуть погладить ткань. Золото – основной тон одного края – то выцветало, то лоснилось тёмным загаром, то сухо сыпалось рыжим песком. А другой край наливался синевой, уходящей в ночной сумрак. Красота! Но и она без вышивки пустовата… Тингали на ощупь добралась туда, куда потянул за руку Ларна. Заползла на панцирь Ронги, продолжая кивать и соглашаться с любыми утверждениями. Рядом довольно скоро устроился Хол. Рассмотрел платок, последил немного за движениями иглы Тингали, пытаясь точнее понять её замысел. Добыл свою иглу и стал шить со стороны ночи, придирчиво подбирая нити.
– Вот разобрало обоих! – возмутилась Марница. – Ну, юг. Ну, небо тут взору в радость. Море тёплое. Так в Горниве летом не хуже.
– У тебя глаз иначе устроен, – улыбнулся Ким. – Они вышивальщики. Им новое ложится в душу, узором и на канву просится. Они ощущают мир острее иных людей… и выров. Принимают свой дар и пробуют с нами поделиться хоть так – вышивкой. Простыми нитками ведь работают, а душу вкладывают без меры. Красиво будет, уже теперь вижу.
– В пустошах они шили узор скал и камней, в море им волны чем-то глянулись, – вздохнула Марница, поясняя происходящее Ронге. – Так что терпи. Это надолго.
– У меня широкая спина, я крупный выр, – гордо отозвался тот. – Я умею бегать ровно и быстро. Как вузиби.
– Кто?
Выр молча указал усом вперед. Там, у окончания улицы, на пыльной площади, плотно затененной кронами красных деревьев, гостей ждал их караван. Группой стояли смуглые до черноты люди с короткими кудрявыми волосами. При каждом движении позвякивали браслетами на руках и ногах. У некоторых кольца украшений были узкие, у других более широкие и со сложным узором. Сами люди были укутаны до пят в похожие светлые ткани, выглядящие опрятно и даже богато. Сперва Марнице показалось: пусть и одеты достойно, но все же это – рабы, на браслетах должен быть знак выров ар-Раг. Иначе зачем таскать тяжеленные медные и деревянные кольца, да еще по такой жаре?
Но ближний из людей гибко поклонился Ронге. Улыбнулся, блеснув ярко-белыми зубами. Гордо поправил браслеты – на его руках и ногах были самые широкие, таких не носил более никто – и куда глубже и церемоннее склонился перед гостями. Рост смуглого южанина был немалым, сложение достойным воина, пусть и выглядел он сухим, пустыня свое дело сделала. В глазах, темных до черноты, крупных и озорных, то металось солнечными бликами, то пряталось под ресницами веселое упрямство, невозможное для раба. Да и держался человек уверенно, а его указания прочими исполнялись мгновенно. По первому жесту, даже без слов.
– Приветствую, брэми. Я проводник. Зовусь Вагузи, я знаю пустыню. И, что ещё важнее, умею говорить на языке севера. Мы тут живём своим укладом, и язык у нас свой. Ары его учат, и мы их речь разумеем. Мы живём поодаль от замка юга, мы дети песка, даже в города побережья приходим редко. Для нас вы очень далеко… – Смуглый проводник широко раскрыл глаза и демонстративно глянул на север из-под руки. – Вас из пустыни и не видать. Меня всем племенем заставляли учить вашу речь. Я думал: зачем? Но теперь знаю ответ. Я старался для двух красивых молодых брэми с севера. Буду знакомиться. Может, вы поселитесь у нас? Буря пройдет, наступит сезон большого дождя. Праздник! Я стану танцевать, все станут. Как иначе выбрать себе жену? Надо тешить песчаного ящера, отца всех вузиби.
Проводник хитро подмигнул оглаживающему свой топор Ларне. Прищурился, пытаясь понять, которую из красивых северных брэми тот полагает своей, раз взгляд серых глаз блеснул холодной угрозой.
Вагузи улыбнулся напоследок и Киму, отвернулся. Гортанно крикнул, поднимая караван в путь. Цепочкой выстроилась дюжина тощих, словно высушенных заживо, серо-рыжих страфов с поклажей. А следом – и тут Ларна восторженно хмыкнул – поднялся из пыли десяток вузиби. Все сразу поняли: именно этих неведомых северу зверей и зовут столь странным именем. По виду – ящерицы, каких и в Горниве немало. Греются летом на камнях, а зимой спят, даже слабый холод делает их вялыми. Но те ящерицы малы, самое большее, в ладонь размером, да ещё хвост той же длины или чуть поболее…
Вузиби совсем иные. Они широкоспины, неторопливы, мастью так сливаются с песком, что пока лежали, казались холмами рыжей пыли. Но вот – поднялись на лапах, расставленных по бокам от тела, стало возможно их рассмотреть. Всякий ящер длиной поболее сажени, да ещё и хвост, мощный и тяжелый, оставляющий неровную полосу следа на песке. Морды плоские, пасти широкие, длинный язык то появляется, то пропадает в их зубастом зеве. За угощением на руке проводника ящеры дотягиваются издали – с расстояния в полную сажень!
Обладатель тяжёлых браслетов уселся на спину самого крупного ящера, подогнув ноги. Махнул широкими, как крылья, рукавами. Четыре страфа с пологом ткани немедленно подбежали и заняли места, делая путь для Ронги тенистее, приятнее.
– Я много буду говорить, – снова улыбнулся проводник. – Мне надо учить ваш язык. Кто здесь его знает, в порту? Есть такие, не редкость. А там, в песках? Только Барта! Он хитрый. Отбил себе дочь вождя, очень красивую, выучил наше наречие, все четыре его звучания. И прежний свой язык не забыл, северный. Там, наверное, у него тоже была красивая жена. С синими глазами. – Проводник вздохнул, глядя снизу вверх на шипящую от его наглости Марницу, не пожелавшую покинуть седло Клыка. – Синие самые красивые. Как вода. У нас мало воды. Мы поём о ней, мы мечтаем о ней. Мы танцуем, когда приходит дождь.
Ларна выбрал из сопровождающих караван людей самого безобидного и хмурого на вид – авось, не станет трещать без умолку – и показал ему серебряный арх. Жестом испросил место на спине вузиби. Смуглый человек весело кивнул, очень похожим жестом достал серебро и изъявил желание забраться в седло вороного страфа. Угостил птицу лепешкой, дал воды, радуясь безвозмездному обмену, выгодному обоим седокам. Погладил пепельные перья, шепча нечто едва слышное и явно хвалебное. Ларна зевнул, улегся на широкой чешуйчатой спине, закрытой ковром. И заснул. Впрок: мало ли, что ждёт впереди… При всей своей неприязни к югу от жары он не страдал и от бессонницы, обещанной приятелем, невзлюбившим пустынный край, – тоже.
Караван шёл мерно и довольно быстро, без остановок до самого заката. Потом был короткий отдых, ужин – и снова проводник объявил: пора в путь. Вузиби сменили на свежих. Рыжих страфов тоже взяли новых, благо, выры ар-Раг и их люди всё подготовили заранее: воду и пищу в пути, тень, верховых и вьючных животных. Ларна умылся и мрачно глянул на проводника. Тот, кажется, не смолкал ни на миг всю дорогу. Навязчивое желание укоротить язык любителю танцев и чужих синеглазых невест росло. Оно заставляло поглаживать широкий нож и щуриться. Хотя… Марница и ему, Ларне, – чужая невеста. Пусть её защищает Ким. Давно пора всерьез этим заняться, пока сама она кое-кому не вырезала язык, – прикинул бывший выродёр, наблюдая, как гордо восседает на страфе утомленная болтовней синеглазая ар-клари севера. Кажется, Ким и сам пришел к тому же выводу.
– Сказок юга я знаю мало, – пожаловался он негромко и доверительно, меняя тему разговора. – Разве легенду о великом ящере Вузи и его древнем враге.
– Их весьма много, песен и легенд о ящере. Наше племя поет о Вузи и черном выродке пепла, жгущем мир жарой, – сразу отозвался Вагузи.
– На севере, в Безвременном лесу, уцелела в общем плетении сказок песнь про бой сына песков Вузи и черного Аспида, – задумчиво сказал Ким. – Но, может быть, это неверное имя. Порой названия сильно меняются, когда их несколько раз передают на слух, не понимая полного и верного звучания.
– И не надо его помнить, – едва слышно шепнул Вагузи. – Вы гости, вы не понимаете, что говорите. Мы никогда не называем вслух его имя. Никогда! Он обитает там, в глубине жары. Сила его безмерна. В древности Вузи мог противостоять, но теперь…
Проводник смущенно развел руки в красивом, гибком жесте. Он не захотел словами обозначить поражение того, кому поклонялся его народ.
– Вузи дает нам жить тут, у берега. Но большего не может. Он ослаб, – сочувственно и виновато вздохнул проводник. – Его дети, ящеры вузиби, могучи, они могут идти через сушь и десять дней без воды. И даже пятнадцать! Мой таков, я растил его от первого дня. Но после и для лучших наступает смерть. Мы прижаты к морю. Когда Вузи проиграет последний бой, мы или покинем свой родной край, или высохнем, не согласившись расстаться с Арагжей.
– Кто помогает чёрному, если он стал так силен? – Ларна временно отбросил предубеждение к проводнику, заинтересованный бедами местных богов. – Может, пора мне опять начать поиски злодея-колдуна?
– Колдуна-злодея? Не знаю такого. Мы сами виноваты, – едва слышно и явно нехотя признал проводник. – Говорят, наши предки в неразумии своем принесли жертвы тёмному. Пели ему и даже дарили невест. Синеглазых, украденных за проливом. Сказали повелителю суховеев: возьми себе воду. Пусть наш дом не достанется врагу. Пусть никому не достанется… Они были злыми и не любили свой берег. Как можно предать того, кто защищает твой род? Наши предки предали Вузи. Он был тяжко ранен их подлостью и отвернулся от людей.
Проводник снова взмахнул руками, совершая ритуальный жест, словно плеснул в лицо воду и сбросил брызги… Снял один из браслетов и бережно погладил его узор. На ладони показал Киму, затем Ларне, не отдавая в руки: по браслету вился длинным сильным телом ящер, он рвал когтями лап и зубами многоголового змея. Противники тесно переплелись, бой их выглядел так, словно оба замерли в полном напряжении сил. Ящер передавил врагу шею, змей оплел хвостом тело ящера. Кто не выдержит и первым лишится сил? Вагузи виновато улыбнулся Киму.
– У тебя красивая невеста. Я вижу, она смотрит на тебя. Не сердись, я просто сказал: красивая. Я не буду танцевать ни во время дождя, ни после. В нашем народе есть те, кто носит браслеты с полным узором боя. Мы принадлежим Вузи. Мы ждём… Вдруг однажды он простит нас и согласится принять помощь… или хотя бы жертву. Но пока нет знака.
– Кто видит знаки? – заинтересовался Ларна. – Я вот искал колдуна лет десять. И тоже впустую. Потому что его нет.
– Я вижу знаки, – гордо сообщил Вагузи. – Таким родился. Нас сразу отличают: у нас взгляд от рождения осмысленный. Говорят, это страшно со стороны. Потом мы растём, и для нас видна всякая дорога в пустыне. Потому все мы – проводники.
– Много вас сейчас? – нарушила молчание Марница, подъезжая ближе и склоняясь с седла, чтобы рассмотреть браслет.
– Двое, – отозвался Вагузи, поднимая повыше браслет на ладони. – О, я удивил тебя! Ты думала: в пустыне сошли с ума все. Высохли их головы, они каждый день дарят ящеру детей! Я знаю, на севере нас считают дикими и глупыми. Но мы не таковы. Мы правда видим знаки… только их нет. Но я в сомнениях. Нехорошо вести в пустыню синеглазую женщину. Может, ты вернёшься к берегу? Знаков нет, но пески шумят и текут. Горизонт на юге полон тьмой.
– Так ведь ночь уже легла, – упрямо тряхнула волосами Марница.
– Темнота и тьма – разные. Но это твой выбор. Я проводник, – внезапно обиделся Вагузи, надел браслет на руку и ссутулился. – Мне заплатили пять золотых кархонов, и я веду. Три раза сказал: бесполезно. И старший Вагузи прежде говорил: врёт ваш северянин, не был он в «странном месте». Но дело проводника вести, а не давать советы. Почему ничтожному в понимании песков Барте сказали идти в жару? Почему поверили ему, когда он вернулся? Постаревшие проводники моего народа, когда рождается новый ребенок с разумным взглядом, уходят в пески. И ни один не вернулся! Оттуда нет обратного пути. Но человек севера лгал, а ему верили… Я учился у лжеца речи севера. Может, и я теперь лгу?
Проводник резким сердитым движением накинул на голову платок и закрепил его налобной повязкой. Кинул длинный конец так, чтобы закутаться до самых глаз – и окончательно погрузился в молчание. Ронга подобрался поближе.
– Все верят тебе. Просто надо попробовать. Понимаешь? Они в пустошах добыли из ничего целую гору с белой шапкой наверху. Никто таких сроду не видал! В той шапке вода. Может, и у нас есть гора с водой.
– Ты ещё невзрослый, – вынырнул из своего платка возмущённый проводник. – Вода не бывает на горе! Вода стекает вниз! Она жидкая! Понимаешь? Сколько я рассказывал тебе легенд пустыни… Но ты усвоил только одну, про бой Вузи. И полагаешь, что мог бы ему помочь лучше меня! Ты – выр! Ты для песка не создан… Никто не слушает меня, когда я серьёзен. Зато все достают ножи и зло хмурятся, когда я в шутку предлагаю: давай потанцуем, синеглазая. Но стоит всерьёз сказать: ваш северянин прикинется больным и не выйдет к нам… И вы меня не слушаете! Ничуть!
– Не страдай так. Скоро увидим, – утешил Ронга. – Всё равно вышивальщикам надо пройти в пустыню. Я не рискну туда двинуться с вами. Но тебя отпущу. Волей и правом ара, и пусть хоть всё твоё племя шипит и ругается под стенами замка, требуя оградить от бед их драгоценного Вагузи. Доволен?
– Да, – оживился проводник. – Правда отпустишь?
– Когда я-то врал? – поразился Ронга. – Сперва научи врать, а потом уж глупости спрашивай. Далеко ещё нам бежать? Я слегка подсох.
– Быстро идём, – задумался проводник. – До зари будем на месте. Двойной переход сделали, потому что сменили ящеров.
Утром Тингали, с обычным для себя легким недоумением, рассматривала только что завершённую общую с Холом работу. Недоверчиво трогала нити узора и пыталась понять: кто вплел в рисунок ящера? Она таких и не видывала… Может, Хол? Молодой выр возмущенно щёлкал своими маленькими клешнями, как раз годными обкусывать нитки. Зачем ему нужны ящеры в узоре? Он шил ночь, еще шил закат и рассвет, пески и ветер.
– Тинка, сошла бы ты за святую и вещую, если бы так не удивлялась сделанному, – насмехался Ларна. – Ты отвечала невпопад, но сама невольно слушала наш разговор и вплетала его в узор. Вот как я думаю. Ещё мне кажется, даже Ким не может разделить, когда ты шьёшь нитками души, а когда балуешься обычными. Платок сильный, в нём есть движение. Или я заспался и мне чудится невесть что?
– Может, и есть движение, – смутилась Тингали. – Мы старались. Пустыня тут необычная, в ней канва дышит и гнётся, словно она непрочна. Хотя явных примет беды я не вижу. Ларна, где мы?
– Ты на моей спине, – буркнул Ронга. – Было бы хорошо, если бы ты слезла. Я хочу облиться маслом и напиться воды. Досыта! Вагузи, где твои помощники? Я уже почти свободен…
Тингали покраснела от неловкости и сползла в песок. Отвернулась от выра, словно подглядывать за его мытьём невежливо. Познакомилась сознательно – последняя из всех – с проводником. Показала платок и спросила про ящера в узоре. Выслушала с ещё большим недоумением: всё точно, Вузи именно таким видится народу песков. Решительно замотала головой, отказываясь дарить и продавать платок.
– Один получил пояс и теперь невесть где, то ли жив, то ли мертв. Второй, – всхлипнула Тингали, указав на Ларну, – в столице три недели кольчугу не снимал. Убить его норовят что ни день. Нет, не хороши мои подарки. Не проси.
– Все Вагузи живут только ради победы ящера в последнем бою, – проводник осторожно погладил край платка. – Наше имя что означает? Воины, созданные помогать Вузи. Я пою для него, я слежу за знаками и хожу в пески. Когда родится новый Вагузи, я отдам его семье своего ящера и уйду пешком в жару, искать последнюю дорогу. Понимаешь? Я живу ради Вузи. Если твой платок способен помочь ему…
– Тьфу на вас, все вы с ума сошли! – всхлипнула Тингали, торопливо оглядываясь и разыскивая Ларну. – Никому жизнь не дорога. Никому, кто мои вышивки берёт. Не отдам! Живите, как жили. Не хочу я за всех отвечать и гадать, моим ли шитьём вы втравлены в беду.
– Она подумает, – рассмеялся Ларна, устраиваясь рядом. – Девицы – они такие, сперва «нет» и «ни за что», а потом как потанцуют под дождиком и песен послушают, так добреют и задумываются.
– Ларна!
– Тинка, ты вчера отвечала на вопросы весь вечер, и обязательно говорила невпопад, – усмехнулся злодей, хитро щурясь. – Шубу просила, таггу соглашалась пить, за Вагузи замуж идти была готова. Обещала усмирить бурю.
– Как… замуж? – глаза у Тингали стали огромными и испуганными. Она тряхнула головой, оглянулась в поисках помощи. – Маря, да что же это? Какую я таггу пить собиралась? Врут ведь! Этот злодей усатый всех подначивал, точно?
– Следующий раз шей молча, – фыркнула Марница. – Всё точно. Таггу ты пообещала пить кружками, зелёную. Как раз я забавлялась и уточняла. Подумай про платок как следует. У парня в башке крепко засела мысль: надо найти этого их Вузи. Чего тебе, платка жаль для хорошего дела?
– А цена за тот платок какова? Я сама не ведаю! – Тингали опасливо глянула на узор. Взвесила вещицу на руке. – Тянет вниз и вес имеет немалый… Ох, чем же мы шили-то? Кимочка! Ким! Спасай…
Она наконец-то огляделась по сторонам, удивляясь в полную силу новому для себя месту. Песок, рыжий и неровный, до самого горизонта лежит однообразными пологими холмами. Последний язык жухлой травы скорчился под ногами. Лачуга прячется поодаль, в жиденькой тени кустарника. У порога сидит, упрямо поджав пухлые губы, маленькая стройная женщина. Голова гордо поднята, плечи развернуты. Роскошные волосы уложены в высокую причёску из множества косичек, украшенных палочками, бусинами, лентами и ракушками. Все это великолепие вздрагивает и покачивается, когда она очередной раз что-то упрямо отказывается делать. Ким сидит рядом и явно устал уговаривать. Ну вот: отвернулся, встал и пошёл прочь от лачуги. К каравану.
– Кимочка! Они говорят…
– Врёт, – сердито бросил брат, усаживаясь в тени под пологом, который по-прежнему удерживали на спинах страфы. – Плачет, глотает слёзы и всё равно врёт. Дома её муж, а она сидит на пороге и не даёт пройти. Говорит: болеет тяжело, нельзя беспокоить. Но лекарь не нужен… Что могу сразу сказать? Ходил он в пески. Довольно далеко. Но ничего странного не видел. Так я понимаю это враньё.
– Брэми Барта? – весело уточнил Вагузи. – Хоть кто-то говорит умные слова! Ходил и не видел, точно так! Выры сами виноваты. Сказали: или умри, или иди туда, в жару. И тоже умри! Он подумал и выбрал жизнь. Разве он не прав? По-своему прав. Не здешний он, за наши грехи платить ему не резон.
– Твоя манера произносить слова с отчетливым столичным выговором сводит с ума, – усмехнулся Ларна. – Выродёр был родом не из деревни, явно. «Не резон». Ким, ты это слышал?
– Ронга, простите вы этого Барту окончательно, без условий, – взмолился Ким. – Он хоть на тот берег съездит и навестит родню. Наверняка в Усени осталась толпа близких, все его оплакали, и все будут рады внукам. Он устал от вранья. Как я думаю, жена его чем-то опоила, чтобы он не признался сгоряча и не был наказан. Дикая она и упрямая. Сколько мы сидели? Она всё время твердила, какой муж хороший и как много ей сделал подарков. Красивая женщина и любит его, сразу видно.
Ронга согласно качнул клешнями. Тяжело вздохнул.
– Не хочу отпускать вас в пустыню. Нет мне покоя. Плохое решение… Это ведь я придумал: позвать младшего Вагузи, непоседу этого. Проводника, знающего дороги. Как услышал про гору с белой шапкой в пустошах, так и сошёл с ума. Вдруг и у нас спрятана подобная? Вдруг имеется вода? Курьера ещё из замка ар-Шархов послал и приказал настрого: обязательно вызвать Вагузи, сколько бы ни запросило его племя за работу.
– Мы углубимся в пустыню на три перехода, – осторожно уточнил план Ким. – Больше нельзя, Хол не выдержит. Если странное обнаружится, осторожно понаблюдаем и уйдём. Если нет – не обессудь.
– Здесь вас будут ждать, – твердо пообещал Ронга. – Я вернусь в порт и стану ждать там. Тяжело и мучительно это – ждать. Придётся пахать много и глубоко, чтобы не сбежать в пески и не искать вас до пересыхания панциря. Вы поосторожнее. И пока отдыхайте, день – не время для странствий.
Вагузи просиял улыбкой, гибко поднялся и пошёл выбирать страфов и вузиби для своего малого каравана. Начал разговаривать с соплеменниками, сортировать тюки с грузом – продуктами, маслом и водой. Тингали опасливо следила за движениями своего «жениха». С содроганием пыталась понять: как же это она согласилась на всё перечисленное, и даже изъявила намерение пить таггу? Нашла руку Ларны и виновато уткнулась носом в сгиб его локтя.
– Ты не отдавай меня никому, ладно? Мало ли, что я говорю, когда шью.
– Ты мой личный репей, – усмехнулся Ларна, обнял за плечи и повел к раскинутым поблизости пологам. – Пусть только сунутся поить таггой и звать в танец. Топор наточен. Спи спокойно.
– Ларна, с платком-то что делать?
– Вернемся из пустыни – решишь, – успокоил тот в ответ. – Спи, не вздыхай.
– Ты посидишь рядом? Вдруг этот вернется? Глазастый, с браслетами…
Ларна рассмеялся и кивнул. Даже подсунул руку под голову и позволил устроиться на ладони, как на подушке. Задумчиво пригляделся к сонному лицу. Отметил перемены последних недель. В замке ар-Бахта он шутил шутки с девочкой, веселой и беззаботной, доверчиво распахивающей глаза навстречу всему новому. И вот поди ты – выросла… То ли лицо осунулось в сухости пустошей и юга, то ли так резко и быстро переменили её беды и заботы, спрессованные безумием последних недель. Но – стала взрослее, точно. Такую её вдвое жальче. На страфе сидит, горбится и закусывает губу: боится отстать и показать слабость. У костерков хлопочет, пытается хозяйствовать. Шьет, себя не жалея. Душу вкладывает в дело. Болью исходит, потому что все её шитье людям не обходится даром.
Ларна попробовал осторожно вытянуть руку из-под головы Тингали. Та упрямо зашипела во сне и крепче впилась пальцами в запястье. Пришлось щекотать ниткой ухо. Помогло: завозилась, накрылась тонкой тканью, похожей на вышитый платок, и заодно отпустила руку. Стало возможно выбрать чуть в стороне место и устроиться отдыхать. Бешеное солнце казалось ярким и горячим сквозь двойной полог. Оно высушивало, насквозь прожаривало жалкую рукотворную тень. Горело алым пламенем под закрытыми веками, беспокоило, обещало беду. «Ты здесь чужой», – кричало в полный голос солнце юга. И Ларна понимал его говор…
Проснулся он в расплавленной жаре предзакатного рыжего света. Поморщился, поднимаясь и нехотя признавая себя неполно отдохнувшим. Усмехнулся: рядом замер чёрным изваянием покоя проводник. Подкрался, ловок… Сидит без своего широкого одеяния. В одной повязке на бёдрах.
– Пустыня к тебе недобра, – сообщил свои наблюдения Вагузи. – Я не умею позвать Вузи и победить в большом бою. Но я знаю, как выиграть малый. Тьма проникает тайными тропами в каждого из нас. Надо её убивать. Пошли, самое время.
– Есть у меня подозрение, – зевнул Ларна, заинтересованно рассматривая сухое ладно скроенное тело проводника, – что ты колдун. Было время, я хотел убить колдуна. Чёрного, вредного. То есть сильно похожего на тебя.
– Может, и колдун, стр-рашный, – широко раскрыл глаза Вагузи и воздел руки, угрожающе и с отчетливой насмешкой пугая врага. Грустно усмехнулся. – Знаю все песни песков, слышу их голос. Но силы во мне нет. Прежние Вагузи, древние, были иными. Они могли в человеке суть его разбудить или наоборот, сделать врага ничтожным. Слова наши обладали властью. Но мы предали своё служение. Мне стыдно носить имя древних. Твой друг более достоин его. Мы долго говорили с ним. Он служил бы Вузи лучше, чем я.
Проводник выскользнул из-под полога, Ларна стащил тонкую рубаху и заторопился следом. Солнце хлестнуло по глазам, ослепляя в первое мгновенье. Притерпевшись, Ларна снова уделил внимание смуглому проводнику. Тот двигался безупречно, словно танцевал. Тело лоснилось, казалось невесомым и бесконечно гибким.
– Ты сказал про Кима? – удивился Ларна.
– Конечно, – улыбнулся Вагузи. – Он колдун. Сильный, настоящий. Его слова могут убить. Могут напоить лучше воды. Только он не служит Вузи, бывает и так. Я не видел никогда вашего леса. Но я рад, что северный колдун не предал лес, как мы предали пустыню. Пошли убивать тьму. Ты очень смешной. Здесь бледный, как трус. А тут красный, как ошпаренный выр. Обиделся?
– Есть маленько, – обнадежил Ларна.
– Хорошо. Обида – проявление тьмы. Надо убивать, – с прежним упрямством заверил проводник и танцующим шагом направился прочь от лагеря.
Поддел ногой длинную палку, вынудил её подпрыгнуть, поймал и не глядя бросил за спину – врагу. Поддел вторую и ловко крутанул в руке. Ларна изучил палку – удобная, прочная. Незнакомой древесины, упругой и пустотелой. Хороша как раз для боя в пустыне, где махать тяжеленной оглоблей грузового воза – нелепо, вся сила с потом уйдет. Вагузи огляделся, убеждаясь, что лагерь скрылся за песчаным холмом. Поклонился интересному врагу и перехватил палку в ритуальном жесте приветствия, подняв до уровня глаз на раскрытых ладонях вытянутых вперед рук.
– В лицо бить нельзя, пытаться проткнуть и сильно ранить нельзя, если расщепится, совсем бить нельзя, опасно, – сообщил он правила. Нехотя снял браслеты и уложил на песок. – Так честно, они тяжёлые, бьют больно и блок ставят хорошо.
Ларна отбил первый удар, примеряясь к незнакомому оружию. И подумал, что странный проводник, согласный зваться колдуном, ему теперь наконец-то нравится. Отлупить Вагузи хочется, и получить синяки от него – тоже неплохо. В любом случае уйдёт накопленная неприязнь первого знакомства, когда Вагузи показался пустым и глупым человеком. Треплом, годным лишь развлекать чужаков. Наглым наёмником, чей поганый язык обсуждает женщин так, словно всё ему дозволено, словно золото выров оплатило не только его услуги, но и его безнаказанность дикаря.
– Ты прав, – хрипло выдохнул Ларна, когда по общему согласию была объявлена передышка. – Тьма накопилась. И она хорошо убивается палками.
– Конечно, прав, – белые зубы блеснули в широкой улыбке. – Нельзя идти в пески, если изнутри сушит злоба. Я тебе не нравился, потому что ты меня не бил. Ты мне не нравился, потому что я не мог тебе ответить.
– Редко удаётся встретить толкового бойца, – вздохнул Ларна. – Слушай, я так и не разобрался: Вагузи – это имя?
– Имя колдуна, как ты назвал меня. Полное мое имя Младший Вагузи, потому что нас сейчас двое среди живущих. Всегда двое, если не сложился редкий день, когда старый уходит в пески, а младенец, его наследник, уже явился в мир.
– Ты очень большая редкость и ценность для своего народа, – прищурился Ларна. – И тебя можно нанять за пять золотых?
– Это оговоренная цена. Мы уважаем выров замка Раг. Можно её предложить, но кто будет проводником, решаю я. Или сам приду, или пришлю молодого владельца вузиби. Годного, знающего пески. Когда прочитал тросн Ронги, сразу собрался в порт. Мне почудилась надежда в его послании. – Вагузи тяжело вздохнул, потёр синяк на плече. – Теперь я убиваю и твою, и свою тьму. Сомнения грызут мою душу. Нельзя идти в пески, так мне кажется. Но явных знаков нет и угрозы нет. Как поступить?
– Ты спросил у Кима?
– Да. Он велел убивать сомнения и посоветовал обратиться к тебе, – улыбка Вагузи стала шире. – Хороший совет. Ты не устал?
– Очень обидно, – насмешливо похвалил Ларна. – Мне начинает нравиться ваша пустыня при наличии такого языкастого и вредного проводника.
Он поднял палку на ладонях и поклонился. Отбил удар, лениво подвинулся: оба бойца уже выплеснули накопившееся и теперь работали медленно и плавно, изучая движения и приёмы друг друга. Переговаривались, находя тьму надежно «убитой».
В лагерь вернулись, когда солнце плавило песок, касаясь края горизонта своим огненным боком. Все ждали в полной готовности. Тингали беспокойно комкала платок и вертелась на спине вузиби. Марница стояла возле пасти своего ящера и училась кормить его с руки. Ким беззаботно дремал. Малёк и Хол вдвоём делили спину крупного ящера и держали поводья трёх вороных страфов, избранных сопровождать группу. Ронга лежал в тени и, поникнув усами, страдал от необходимости провожать и расставаться.
Вагузи с поклоном принял полный кувшин воды и выплеснул на голову. Довольно рассмеялся, натянул просторную одежду прямо на мокрое тело. Ларна проделал то же самое и уселся на спину указанного ему ящера, чувствуя себя отдохнувшим удачно, полно.
– Да поможет нам Вузи, если он хоть изредка слушает и слышит меня, – напутствовал всех Вагузи, взбираясь на своего ящера.
Маленький караван тронулся в путь.
Ночь медленно студила пески, и под утро дышать сделалось легко. Захотелось даже укутаться в покрывало или большой платок: холодно! Вагузи улыбнулся, посоветовал радоваться столь приятному и, увы – недолгому, отдыху от жары. Потому что впереди день. Здесь, в песках, достаточно далеко от берега, он ужасен. На рассвете проводник объявил привал. Быстро возвёл пологи, благодаря за помощь и охотно принимая её. Устроил первым на отдых Хола, промыв его панцирь водой и пропитав маслом. Предложил всем наслаждаться тенью и ушёл задавать корм и воду животным. Проверил спины трех вьючных вузиби, осмотрел лапы вороных страфов, опасаясь коварства мелкого песка, способного забиться под когти и вызвать хромоту. И наконец Вагузи закончил дела, позволил себе лечь и задремать, отдыхая.
Второй ночной переход дался довольно легко, хотя пески даже после заката остывали медленно. Люди начали привыкать к движению ящеров и нашли его удобным, неутомительным. Вот только куда шёл караван, понимал лишь его проводник: все холмы казались одинаковыми, их схожесть пугала и путала. Пепельные в свете слабой старой луны, песчаные горы то явятся седым пологим горбом, то сгинут… Словно и нет ничего настоящего вокруг, словно вся серость ночи – затянувшийся кошмар, смесь недавней духоты и пронзительного предрассветного озноба.
Вагузи подал знак к остановке, едва край неба на востоке показал первые признаки осветления. Спрыгнул со спины вузиби и подошел к Киму.
– Мне совсем не нравится здесь, – тихо сообщил он. – Стоит признаться… я проводник и вёл вас, вопрос – куда вёл. Не было возможности выбрать дорогу, старый выродёр не указал верного пути. Нет такого совсем, я знал всегда. Я решил по своему разумению: повёл вас так, как для себя выбрал бы. Здесь мой последний путь в пустыню, куда уходим однажды все мы – Вагузи, когда иссякает наше время у берега. Мы пытаемся пройти к великому Вузи… и оказать ему помощь.
– Я догадался, – так же тихо отозвался Ким.
– Но впереди нет более дороги, – почти испуганно выдохнул проводник. – Я вижу! Её словно обрубили. Там, за холмом. Один подъём, один спуск… и всё. Не надо вам всем идти дальше. Веришь?
– Верю. Но подъём мы должны одолеть. И взглянуть на то, что обрывает дорогу.
– Все, кто взглянул, не вернулись, – твердо заверил Вагузи. – Я думаю, старый выродёр имел чутьё и ушёл назад как раз так, в одном подъёме от конца пути. Он понял страх и не стал ему противиться. Оставайтесь тут. Я один пойду дальше. Расскажу с вершины холма, что увижу. Назад вас выведут память и опыт Ларны. И мой вузиби, он умеет возвращаться по своему следу.
Ким задумался, подозвал Тингали, за руки потянул её и проводника ближе к Холу, лежащему на спине ящера вяло, бессильно.
– За вами слово, вышивальщики. Что с канвой впереди?
– Там непонятно, Кимочка, – усомнилась Тингали. – Нитки спутаны. Не шитья нити, а самой канвы. Словно их, мира основу, безжалостно драли. Волокна распушились. Не вижу сквозь это. Не ощущаю надёжно, поближе глянуть бы. Оно древнее и тёмное, словно бочаг в болоте Сомры. Недавно я его вовсе не ощущала, как мы сюда подошли и остановились, оно вроде бы подтянулось и стало проявляться.
– Мёртвое место, – тихо выдохнул Хол. – Все в нём сохнет и гибнет. Страшно. Я не трус, но тут мне страшно. Я не ощущаю более, где в точности беда. Вы все говорите: за тем холмом. Но я отвернулся, я гляжу на море у вас за спинами. И я вижу там точно такую же беду. Куда идешь, там она и проявляется. Так я ощущаю.
Вагузи беспокойно поправил свои браслеты, проследил пальцем узор ящера на правом и напел тягуче-длинное слово незнакомого наречия. Эхо отказалось подхватить его, звук угас сразу, словно прибитый к песку. Тишина показалась излишней и ненастоящей. Горизонт на востоке грелся мутным светом, словно там вспухал большой ожог.
– Никто никуда не пойдёт один, – решительно сказал Ким. Глянул на Вагузи. – Ты выбрал тот самый путь, который привел нас к «странному». Ты очень толковый проводник. Остаётся рассмотреть беду. Понять её – и найти выход… Ларна, приглядывай за Тингали. Я буду беречь Малька. Марница – Хола. Вагузи отвечает за вьючных ящеров. Где платок с вышивкой юга?
– Тут, Кимочка, – сразу отозвалась Тингали, с надеждой глядя на брата.
– Пусть остается пока что у тебя, если не попросят его. Есть вышивки леса? Ты, вроде, их делала на галере. И Хол пробовал. Отдайте мне.
Вышивальщики дружно перебрали тощие мешки с личными вещами и протянули требуемое. Два малых платка, пробные узоры на лоскутах, один недоделанный поясок. Ким нахмурился, достал свой пояс с зайцами и марником, плотно завязал поверх одежды. Снова неодобрительно глянул на лихорадочный румянец, охватывающий горизонт. Вздохнул.
– Если бы тут имелся хоть малый лесок…
Он оборвал себя на полуслове, упрямо тряхнул головой. Зачем жаловаться? Марница подошла, поймала руку в свои ладони и погладила, пробуя хоть так утешить.
– За Холом следи, он слаб и высох, не должен даже двигаться, ты так думаешь. И я тоже. Но всё же следи, здесь действительно странное место, – почти сердито велел Ким. – Вагузи, мы идём вперёд. Какой нам требуется холм?
– Хол прав, сейчас уже годен любой, – опасливо удивился проводник. – Везде дорога вверх, вниз – и обрыв её… Но исходно мы шли туда. Я бы предпочёл не менять направления.
Он прихватил своего ящера за отстающую кожу шеи и зашагал вперёд. Двигались точно по линии между днём и ночью. С одной стороны на склоне – серый ночной песок, с другой – багрово-рыжий утренний. Каждое движение приближало плавный перегиб горба холма. И взгляды приковывала его верхушка. Так полно и так надежно, что повернуть голову уже казалось невозможно. Да и остановиться – тоже… Зачем? Движение ровное, жары нет. Вузиби идут охотно, на их спинах удобно сидеть, и шагать рядом тоже хорошо, держась за кожу в мелком узоре прохладной чешуи.
– Достаточно, – резко приказал Ким. – Стойте!
Вагузи первым очнулся и торопливо дернул складку своего ящера, легко погладил по голове соседнего, сказал несколько певучих слов. Ким оглянулся, с трудом преодолевая себя и отворачиваясь от пустой тёмной долины впереди, в которой нечто шевелилось, невнятное и требующее изучения. Поймал за плечи Малька, восторженно взирающего в недра этого «нечто» и улыбающегося всё шире, безумнее. Влепил мальчишке короткую пощёчину и столкнул со спины ящера в песок. Ларна вполголоса выругался, привычно ухвати за косу Тингали, когда та бросилась к страфу. Рывок стащил девушку в песок, неудачно и болезненно. Она охнула, смолкла. Марница испуганно оглянулась на Кима: как он? Вспомнила про Хола. Торопливо шагнула к его ящеру… Вскрикнула и щелкнула языком, подзывая Клыка: выр уже покинул спину вузиби и во все лапы мчался по склону вниз!
Страф догнал Хола в три прыжка. Сзади что-то крикнул Ким, Вагузи гортанно и длинно выдохнул незнакомое слово, Ларна смачно выругался. Марница не отвлекалась на их крики. Пока не важно. Страф держал лапой упрямо ползущего вперед Хола и сам съезжал всё ниже вместе с ним.
Пришлось прыгать из седла и силой разворачивать вырьи глаза на стеблях назад, запрещая им всматриваться в то, что так притягивало взор.
– Там глубины, – упрямо заверил выр. – Я нырну и помогу Шрому! Я вижу его, уже почти вижу. Ему нужна помощь!
– Дрянь малолетняя, выродок ошпаренный, – сквозь зубы обозлилась Марница. – Назад!
Она запоздало припомнила: у выров есть на «лице» еще два глаза, способные видеть то, что творится или чудится внизу, в долине. Безжалостно сыпанула пригоршню песка. Хол заверещал и остановился, забился, пробуя руками тереть глаза. Притих. Марница торопливо уложила Клыка на песок и пинками загнала выра в седло. Песок казался живым. Он был текучим, почти жидким. Страф испуганно клокотал и рвался. Вскочил, ловко припадая на лапы и опираясь всей их поверхностью. Марница рассмотрела даже тонкую плёнку меж пальцев, прежде никогда не казавшуюся важной для движения, хранимую в складке лапы.
– Назад, туда! – приказала она страфу.
Клык нехотя подчинился хозяйке, почти ползком, с выпушенными когтями, двинулся вверх по склону. Песок потёк быстрее, и страф рванулся, сердито зашипел, упал на грудь, расправляя перья крыльев и взбивая пыль лапами. Такого способа передвижения Марница никогда прежде не наблюдала. В голову само вплыло: зато слышала о нем. По болоту страфы порой ползают, когда внизу – трясина и нет дна… Точно, как теперь: собственные ноги не ощущают опоры, их тянет вниз, песок течёт и жадно шелестит.
– Лови!
Марница вскинула голову, запретив себе бояться. Увидела, как Клыка придерживает за повод Ларна, как сбивает с седла Хола. Как по песку скользит к самой руке длинная лёгкая палка, любимая игрушка проводника. Пальцы обхватили древесину. Вторая палка скользнула и тоже была удачно поймана.
– Вот так их положи и не двигайся, – велел Вагузи, руками указав, как следует разместить палки. – Просто держись. Пока – просто держись. Говорил же, синеглазая, сиди в порту…
Одна из палок была посередине обвязана тонким ремнём, и другой конец ремня держал всё тот же проводник, а Малёк уже вязал конец к упряжи ящера. Ким глядел на происходящее молча и торопливо перебирал в руках клоки с вышивками. От его отстраненного спокойного взгляда Марнице сделалось неуютно. Словно всё уже решено, и так оно сложилось нехорошо, так нездорово…
– Не пробуйте тянуть, не отдаст оно, – уверенно велел Ким. Оглянулся на пожар восхода. – Нашли мы «странное», как же… Оно само нашло нас. Ловушка тут древня, и изготовлена она для шьющих… А ещё тут могила вырыта для сказок. Самое обидное: не выры нагадили, Ларна. Тут и гулял твой колдун, тут он и чудил. Третья сила, как же… Всё та же, неизменная – злоба людская. К разуму она глуха, о будущем не задумывается. Как сказал Вагузи? Пусть никому не достанется эта земля? Именно, в точности. Канва разорвана. Изрядный клок выдран, безжалостно. Неявленное из него так прёт, что и глянуть боязно. Всем приказываю настрого: из круга ни ногой, если хотите вернуться назад. Пользы от вас никакой, оно вмиг сожрёт вас и даже не заметит. Маря, лежи тихо. Я вытащу тебя. А вот дальше – это уже зависит не от меня. Помнишь, что сказал? Ты стоишь между мною и лесом. Узнаешь зайца – твой… если он уцелеет.
Ким коротко, почти неприметно, улыбнулся уголками губ. Шагнул в сторону от ящеров. Дернул канву отданной ему Тинкой вышивки платка, удерживаемого в руках. Поддел ногтем нитку, и та хрустнула, загудела неожиданно громко, как лопнувшая струна. Хол снова рванулся бежать вниз, но Ларна ухватил его за хвост и без жалости оглушил по панцирю обухом топора.
– Ким, из круга вышивальщики живыми не выйдут, – мрачно пообещал бывший выродер, наматывая на руку косу Тингали. – Только где круг?
– Уже делаю, – отозвался Ким.
Он и правда, шагал по песку и ронял малые обрывки нитки, выпарывая из вышивки по стежочку. Марница помнила этот узор: Тингали шила его на галере. Хотела платок себе сделать парадный, с синим купом и розовым марником, с мхом да кудрявой мелкой заячьей травкой… Сейчас по стежку исчезала как раз трава. Падала в песок и тотчас вырастала из него – зелёная, плотная, хоть и невысокая. Ким шёл по кругу и сеял её, двигался всё быстрее. Словно боялся опоздать. Марница знала, почему: за ноги её тянуло всё злее, рукам едва хватало силы удерживать палку. Крупный вузиби упирался лапами и жалобно шипел, но его тащило на ремне, всё ближе к краю зеленого круга. Вагузи запел, не отрывая взгляда от долины. Поправил браслеты на руках и погладил пальцами медный узор ящера.
– Я позвал Вузи. Ответа нет… но есть боль, внятная, – тихо удивился он.
– Сказано тебе: могила тут для ваших южных сказок, – глухо и зло отозвался Ким, выпарывая с узора мох. – Канву мира что делает прочной? Память людская, потому люди и выры в мир вплетены. Они часть его важная, разум его и воля. Любимцы богов… или их игрушка, не важно сейчас. Сказка, тот же лес безвременный – изнанка канвы жизни. Души потаённый угол. В яви ему не место, но и без него нет порядка. На севере дед Сомра подхватил канву и смерть в неё не впустил. Нет за вырами этого греха по его милости. А здесь назрел разрыв. Старый закон погиб, новый установить оказалось некому. Ваша вечная засуха и есть – беззаконие…
Ким закончил посев и на миг остановился, повёл рукой, наполняя круг ровной зеленью травы. Дрогнул бровью и нарисовал пальцем в воздухе ветки и стволы, они немедленно явились и дали настоящую тень, спасении для иссохшей души. Тингали очнулась, охнула, схватилась за голову, не глядя более вниз, в долину.
– Кимочка! Да как же это? Что теперь будет, заяц ты мой… ты же…
– Не причитай, выгребай все нитки, какие для меня в душе накоплены и для леса – тоже, – велел Ким и протянул ладонь к самой кромке круга.
Тингали торопливо кивнула, прикусив губу. С явным усилием сжала пальцы, дернула от себя вперед руку и осела на траву, бледнея. Ларна поймал, уложил поудобнее. Перехватил топор и стащил с ближнего ящера ковёр, бросил на выра, чтобы тот, очнувшись, не глядел в опасную долину и не рвался снова бежать туда. Ким уже отвернулся и спускался по склону всё ниже, но песок не тёк под его ногами, лежал плотно. Ким добрался до Марницы, подал ей руку и одним рывком вытащил тело из ловушки песка. Уронил раздерганный платок с остатками вышивки – и тот развернулся полянкой, маленькой и уютной. Ким быстро усадил свою невесту в траву, погладил по голове, шепнул несколько слов, нагоняя сон, развязал свой пояс с марником и зайцами, и сунул ей в ладонь.
– Может, пригодится, – предположил он с долей сомнения в голосе. – Спи. Дома хорошо, прохладно. Дожди идут… Мамка тебя наверняка что ни день, зовёт с порога, глядит из-под руки и ждёт. Спи, Маря. Здесь не для людей место, здесь чуда лесные, и те еле-еле удерживаются на краю явленного. Зато и власть наша велика тут… где мы рождаемся и умираем. Вне вашего круга, людского.
Ким улыбнулся и убрал руку. Полянка заросла травой гуще, над ней взметнулись кусты ивняка, укрыли спящую ветками, заплели.
Лесовик отвернулся, пошёл далее вниз по склону не оглядываясь и всё более сутулясь. Тень его скользила рядом, вовсе несоразмерная людской фигурке, лохматая, огромная, косолапая… Тингали очнулась, всхлипнула и глянула в долину. Более не донимали её ложные мороки. Не чудилась давно забытая и вдруг явившаяся родная деревня со старой избой, не звучал в ушах детским обманом взволновавшейся памяти мамин крик: «Домой»… Даже имя прежнее не помнилось, хотя недавно – Тингали готова была поклясться – она разобрала его и приняла, как родное. И побежала домой… Но, едва Ларна дернул за косу, морок распался, оставив горечь утраты детства и дома.
Рядом присел Вагузи, погладил руку. Посмотрел просительно и жадно своими тёмными глазами, пугающе огромными.
– Тингали, подари платок. Очень надо, как раз теперь. Без него и брату твоему умирать, и нам не жить, не успею я вывести вас. Песок уже весь чёрный, тьма в нём, совсем затянуло нас бедой. Подари! Я ведь так и так не пойду назад. Тут заканчивается моя дорога. Моя, но не ваша. Каждый должен совершить свое дело. И я понял свое окончательно.
– Кимочка сказал: держать, если не спросят, – тихо шепнула Тингали, дрожащими пальцами гладя платок. – Ты спросил. Я отдам, но я прежде должна сказать тебе: цену придётся платить. Какую, я не ведаю, это Пряха решает. Или Ткущая. Понимаешь?
– У вас Пряха, у нас мать земли, льющая слёзы дождей, – улыбнулся проводник. – Знаю. И оплачу. Это хорошая цена, правильная. Это старый долг всех Вагузи. Значит, и мой долг тоже. Люди изранили Вузи, людям его и лечить.
Тингали виновато пожала плечами и протянула платок. Тонкий. Весь он льётся, и весь как вода – прохладный. В узоре шевельнулась спина рыжего ящера. Тёмные пальцы проводника приняли ткань жадно, торопливо. Вагузи сдернул с головы свой светлый в полоску платок, накинул новый, прижал налобной повязкой и рассмеялся, глядя в долину без опаски, с интересом. Насеянный Кимом лес стоял низкий и настороженный, шелестел полупрозрачной листвой. Ким спустился на самое дно долины и выглядел со спины незнакомо: рослым, широким, сутулым и коротконогим. Одежда его едва угадывалась, лохмотьями висела, и Ким обдирал её, сердито поводя тяжелыми плечами.
Чёрный, как и сказал Вагузи, песок тёк и слоился, вздымался вьюнами вихрей и затоплял воздух сумраком тончайшей пыли. В свете раннего алого солнца, кровью ложащегося на дно чаши долины, зрелище выглядело чудовищным, окончательно страшным.
– Кровь и смерть, – сквозь зубы буркнул Ларна. – Я рассмотрел ещё от берега, но не поверил себе.
– Не так, – весело отозвался Вагузи, поправляя браслеты. – Шкура на спине Вузи рыжая, а по утру – алая. Чёрный же змей у нас зовется Аспа, он тьма и смерть, еще мы именуем его брюхом ящера. Но теперь не его время, он зря так нагло сунулся сюда на рассвете. Мы плохо пели славу ящеру, с чужих ложных слов. Древние подлые колдуны предали Вузи и нам оставили ложь о нём вместо настоящей, сокровенной памяти. Вузи не борется с тьмой вне себя. Он сам её содержит и побеждает. Как я раньше не догадался? Пойду, надо помогать.
Проводник перешагнул край круга и направился вниз по склону, подобрал свои палки, одним ловким пинком ноги разыскав их в траве. Нырнул в поросль кустарника и исчез в её тени. Ларна помянул галерный киль и добавил несколько слов, которые Тингали от него уже пару раз слышала и почти запомнила.
– Ларна, нам велено тут быть, – возмутилась Тингали. – Ты зачем отпустил его?
– Я сказал «живыми не выйдут»… Ты платок ему подарила, он пошёл искать Пряху и вносить плату, – откликнулся Ларна. – Сиди. Не наш это бой. Мы люди. Я обещал Киму, что выведу тебя и я сделаю это. Так что не ной под руку, я сейчас не добр. Смотри, Тинка. Прими, что наше дело в круге сидеть – и смотри, такого никто из людей не видывал… Вон как разнесло твое зайца. Глянуть боязно! Я отродясь не наблюдал в твоих вышивках таких зайцев.
Тингали прищурилась, пытаясь рассмотреть Кима в танце вьюнов чёрного песка, всё плотнее застилающих долину. Прореха канвы теперь виделась внятно и даже остро. Бездонность долины кружила голову, и фальшивость всего зрелища донимала тошнотой. Что могут рассмотреть они – живые обычные люди, в изнанке, в изначальной канве мыслей и памяти, неявленного и несбывшегося? Почти ничего. Отблески знакомого, оттенки понятного и их фальшивый, обманный узор. Заштопать прореху таких размеров, – опасливо подумала Тингали, – не под силу двум вышивальщикам. Долго она копилась и создана была самой смертью.
Буро-рыжая тень шевельнулась на дне долины, солнце выглянуло из-за края горизонта и первый луч нащупал косматую шкуру, обвел контур лап с длинными, как клинки, когтями. Тяжёлый загривок с тёмным воротником, низкие широкие плечи…
– Кимочка как-то на зайца не похож, – Тингали без ошибки опознала брата. – Я его таким не видела. Но породу знаю, он сказку мне сказывал, про бера, хозяина всем лесам и держателя закона. Вроде, ещё тот бер любит мед.
– Детей не стращают берами. Детей угощают ягодой и развлекают веселыми прыгучими белочками, – хмыкнул Ларна. – И где этот… проводник, мать его синеглазую за… гм… косу. Или за хвост? Не явится к сроку, сам пойду туда.
Ларна пощупал свой истертый пояс с котятами к лубками – и Тингали всхлипнула. Опять она виновна! Это ж ее работа, и выходит она – в смерть путеводная нитка…
– Не уходи, – испугалась Тинка.
Ларна молча вцепился в тонкое запястье – мол, не ухожу, прекрати разводить сырость.
По песку дрожью пополз рык. Тингали охнула, подавилась тошнотой и указала дрожащей рукой на невидимое Ларне. Из недр небыли поднимался чёрный змей, взвились его шеи, похожие не пустые гнилые нити канвы.
Ларна тоже видел, но по-своему. Более привычно и понятно для бойца. Песок шевелится, вспухает, рассыпается отвалами, выпуская наверх одну за другой темные пасти на длинных шеях. Эти пасти рвут бера, бурый его мех летит клочьями, зверь гневно рычит и встряхивается, срезает шеи своими длинными когтями, топчет их, старается заровнять отвалы песка, пока не явились новые выползки тьмы. Но они лезут и лезут, теперь уже не только пасти, рвущие шкуру.
Появились ещё и тонкие отростки, вроде щупалец, они норовят оплести лапы, подсечь бера, свалить, утащить в песок и утопить в нём… Растворить в тёмном сыпучем забвении. Но шкура у зверя прочна, мех свалявшийся, плотный, рвать его даже тёмным пастям нелегко. Сам бер, на вид такой массивный и почти неуклюжий, двигался удивительно ловко и стремительно. Уворачивается, атакует. И получает новые раны, ревёт от боли… Голов у змея много, он всё поднимается и поднимается, расползается пятном мрака по долине. Ночная тень накрывает бера целиком, но тот снова встряхивается, срывая с себя эту тень, и солнце на миг изливает багрянец на шкуру, словно пытаясь её исцелить… Кажется, это будет длиться бесконечно. Точнее, пока бер не устанет и тьма не поглотит его окончательно…
Ларна временами, когда бера особенно плотно накрывала тень, поглаживал свой топор и чуть подавался вперед, с сомнением глядя на границу зелени, отделяющую доступный людям мир от того немыслимого и непонятного боя, что не утихает совсем рядом. Раны на теле зверя теперь были видны отчетливо, на шее и на плече шкура свисала клочьями, кровь впитывалась в песок, и тьма накрывала бера плотнее и гуще, и ему всё больших усилий стоило вырваться из-под её удушливого плена хоть на миг…
Солнце поднялось чуть выше, в его багрянце прибыло яркой красной меди. Ларна совсем уже решился, встал, отмахнулся от испуганно охнувшего Малька и шагнул к краю полянки. Но тут один из бликов рассвета прорисовался особенно отчетливо. Зашевелился и скользнул, обретая собственную жизнь.
Он оказался совсем ненамного крупнее обычных вузиби – тот, кому поклонялась пустыня. Зато двигался быстро и в повадках змея разбирался безупречно.
Малёк подвинулся ближе к Ларне. Бывший выродёр наконец-то отложил топор и подсел к неподвижной, полубезумной от зрелища Тингали. Приобнял ее за плечи.
– Хол задохнется под ковром. Надо его доставать, – посетовал Малёк.
– Займись, – согласился северянин, не отрывая взгляда от боя в долине. – Так их, в макушку. Эх, надо было одолжить топор ребятам. И всё же поучаствовать… только на кого я брошу вас?
Малёк насмешливо фыркнул. Оттащил тяжёлый ковёр, жалостливо глянул на сухого выра, обмякшего и неподвижного. Вскрыл флягу с водой и стал бережно протирать панцирь, уделяя особое внимание области жабр и стыкам пластин. Хол зашевелился, застонал. Нащупал флягу и сделал несколько больших глотков. Полежал молча, тихо. С трудом приподнял глаза на помятых стеблях. Глянул в долину и снова поник.
