Книга Мерлина бесплатное чтение
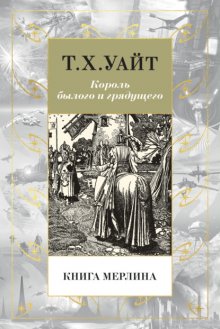
T. H. White
THE BOOK OF MERLYN
Copyright © The Estate of T. H. White, 1977
1
– Нет, это не был епископ Рочестерский.
Король отворотился от новопришедшего, не интересуясь его персоной. Слезы, тяжело катившиеся по обвислым щекам, заставляли его стыдиться своего вида, но он чувствовал себя слишком подавленным, чтобы их утирать. Не способный на большее, он лишь упорно прятал лицо от света. В его теперешнем состоянии уже не имело смысла скрывать старческое горе.
Мерлин присел рядом с Артуром и взял его изможденную руку в свои, отчего слезы полились лишь обильнее. Волшебник гладил его по ладони, прижимая большим пальцем синеватые вены, ожидая, когда в них снова воскреснет жизнь.
– Мерлин? – произнес Король. Казалось, он не удивился. – Ты мне снишься? – спросил он. – Прошлой ночью мне снилось, будто пришел Гавейн с целой командой прекрасных дам. Он сказал, что дамам дозволили сопровождать его, так как при жизни он был их избавителем, и что они пришли предостеречь меня, ибо завтра все мы погибнем. А после того мне приснилось, что я сижу на троне, привязанном наверху колеса, и колесо поворачивается, а я лечу в яму, полную гадов.
– Колесо свершило свой оборот: я снова с тобой.
– А ты какой сон – дурной? – спросил Король. – Если так, не мучай меня.
Мерлин все так же держал его за руку. Он поглаживал ее вдоль вен, стараясь заставить их спрятаться в плоть. Он умягчал шелушащуюся кожу, в мистической сосредоточенности вливая в нее жизнь, понуждая ее вновь обрести упругость. Кончиками пальцев касаясь Артурова тела, он пытался вернуть ему гибкость, облегчая ток крови, возвращая силу и ладность опухшим суставам, и молчал.
– Нет, ты добрый сон, – сказал Король. – Хорошо бы, ты мне снился подольше.
– Да я никакой и не сон. Я человек, тот самый, которого ты помнишь.
– Ах, Мерлин, сколько бед случилось со мной с тех пор, как ты нас покинул! Все труды, на которые ты подвигнул меня, оказались напрасными. Вся твоя наука – обманом. Ничего этого делать не стоило. Нас забудут, и тебя, и меня, словно нас и не было вовсе.
– Забудут? – переспросил волшебник.
В свете свечи было видно, как он, улыбаясь, озирает шатер, словно желая убедиться в истинном существовании его убранства – мехов, мерцающей кольчуги, гобеленов, пергаментных свитков.
– Жил когда-то Король, – произнес он, – о котором писали Ненний и Гальфрид Монмутский. Говорят, что последнему помогал кое в чем архидиакон Оксфордский и даже этот восхитительный олух, Гиральд Валлиец. Брут, Лайамон и вся остальная шатия: сколько вранья они наворотили! Одни уверяли, что он был бриттом, размалеванным синей краской, другие – что он в угоду сочинителям норманнских романов красовался в кольчуге. Кое-кто из бестактных германцев облачал его на манер своих занудливых Зигфридов. Одни, вроде твоего приятеля Томаса из Хаттон-Коннерс, одевали его в серебро, другие же – замечательно романтический елизаветинский автор по имени Хьюгс, к примеру, – узрели в его истории замечательную любовную коллизию. Затем еще был слепой поэт, норовивший растолковать человечеству пути Господни, этот сравнивал Артура с Адамом, пытаясь понять, который из двух важнее. Примерно в то же время появились великие музыканты – Перселл, к примеру, а еще позже такие гиганты, как Романтики, и все они непрестанно грезили о нашем Короле. За ними явились люди, давшие ему доспехи, подобные листьям плюща, и поставившие его с друзьями посреди развалин, где ежевика, разрастаясь, овивала их своими плетьми, и они в обморочном трансе падали наземь, стоило лишь легкому ветерку коснуться их губ. Потом еще был один викторианский лорд… Даже людям, вроде бы никаким боком к нему не причастным, и тем было до него дело, – тому же Обри Бердслею, создавшему иллюстрации к рассказу о нем. А несколько времени погодя объявился и бедный старина Уайт, полагавший, будто мы с тобой воплощали идеи рыцарства. Он уверял, что наше значение кроется в нашей порядочности, в том, как мы противостояли кровожадным помыслам человека. Каким же анахронистом он был, бедолага! Это ведь умудриться надо – начать с Вильгельма Завоевателя и кончить войной Алой и Белой Розы… И еще были люди, обращавшие «Смерть Артура» в разного рода непостижимые колебания, вроде радиоволн, и другие, обитавшие в неоткрытом полушарии и тем не менее почитавшие Артура и Мерлина, которых знали по движущимся картинам, чем-то вроде своих незаконных отцов-основателей. Дело Британии! Разумеется, нас позабудут, Артур, если считать мерой забвения тысячу лет да еще полтысячи, да еще одну тысячу к ним в придачу!
– А Уайт – это кто?
– Человек, – рассеянно ответил волшебник. – Ты вот посиди, послушай, а я прочитаю тебе кусочек из Киплинга.
И старик с воодушевлением продекламировал знаменитое место из «Холма Пука»:
– «Я видел, как сэр Гюон с отрядом своих челядинцев выступил из замка Тинтагиль в сторону Ги-Бразиля, встретив грудью юго-западный ветер, и брызги летели над замком, и Кони Холмов теряли разум от страха. Они вышли в минуту затишья, крича тоскливо, как чайки, и шторм отнес их от моря на добрых пять миль, прежде чем им удалось повернуться ему навстречу. То была магия – самая черная, на какую только способен был Мерлин, и море пылало зеленым огнем, и в белой пене пели русалки. А Кони Холмов под вспышками молний неслись с волны на волну! Вот что творилось здесь в давние времена!»
– Вот тебе только одно описание, – добавил волшебник, закончив цитату. – В прозе. Не диво, что Дан под конец закричал: «Восхитительно!» И сказано все это о нас и о наших друзьях.
– Но, учитель, я не понимаю.
В растерянности глядя на своего престарелого ученика, волшебник встал. Он перевил бороду в крысиные хвостики, засунул их кончики в рот, подкрутил усы, похрустел суставами пальцев. То, что он сотворил с Королем, наполняло его страхом, ему казалось, что он пытается искусственным дыханием оживить человека, пожалуй слишком долго пробывшего под водой. Однако стыда он не испытывал. Ученый и должен без жалости продвигаться вперед, преследуя единственную в мире вещь, имеющую значение, – Истину.
Чуть погодя он позвал – негромко, словно окликая уснувшего:
– Варт?
Никакого ответа.
– Король?
На этот раз он услышал ответ – горький ответ:
– Le Roy s’advisera.
Все оказалось даже хуже, чем опасался Мерлин. Он снова сел, снова взял вялую руку и заново стал обхаживать Короля.
– Давай-ка попытаем счастья еще раз, – попросил он. – Нас ведь пока не разбили наголову.
– Что проку от этих попыток?
– Такое у человека занятие – делать попытки.
– Значит, люди – попросту остолопы.
Старик ответил со всей прямотой:
– Разумеется, остолопы, да в придачу еще и злые. Тем-то и интересны старания сделать их лучше.
Жертва чародея открыла глаза и устало закрыла их снова.
– Мысль, посетившая тебя перед самым моим приходом, справедлива, Король. Я имею в виду мысль о Homo ferox. Однако и соколы тоже ведь ferae naturae: и это в них самое любопытное.
Глаза оставались закрытыми.
– А вот другая твоя мысль, насчет… относительно того, что люди – машины, вот она неверна. А коли и верна, то это ведь ничего не значит. Потому что если все мы – машины, то не о чем и тревожиться.
– Вот это мне понятно.
Странно, но он и вправду это понял. Глаза его открылись, да так и остались открытыми.
– Помнишь ангела в Библии, готового пощадить целый город, если в нем отыщется хотя бы единый праведник? И ведь не один отыскался. То же относится и к Homo ferox, Артур, даже сейчас.
В глазах, неотрывно глядевших на маячившее перед ними видение, возникло подобие интереса.
– Ты слишком буквально воспринял мои советы, Король. Неверие в первородный грех вовсе не подразумевает веры в первородную добродетель. Оно подразумевает лишь, что не следует верить в абсолютную порочность человека. Человек, быть может, порочен и даже очень порочен, а все же не абсолютно. В противном случае, согласен, любые попытки бессмысленны.
Артур произнес, расплывшись в одной из своих ясных улыбок:
– Да, это хороший сон. Надеюсь, он окажется длинным.
Его учитель стянул с носа очки, протер их, снова надел и внимательно оглядел старика. За стеклами очков поблескивало удовлетворение.
– Если бы ты, – сказал он, – не пережил всего этого, ты бы так ничего и не понял. Никуда не денешься, знание – вещь наживная. Ну как ты?
– Бывает и хуже. А ты?
– Отменно.
Они обменялись рукопожатием, как если бы только что встретились.
– Побудешь со мной?
– Вообще-то говоря, – отвечал некромант, звучно сморкаясь, чтобы скрыть ликование, а может быть, и раскаяние, – мне и находиться-то здесь не положено. Я просто послан к тебе с приглашением.
Он сложил носовой платок и сунул его под шляпу.
– А мыши? – спросил Король, и глаза его в первый раз чуть заметно блеснули. На секунду кожа у него на лице дрогнула, натянулась, и под нею, быть может в самых костях, проглянула конопатая, курносая физиономия мальчишки, которого когда-то давно очаровал Архимед.
Мерлин с удовольствием стянул с головы шляпу.
– Только одна, – сказал он. – По-моему, это была мышь, хотя теперь уже толком не скажешь, усохла наполовину. Глянь-ка, а вот и лягушка, я еще летом ее подобрал. Она, бедолага, попала во время засухи под колеса. Силуэт – само совершенство.
Он с удовлетворением ее обозрел, прежде чем сунуть обратно в шляпу, затем уложил ногу на ногу и, поглаживая колено, с таким же удовлетворением обозрел ученика.
– Итак, приглашение, – сказал он. – Мы надеялись, что ты нанесешь нам визит. Битва твоя, полагаю, как-нибудь обойдется без тебя до утра?
– Во сне это не имеет значения.
Видимо, это замечание рассердило волшебника, ибо он гневно воскликнул:
– Послушай, перестань ты все время твердить о снах! Нужно же все-таки хоть немного уважать чувства других людей.
– Не обращай внимания.
– Да, так вот, – приглашение. Мы приглашаем тебя посетить мою пещеру, ту самую, куда меня засадила молодая Нимуя. Помнишь ее? Там собрались кое-какие друзья, ждут тебя.
– Это было бы чудесно.
– К сражению у тебя, насколько я знаю, все подготовлено, а заснуть ты все равно навряд ли заснешь. И может быть, если ты погостишь у нас, на душе у тебя полегчает.
– Совершенно ничего у меня не подготовлено, – сказал Король, – но в сновидениях так или этак, а все как-то устраивается.
При этих словах старый господин выскочил из кресла, цапнул себя за лоб, словно подстреленный, и воздел к небесам палочку из дерева жизни:
– Силы благие! Опять эти сны!
Величавым жестом он сорвал с себя остроконечную шляпу, пронзил взглядом бородатую фигуру насупротив, с виду такую же старую, как он сам, и – в виде восклицательного знака – треснул себя палочкой по макушке. И полуоглушенный, ибо не рассчитал силу удара, – снова упал в кресло.
Старый Король наблюдал за Мерлином, и душа его согревалась. Теперь, когда давно утраченный друг столь живо снился ему, он начинал понимать, почему тот вечно и совершенно сознательно валял дурака. Шутовство было приемом, посредством которого он облегчал людям учение, позволяя им и учась не утрачивать ощущения счастья. Король начинал испытывать симпатию, и даже не без примеси зависти, к старческой отваге своего наставника, способного верить и не оставлять стараний, причудливых и бесстрашных, – и это с его-то опытом и в его летах. От мысли, что доблесть и стремление к благу все же способны выстоять, на душе становилось светлее и легче.
С облегченным сердцем Король улыбнулся, закрыл глаза и заснул – по-настоящему.
2
Ощущения от лечебной процедуры приятностью не отличались. Примерно такие же возникают, когда волосы с силой расчесываешь «против шерсти» или когда массажист самой неприятной разновидности, из тех, что пристают к пациенту с требованием «расслабиться», вправляет вывихнутую лодыжку. Король вцепился в подлокотники кресла, стиснул зубы, закрыл глаза и покрылся потом. Когда он во второй раз за эту ночь открыл их, окружавший его мир разительно переменился.
– Благие небеса! – воскликнул он, вскочив на ноги. Покидая кресло, он перенес свой вес не на запястья, как это делают старики, но на ладони и кончики пальцев. – Ты только взгляни, какие глубокие глаза у этого пса! Свечи отражаются в них не от поверхности, а от самого дна, будто от донышка кубка. Почему я этого прежде не замечал? А там, смотри, в купальне Вирсавии дырка протерлась, не грех бы ее заштопать. И что это там за слово в книге? Susp? Кто же это унизил нас так, что мы стали вешать людей? Разве заслуживает того хотя бы один человек? Мерлин, а почему, когда я ставлю между нами свечу, свет не отражается в твоих глазах? В лисьих глазах отсвет красный, в кошачьих зеленый, у лошади желтый, у пса шафранный… А посмотри, какой у сокола клюв, там же зубчики, как на пиле! У ястреба с пустельгой таких не бывает. Должно быть, это особенность falco. И как странно устроен шатер! Одно толкает его вверх, другое тянет книзу. Ex nihulo res fit[1]. А шахматные фигуры, ты только взгляни! Мат, видите ли! Ну нет, мы начнем игру заново…
Вообразите заржавелый засов на садовой калитке, – то ли его поставили косо, то ли калитка обвисла с тех пор, как его привинтили, но вот уже многие годы засов не встает толком на место, приходится его либо вбивать, либо втискивать, немного приподымая калитку. Вообразите теперь, что этот старый засов отвинтили, отдраили наждаком, выкупали в керосине, отшлифовали тонким песочком, основательно смазали, и затем искусный мастеровой снова приладил его, да так, что засов ходит туда-сюда, подчиняясь нажатию пальца, – что там пальца, перышка! – на него достаточно дунуть, чтобы он открылся или закрылся. Представляете, что он испытывает? Он испытывает блаженство, как человек, поправляющийся после горячки. Он только и ждет теперь, чтобы его подвигали, он жаждет насладиться приятнейшим, неизменно исправным движением.
Ибо счастье – это лишь побочный продукт осуществленного предназначения, как свет – побочный продукт электрического тока, бегущего по проводам. Если ток не проходит, не будет и света. Потому-то и не достигает счастия тот, кто ищет его для себя одного. Человеку же довлеет стремиться к тому, чтобы стать подобным исправно скользящему засову, току в его беспрепятственном беге, выздоравливающему больному, которому жар и головная боль так долго не позволяли даже двинуть глазами – а ныне они без устали трудятся, двигаясь с легкостью чистых рыбок в чистой воде. Глаза работают, работает ток, работает засов. Загорается свет. Вот в этом и счастье: в безупречно выполненной работе.
– Легче, легче! – сказал Мерлин. – Мы вроде бы на поезд не опаздываем.
– На поезд?
– Виноват. Это цитата, к которой один мой друг частенько прибегал в разговорах о прогрессе человечества. Ну-с, судя по твоему виду, чувствуешь ты себя получше. Может быть, сразу и отправимся в нашу пещеру?
– Немедленно!
И без дальнейших церемоний они приподняли полог шатра и вышли, оставив сонную гончую в одиночку сторожить накрытого клобучком сокола. Услышав шелест полога, незрячая птица, надеясь привлечь к себе внимание, хрипло заклекотала.
Прогулка их освежила. От буйного ветра и быстроты, с которой они передвигались, их бороды относило то за левое плечо, то за правое (в зависимости от того, какую щеку они подставляли ветру), и им казалось, что корни волос норовят вылезти из-под кожи, как бывает, когда накручиваешь локоны на папильотки. Они промчались равниною Солсбери, проскочили заставляющий призадуматься монумент Стоунхенджа, и Мерлин мимоходом прокричал приветствие древним богам, для Артура невидимым: Крому, Беллу и прочим. Словно вихрь, пронеслись они над Уилтширом, стороной миновали Дорсет, легко, как проволока головку сыра, пронизали Девон. Равнины, холмы, леса и болота пропадали у них за спиной. Реки, поблескивая, мелькали, как спицы кружащегося колеса. В Корнуолле, у древнего кургана, похожего на огромную кротовую кочку с темным входом в боку, они остановились.
– Входим.
– Я был здесь когда-то, – сказал Король, замирая, словно в оцепенении.
– Был.
– Когда?
– Ну, когда?
Король вслепую порылся в памяти, чувствуя, что истина скрыта где-то в его душе, однако:
– Нет, – сказал он. – Не могу припомнить.
– Войди и увидишь.
Они прошли запутанными ходами, мимо ответвлений, ведущих к спальням, мусорным свалкам, кладовкам и местам, где можно помыть руки. Наконец Король остановился, положив ладонь на дверную щеколду, и объявил:
– Я знаю, где я.
Мерлин ждал продолжения.
– Это барсучья нора, я был здесь ребенком.
– Верно.
– Мерлин, мерзавец ты этакий! Полжизни я оплакивал тебя, уверенный, что ты заперт, как жаба в норе, а ты все это время сидел в профессорской, дискутируя с барсуком!
– А ты открой дверь и взгляни.
Король открыл дверь. Та самая, хорошо ему памятная комната. Те же портреты давно усопших прославленных благочестием или ученостью барсуков, те же светляки, экранчики красного дерева, доска, вроде качелей, для транспортировки графинов. Те же подъеденные молью мантии и тисненая кожа кресел. Но замечательнее всего: Король увидел давнишних своих друзей – тот самый комитет, нелепее коего и вообразить было нельзя.
Звери застенчиво встали, приветствуя его. Они пребывали в замешательстве и робели, частью оттого, что слишком долго предвкушали нынешний сюрприз, частью же оттого, что ни разу еще не встречали настоящего Короля и опасались, что он окажется совсем не таким, как прочие люди. Как бы там ни было, решили они, а положенные формальности следует соблюсти. Все согласились, что приличия требуют, дабы они встали и, может быть, отдали поклон и почтительно улыбнулись. Они провели несколько совещаний, серьезно обсуждая, как надлежит титуловать Короля – «Ваше Величество» или «Сир», – а также следует ли целовать его руку. Они обсудили также вопрос о том, сильно ли он переменился и даже – бедняжки – помнит ли он их вообще.
Звери кружком стояли у камина: барсук, в смятении поднявшийся из кресла, отчего с колен его на каминную решетку обрушилась истинная лавина исписанных листков; Т. natrix, распрямившийся во всю длину и постреливающий эбеновым язычком, коим он намеревался, если понадобится, облизать королевскую руку; Архимед, в радостном предвкушении подскакивающий на месте, полураскрыв крылья и трепеща ими, словно пичуга, выпрашивающая корм; Балин, впервые в жизни имевший сокрушенный вид, ибо он боялся, что его-то и не вспомнят; Каваль, коего от полноты чувств стошнило в углу; козел, когда-то давно в пророческом озарении отдавший Артуру императорские почести; ежик, верноподданно застывший навытяжку в самом конце полукруга, – его по причине блохастости заставляли садиться отдельно, но и его переполняли патриотические чувства и желание быть замеченным, – конечно, если это возможно. Даже бывшее Артуру внове огромное чучело щуки, стоявшее под портретом Основателя на полке камина, и оно, казалось, вперяется в него умоляющим глазом.
– Ребята! – воскликнул Король.
Тут все они густо покраснели, засучили лапками и сказали:
– Пожалуйста, простите нас за столь скромный прием.
Или:
– Добро пожаловать, Ваше Величество.
Или:
– Мы хотели вывесить флаг, да куда-то он девался.
Или:
– Не промокли ли ваши царственные ножки?
Или:
– А вот и сквайр!
Или:
– Ах, как приятно видеть тебя после всех этих лет!
Ежик же церемонно откозырял и промолвил:
– Правь, Британия!
В следующую минуту помолодевший Артур пожимал всем лапы, всех целовал и хлопал по спинам, пока решительно все не прослезились.
– Мы ведь не знали… – всхлипнул барсук.
– Мы боялись, что ты мог забыть…
– А как правильно: «Ваше Величество» или «Сир»?
Вопрос был существенный, и Артур добросовестно ответил:
– Для императора – «Ваше Величество», а с обыкновенного короля хватит и «Сира».
Так что с этой минуты он стал для них просто Вартом, и больше они о титулах не помышляли.
Когда волнение улеглось, Мерлин закрыл дверь и решительно овладел ситуацией.
– Ну так, – сказал он. – Дел у нас по горло, а времени на них всего ничего. Король, прошу тебя: вот твое кресло, на самом почетном месте, ибо ты среди нас – главный: ты делаешь черную работу и несешь основное бремя. А ты, ежик, – сегодня твой черед побыть Ганимедом, так что давай, тащи сюда мадеру, да поскорее. Налей каждому по большой чаше, а потом мы начнем заседание.
Первую чашу ежик поднес Артуру и подал ее торжественно, встав на колено и окунув один грязноватый пальчик в вино. Пока он обносил по кругу всех остальных зверей, тот, кто некогда был Вартом, успел осмотреться.
Со времени его последнего визита профессорская изменилась, причем изменения эти носили отчетливый отпечаток личности его наставника. Ибо на всех свободных креслах, на полу и на столах лежали тысячи книг самых разных обличий, раскрытых на страницах, содержавших некие наиважнейшие сведения. Открытые для последующего осведомления, они так и остались лежать, и тонкий слой пыли уже успел осесть на их страницы. Тут были Тьерри, Пинноу и Гиббон, Сигизмунди и Дюрюи, Прескотт и Паркман, Жюссеранд и д’Альтон, Тацит и Смит, Тревельян и Геродот, настоятель Милман и Макалистер, Гальфрид Монмутский и Уэллс, Клаузевиц и Гиральд Камбрейский (включая утраченные тома об Англии и Шотландии), «Война и мир» Толстого, «Комическая история Англии», «Саксонские хроники» и «Четыре хозяина». Тут были «Зоология позвоночных» де Вира, «Опыты об эволюции человека» Эллиотта-Смита, «Органы чувств насекомых» Эльтрингама, «Грубые ошибки» Брауна, Альдровандус, Матфей Парижский, «Бестиарий» Физиолога, полное издание Фрезера и даже «Зевс» А. Б. Кука. Тут были энциклопедии, схематические изображения человеческого и иных тел, справочники вроде Уидерби с описаниями самых разных птиц и животных, словари, логарифмические таблицы и полный выпуск «Национального биографического словаря». На стене висела начертанная рукой Мерлина таблица, параллельные столбцы которой содержали историческое описание расположенных в алфавитном порядке народов, населявших Землю последние десять тысяч лет. Ассирийцы, шумеры, монголы, ацтеки и прочие – каждый народ был прописан чернилами своего, особого цвета, а на вертикальных линиях слева от столбцов значились годы до и после н. э., так что получалось подобие диаграммы. На другой стене висела настоящая, еще более любопытная диаграмма, которая показывала возвышение и падение различных животных видов за последнюю тысячу миллионов лет. Когда вид вымирал, соответствующая ему линия сходилась к горизонтальной асимптоте и пропадала. Одним из последних эту участь претерпел ирландский лось. Сделанная для развлечения карта изображала расположение окрестных птичьих гнезд предыдущей весной. В наиболее удаленном от камина углу комнаты стоял рабочий стол с микроскопом, под окуляром которого располагался замечательно выполненный микросрез нервной системы муравья. На том же столе лежали черепа человека, человекообразных обезьян, рыб и дикого гуся, также рассеченные, дабы видно было соотношение между корой головного мозга и полосатым телом. В другом углу было оборудовано некое подобие лаборатории – здесь в неописуемом беспорядке теснились реторты, пробирки, центрифуги, культуры микробов, мензурки и бутылки с наклейками: «Гипофиз», «Адреналин», «Мебельная политура», «Вентикачеллумский кэрри» и «Джин Де Купера». На этикетке последнего имелась карандашная надпись: «Уровень жидкости в этой бутылке ПОМЕЧЕН». Наконец, в стоящих там же термостатах содержались живые образчики богомолов, саранчи и иных насекомых, а пол покрывали останки преходящих увлечений волшебника: крокетные молотки, вязальные спицы, мелки пастели, линогравировальные инструменты, воздушные змеи, бумеранги, клей, сигарные коробки, самодельные духовые инструменты (деревянные), поваренные книги, волынка, телескоп, жестянка замазки для садовых прививок и корзинка с крышкой и с биркой «Фортнум энд Мэйсон» на донышке.
Старый Король удовлетворенно вздохнул и забыл о внешнем мире.
– Ну-с, барсук, – сказал Мерлин, распираемый важностью и официальностью, – а подай-ка мне протокол последнего заседания.
– Мы же его не вели. Чернил не было.
– Ну и бог с ним. Давай тогда заметки о Великом Викторианском Высокомерии.
– А эти пошли на растопку.
– Вот дьявол. Так дай хоть «Пророчества», что ли.
– «Пророчества» есть, – гордо сказал барсук и склонился, сгребая в кучу листы, осыпавшиеся, когда он вставал, на решетку камина. – Я их нарочно подготовил, – пояснил он.
К сожалению, листы уже прихватило огнем, и, когда барсук задул их и передал магу, выяснилось, что все они успели наполовину сгореть.
– Ну, это уж черт знает что! А куда ты дел «Тезисы о человеке» и «Диссертацию о Силе»?
– Вот сию минуту были здесь.
И бедный барсук, состоявший секретарем комитета, правда, довольно никудышным, с встревоженным и пристыженным видом принялся, близоруко щурясь, перебирать бумеранги.
Архимед сказал:
– Может быть, проще будет обойтись без бумаг, а, хозяин? Давайте просто поговорим.
Мерлин пронзил его гневным взором.
– Нам ведь нужно лишь объясниться, – заметил Т. natrix.
Мерлин пронзил и его.
– В любом случае, – сказал Балин, – мы именно к этому в конце концов и придем.
Мерлин перестал сверкать глазами и обиженно надулся.
Каваль, украдкой подобравшись к хозяину, положил ему голову на колени, с мольбой заглянул в лицо и не был отвергнут. Козел самоцветными глазами уставился в пламя. Барсук с виноватым видом снова опустился в кресло, а ежик, чопорно сидевший в дальнем углу, сложив на коленях руки, неожиданно для всех подал первую реплику.
– Рассказывай, парень, – сказал он.
Все изумленно воззрились на ежика, но он был не из тех, кого легко осадить. Он отлично знал, почему всякий, с кем он оказывался рядом, норовил отодвинуться, но считал, что права у всех тем не менее равные.
– Рассказывай, парень, – повторил он.
– Я предпочел бы послушать, – сказал Король. – Я ничего пока не понимаю, кроме того что меня привели сюда для восполнения каких-то пробелов в моем образовании. Вы не могли бы начать с самого начала?
– Главная сложность в том, – заметил Архимед, – что чрезвычайно трудно решить, где оно – это начало.
– Тогда расскажите мне про комитет. Для чего вы создали комитет и что за вопрос он решает?
– Ты мог бы назвать нас Комитетом по Проблеме Воплощения Силы в Человеке. Мы пытаемся разрешить стоящую перед тобой задачу.
– Мы – Королевская Комиссия, – гордо пояснил барсук. – Было сочтено, что собрание разного рода животных может оказаться способным давать рекомендации самым различным ведомствам…
Долее сдерживаться Мерлин оказался не в силах. Даже ради сохранения обиженного вида молчать, когда другие уже разговаривают, он не мог.
– Позвольте-ка мне, – сказал он. – Я-то в точности знаю, с чего начать, так уж я и начну. Всем слушать. Мой милый Варт, – произнес он после того, как ежик выкрикнул: «Слушайте, слушайте!» и, подумав, прибавил: «К порядку!» – прежде всего я должен попросить тебя мысленно обратиться к начальной поре моего учительства. Ты о ней что-нибудь помнишь?
– Все начиналось с животных.
– Вот именно. А не приходило тебе на ум, что я отправлял тебя к ним не ради забавы?
– Ну уж забавного там хватало…
– Но почему именно животные, вот в чем вопрос.
– Так объясни же мне – почему.
Волшебник уложил ногу на ногу, скрестил на груди руки и важно сощурился.
– В мире, – сказал он, – насчитывается двести пятьдесят тысяч видов животных – это не считая растительности, – и не менее двух тысяч восьмисот пятидесяти из них млекопитающие, как и сам человек. Все они в той или иной форме обладают политическими институтами (одна из ошибок моего друга Аристотеля как раз и состояла в том, что он именно человека определил как «политическое животное»), между тем как сам человек, эта жалкая малость в сравнении с двумястами сорока девятью тысячами девятьсот девяносто девятью прочими видами, ковыляет по своей набитой политической колее, даже не поднимая глаз на окружающие его четверть миллиона примеров. Положение тем более нелепое, что человек представляет собой парвеню животного мира, ибо почти все остальные животные еще за многие тысячи лет до его появления так или иначе разрешили все его проблемы.
По комитету прошел одобрительный шепоток, а уж мягко добавил:
– Именно по этой причине он и пытался дать тебе, Король, представление о природе – была надежда, что, приступая к решению своей задачи, ты оглянешься по сторонам.
– Ибо политические установления любого животного вида, – сказал барсук, – включают средства контроля над Силой.
– Но я не понимаю… – начал было Король, однако его сразу же перебили.
– Разумеется, ты не понимаешь, – сказал Мерлин. – Ты намерен сказать, что у животных нет политических установлений. Прими мой совет, сначала подумай как следует.
– А разве есть?
– Конечно есть, и весьма эффективные. Кое-кто среди них являет собою коммунистов или фашистов, подобно большинству муравьев, – имеются и анархисты, вроде гусей. Существуют также социалисты – пчелы, к примеру, да, собственно, и среди трех тысяч муравьиных семейств распространены разные оттенки идеологий, не один только фашизм. Не все они поработители и милитаристы. Имеются рантье – белки, скажем, или медведи, которые во всю зимнюю спячку существуют за счет жировых накоплений. Любое гнездо, любая нора, каждое пастбище представляют собой форму личной собственности, – и как, по-твоему, ухитрились бы уживаться друг с другом вороны, кролики, пескари и прочие живущие сообществами создания, если бы они не разрешили проблем Демократии и Насилия?
Видимо, эта тема была основательно проработана, ибо, прежде чем Король успел ответить, в разговор вмешался барсук.
– Ты так и не привел нам, – сказал он, – и никогда не сможешь привести ни единого примера капитализма в мире природы.
Вид у Мерлина стал совершенно несчастный.
– А поскольку примера ты привести не можешь, – добавил барсук, – это доказывает, что капитализм противоестественен.
Стоит упомянуть, что во взглядах барсука сказывалось сильное влияние русских. И он, и прочие звери провели в спорах с Мерлином столько столетий, что поневоле овладели высоковолшебной терминологией и теперь произносили такие слова, как «большевики» и «нацисты», с легкостью необычайной, словно те были лоллардами или Хлыстунами современной им истории.
Мерлин, принадлежавший к твердолобым консерваторам – качество в его положении даже прогрессивное, если учесть, что двигаться во времени ему приходилось навстречу всем остальным, – слабо оборонялся.
– Паразитизм, – сказал он, – древнее и почтенное установление природы, присущее многим – от блохи до кукушки.
– Мы не о паразитизме говорим. Мы говорим о капитализме, для которого имеется точное определение. Можешь ли ты привести в пример хотя бы один вид, помимо человека, представители которого присваивают стоимость, создаваемую трудом других представителей того же вида? Даже блохи не эксплуатируют блох.
Мерлин сказал:
– Существуют человекообразные обезьяны, за которыми, когда их содержат в неволе, хозяевам приходится присматривать, и очень внимательно. В противном случае господствующие особи отнимают у своих собратьев пищу, порой даже заставляя их отрыгивать ее, и те умирают голодной смертью.
– Пример представляется шатким.
Мерлин скрестил руки и еще помрачнел. Наконец он «натянул решимость, как струну», глубоко вздохнул и признал горькую правду.
– Да он шаткий и есть, – сказал он. – Я не могу отыскать в природе ни одного примера подлинного капитализма. – Но едва он это сказал, как руки его взмыли вверх, и кулак одной влепился в ладонь другой. – Вот оно! – воскликнул он. – Я же чувствовал, что я прав относительно капитализма. Мы просто не там искали.
– По обыкновению.
– Главная специализация каждого вида почти всегда представляется неестественной прочим видам. И отсутствие в природе примеров капитализма вовсе не означает, что капитализм неестественен для человека – неестественен в смысле «плох». На том же основании можно утверждать, что для жирафа неестественно объедать верхушки деревьев – ведь других животных со столь же длинной шеей не существует – или что первые земноводные, вылезая из воды, вели себя неестественно, поскольку других примеров земноводности в то время не существовало. Капитализм – это попросту специализация человека, точно такая же, как и развитый головной мозг. В природе нет других созданий с головным мозгом, подобным человеческому. Но это же не значит, что обладание головным мозгом неестественно для человека. Напротив, это значит, что человек обязан свой мозг развивать. То же и с капитализмом. Подобно мозгу, он – специализация человека, жемчужина короны! Вообще, если вдуматься, капитализм, возможно, и проистекает из обладания развитым мозгом. Иначе почему еще один пример капитализма – вот те самые обезьяны – обретается нами среди антропоидов с мозгом, родственным человеческому? Да-да, я всегда знал, что прав, оставаясь мелким капиталистом! Я знал, что существует основательная причина, по которой России времен моей юности следовало бы изменить ее воззрения. Уникальность не подразумевает неправильности: напротив, именно правильность она и подразумевает. Правильность для человека, конечно, не для прочих животных. Она подразумевает…
– Сознаешь ли ты, – спросил Архимед, – что вот уже несколько минут никто из присутствующих не понимает ни единого твоего слова?
Мерлин резко умолк и посмотрел на своего ученика, следившего за разговором более с помощью глаз, чем чего-либо иного, – переводя их с одного лица на другое.
– Прошу прощения.
Король заговорил задумчиво, словно обращался к себе самому.
– Выходит, что я был глуп? – спросил он. – Глуп, не обращая внимания на животных?
– Глуп! – вскричал волшебник, вновь обретая победный тон, ибо открытие относительно капитализма наполнило его ликованием. – Вот наконец-то крупица истины на устах человека! Nunc dimittis! – И, немедля оседлав своего конька, он поскакал во всех направлениях сразу. – Что меня просто валит с ног, – воскликнул он, – так это самоуверенная наглость человеческой расы. Начни с необъятной Вселенной, затем сузь область рассмотрения до одного крохотного солнца в ней; перейди к спутнику этого солнца, каковой мы именуем Землею; взгляни на мириады водорослей или как они там называются, населяющих океан, на неисчислимых микробов, достигающих минус бесконечности и обитающих внутри нас. Окинь взглядом четверть миллиона видов, которые я уже упомянул, прикинь, сколь немыслимо долго они уже существуют. А теперь посмотри на человека, на прямоходящего, чей взор достигает с точки зрения природы не дальше, чем взор новорожденного щенка. И именно он, это… это пугало, – Мерлин до того разволновался, что уже не мог тратить время на поиски подходящих эпитетов, – …он присваивает себе прозвище Homo sapiens – ничего себе, а? – он объявляет себя венцом творения, совершенно как тот осел, Наполеон, сам на себя возложивший корону! Он, видите ли, являет снисхождение к прочим животным: даже к собственным предкам, да благословит Господь мою душу и тело! Вот оно: Великое Викторианское Высокомерие, поражающее, неизъяснимое предрассуждение девятнадцатого века. Загляни хотя бы в романы Скотта, который даже человеческих существ заставляет изъясняться так, словно они не люди, а железные грелки с углями, – лишь потому, что они родились за какую-то пару сотен лет до него! И вот тебе человек, гордо красующийся посреди двадцатого века, – он питает благодушную веру, что его раса за тысячу жалких лет «продвинулась вперед», и при этом только тем и занимается, что разносит на куски своих же собратьев. Когда же до него дойдет, что у птицы уходит миллион лет на изменение одного-единственного махового пера? Нет, красуется, жалкий увалень, пыжится, ибо уверен, что весь мир изменился, поскольку он удосужился изобрести двигатель внутреннего сгорания! Пыжится еще со времен Дарвина, потому как прослышал, что существует какая-то эволюция. Он совершенно не сознает, что эволюция протекает миллионнолетними циклами, и оттого полагает себя уже эволюционировавшим с эпохи Средних веков. Двигатель внутреннего сгорания, может быть, и эволюционировал, а не он! Загляни в эту нестерпимую книгу, «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», ты увидишь, как он осклабляется при упоминании о своих же пращурах, не говоря уж о прочих млекопитающих. Потрясающее, всеобъемлющее нахальство! А Бога сотворить по собственному подобию?! Уверяю тебя, так называемые примитивные народы, обожествлявшие животных, были вовсе не так глупы, как считается. Им хотя бы скромности доставало. Почему это Бог не может сойти на землю в образе дождевого червя? Червей куда больше, чем людей, а пользы от них и гораздо больше. Да и о чем, вообще, речь? Где оно, это дивное превосходство? Чем двадцатый век выше Средних веков, а средневековый человек – примитивных народов или диких зверей? Что, человек так уж замечательно научился управлять своей Силой, Свирепостью или Собственностью? Чего достиг он? Истребляет, как каннибал, представителей собственного вида! Известны ли тебе подсчеты, согласно которым с тысяча сотого по тысяча девятисотый год Англия провоевала четыреста девятнадцать лет, а Франция – триста семьдесят три? Знаешь ли ты о выкладках Лапюже, из коих следует, что в Европе каждые сто лет убивали по девятнадцати миллионов человек, так что пролитая кровь могла бы питать фонтан, извергавший с самого начала истории по семьсот литров в час? А теперь позволь сказать тебе следующее, досточтимый сэр. В природе, внешней по отношению к человеку, война – это такая редкость, что ее, почитай, и вовсе не существует. На все двести пятьдесят тысяч видов наберется от силы дюжина воюющих. Если бы природа удосужилась обратить свой взор на человека, на этого крошечного кровопийцу, у нее бы волосы встали дыбом!
И наконец, – заключил волшебник, – оставляя в стороне его моральные качества, является ли это одиозное существо значительным хотя бы в плане физическом?
Снизошла бы равнодушная природа до того, чтобы заметить его, наравне с тлей и коралловыми полипами, вследствие изменений, произведенных им на земной поверхности?
3
Король, ошеломленный таким потоком красноречия, вежливо произнес:
– Разумеется, снизошла бы. Хотя бы делами своими мы все же значительны.
– Это какими же? – яростно осведомился его наставник.
– Ну, помилуй. Посмотри, сколько мы всего понастроили, посмотри на города, на пахотные поля…
– Большой Барьерный риф, – глядя в потолок, сказал Архимед, – представляет собой постройку длиною в тысячу миль, сооруженную исключительно насекомыми.
– Так ведь это всего-навсего риф.
Мерлин привычно жахнул шляпой о пол.
– Ты когда-нибудь научишься мыслить отвлеченно? – вопросил он. – Коралловые полипы имеют ровно столько же оснований заявить, что Лондон – всего-навсего город.
– Пусть так, но если все города мира выстроить в ряд…
Архимед сказал:
– Если ты возьмешься выстраивать в ряд города мира, я выстрою все коралловые острова и атоллы. А после мы сравним результаты и увидим то, что увидим.
– Ну, может быть, насекомые важнее человека, но ведь это всего лишь один вид…
Козел застенчиво произнес:
– По-моему, у комитета должна где-то быть записка насчет бобра – в ней утверждается, что бобры соорудили целые моря и континенты…
– Птицы, – с подчеркнутым бесстрастием промолвил Балин, – разносящие в своем помете семена деревьев, как уверяют, насадили леса, столь обширные…
– А кролики, – вмешался ежик, – которые, почитай, от Австерии ровное место оставили…
– А фораминиферы, из чьих тел, собственно, и состоят «белые скалы Дувра»…
– А саранча…
Мерлин поднял руку.
– Предъявите ему скромного дождевого червя, – величественно вымолвил он.
И звери хором зачитали цитату:
– Натуралист Дарвин указывает, что в акре каждого поля обитает примерно 25 000 дождевых червей, что в одной только Англии они ежегодно взрыхляют 320 000 000 тонн почвы и что обнаружить их можно практически в любом регионе Земли. В течение тридцати лет они изменяют всю земную поверхность на глубину в семь дюймов.
«Земля без червей, – говорит бессмертный Гилберт Уайт, – вскоре стала бы холодной, затверделой, лишенной ферментации и вследствие того бесплодной».
4
– Сдается мне, – сказал Король счастливым тоном, ибо все эти разговоры, казалось, уводили его далеко от Мордреда и Ланселота, от мест, в которых, по слову из «Короля Лира», – «люди пожирают друг друга, как чудища морские», – прямиком в радостный мир, где размышляют, беседуют и любят, не обрекая себя этим на муки.
– Сдается мне, что если все сказанное вами правда, то с моих собратьев-людей стоило бы сбить немного спеси, и это пошло бы им только на пользу. Если удастся приучить их смотреть на себя лишь как на одну из разновидностей млекопитающих, возможно, новизна такого воззрения окажет на них бодрящее действие. Расскажите же мне, к каким выводам относительно животного, именуемого человеком, пришел комитет, ибо вы, конечно, обсуждали эту тему.
– У нас возникли затруднения с названием.
– С каким названием?
– Homo sapiens, – пояснил уж. – Стало очевидным, что в качестве прилагательного sapiens никуда не годится, а найти иное до крайности трудно.
Архимед прибавил:
– Помнишь, Мерлин однажды упомянул, что зяблик носит прозвание coelebs? Хорошее прилагательное, отражающее какую-либо особенность, присущую виду, вот что нам требуется.
– Первым предложением, – сказал Мерлин, – было, разумеется, ferox, поскольку человек – самое свирепое из животных.
– Странно, что ты упомянул это слово. Час назад я сам именно о нем и думал. Но ты, конечно, преувеличиваешь, когда говоришь, что человек свирепее тигра.
– Преувеличиваю?
– Я всегда находил, что в целом люди – существа достойные…
Мерлин снял очки, глубоко вздохнул, протер их, снова надел и с любопытством воззрился на своего ученика, как если бы ожидал, что у того могут в любую минуту вырасти длинные, мягкие, ворсистые уши.
– Попробуй-ка вспомнить свою последнюю прогулку, – кротко предложил он.
– Прогулку?
– Ну да, прогулку по зеленым английским лугам. Вот идет себе Homo sapiens, наслаждаясь вечерней прохладой. Вообрази себе эту сцену. Вот черный дрозд распевает в зарослях. Он что, умолкает и с проклятьем убирается прочь? Ничуть не бывало. Он лишь начинает петь громче и опускается человеку на плечо. А вон и кролик пощипывает травку. Разве он удирает в ужасе к себе в нору? Вовсе нет. Он скачет человеку навстречу. Мы видим также полевую мышь, ужа, лисицу, ежика, барсука. Прячутся они или радостно принимают пришлеца? Почему? – воскликнул старый волшебник, вспыхивая вдруг странным, застарелым негодованием. – Почему нет в Англии ни единой твари, которая не улепетывала бы даже от человеческой тени, уподобляясь обгорелой душе, удирающей из чистилища? Ни млекопитающего, ни рыбы, ни птицы. Иди, прогуляйся чуть дальше, выйди на берег реки – даже рыбы шарахнутся прочь. Поверь мне, внушать страх всему живому – это чего-нибудь да стоит. И не надо, – быстро добавил старик, кладя ладонь на колено Артура, – не надо воображать, что они точно так же бегут друг от друга. Если лиса выйдет на луг, кролик, быть может, и смоется, но птица на дереве, да и все остальные смирятся с ее присутствием. Если ястреб повиснет над ними, дрозд, возможно, и спрячется, но лиса и прочие отнесутся к его появлению спокойно. И только человека, только ретивого члена Общества по изобретению новых мук для животных, страшится любая живая тварь.
– Все же эти животные не вполне, что называется, дикие. Тигр, к примеру…
Мерлин вновь прервал его, вскинув руку.
– Хорошо, если хочешь, прогуляемся по самым что ни на есть Черным Индиям, – сказал он. – Нет в африканских джунглях ни тигра, ни кобры, ни слона, которые не убегали бы от человека. Несколько тигров, спятивших от зубной боли, еще, может быть, и нападут на него, да кобра, если ее как следует прижать, будет сражаться из самозащиты. Но когда на лесной тропе умственно полноценный человек встречает такого же тигра, в сторону сворачивает именно тигр. Единственные животные, которые не бегут от человека, это те, которые его никогда не видели, – тюлени, пингвины, додо, арктические киты, – так они вследствие того и оказываются тут же на грани исчезновения. Даже те немногочисленные создания, что кормятся на человеке, – москиты и паразитирующие блохи, – даже они страшатся своего кормильца и старательнейшим образом следят за тем, чтобы не подвернуться ему под пальцы.
Homo ferox, – продолжал Мерлин, качая головой, – редчайшее в природе животное, убивающее для удовольствия. В этой комнате нет ни единого зверя, который не относился бы к убийству с презрением, разве что оно совершается пропитания ради. Человек впадает в негодование, завидев сорокопута, в небольшой кладовке которого имеется скромный запас улиток и прочего, насаженный на колючки, между тем как собственные забитые доверху кладовые человека окружены стадами очаровательных существ вроде мечтательных волов или овец с их интеллигентными и чувствительными лицами, которых держат лишь для того, чтобы плотоядный их пастырь, у коего и зубы-то не годятся для плотоядства, зарезал их на самом пороге зрелости и сожрал. Почитал бы ты письмо Лэма к Саути, в котором описывается, как испечь живого крота, да что можно учинить с майскими жуками, с кошкой, засунутой в пузырь, да как надрезать только что пойманных скатов, да о рыболовных крючках, этих «смиренных подателях невыносимой боли». Homo ferox, изощренный мучитель животных, который ценой огромных расходов растит фазанов лишь затем, чтобы их убивать; который терпеливо обучает прочих животных ремеслу убийцы; который живьем сжигает крыс – я видел это однажды в Ирландии, – дабы их визгом припугнуть иных грызунов; который вызывает у домашних гусей перерождение печени, чтобы затем повкуснее поесть; который отпиливает у скота живые рога для удобства транспортировки; который иглой ослепляет щеглов, чтобы они запели; который заживо варит в кипятке омаров и раков, хоть и слышит их пронзительные вопли; который уничтожает войнами собственный вид и каждые сто лет губит по девятнадцать миллионов его представителей; который публично казнит себе подобных, если суд признает их виновными в преступлении; который выдумал способ терзать с помощью розги своих же детенышей и который свозит их в концентрационные лагеря, именуемые школами, где те же самые муки причиняются детям специально уполномоченными субъектами… Да, ты имеешь полное право спросить, так ли уж обоснованно поименование человека словом ferox, ибо это слово в собственном его значении, относящемся до жизни вполне достойных животных на лоне дикой природы, никак невозможно приложить к такому созданию.
– О господи, – сказал Король. – Ну и подготовка же у тебя.
Но утихомирить старого волшебника было отнюдь не просто.
– Причина, по которой мы усомнились в пригодности слова ferox, – сказал он, – состояла в том, что Архимед заявил, будто stultus уместнее.
– Stultus? А мне казалось, что мы – существа разумные.
– Во время одной из жалких войн, какие велись в мои молодые годы, – с глубоким вздохом сказал волшебник, – было сочтено необходимым снабдить население Англии набором печатных карточек, предназначенных для того, чтобы обеспечить это население пищей. Прежде чем купить еду, надлежало собственноручно заполнить такую карточку. Каждый индивидуум должен был в одну часть карточки вписать номер, в другую собственное имя, а в третью – имя торговца продуктами. Человеку оставалось либо осуществить сей интеллектуальный подвиг – вписать один номер и два имени, – либо помереть от голода. От этой операции зависела его жизнь. В итоге выяснилось, что, насколько я помню, две трети населения неспособны безошибочно произвести такую последовательность действий. И этим людям, как уверяет нас Католическая Церковь, вверены бессмертные души!
– А ты уверен в истинности приведенных фактов? – с сомнением поинтересовался барсук.
Мерлину хватило такта, чтобы покраснеть.
– Я не вел тогда записей, – сказал он, – но в существе, если не в деталях, эти факты верны. Я, например, ясно помню одну женщину, стоявшую во время той же войны в очереди за птичьим кормом; как выяснилось при расспросах, никаких птиц у нее не было.
Артур возразил:
– Даже если те люди не сумели как следует вписать что следовало, это ничего не доказывает. Будь они иными животными, они вообще не умели бы писать.
– Краткий ответ на это, – парировал философ, – таков: ни одно человеческое существо неспособно просверлить носом дырку в желуде.
– Не понимаю.
– А вот видишь ли, насекомое, именуемое Balaninus elephas, умеет сверлить желуди упомянутым способом, но не умеет писать. Человек может писать, но не может сверлить желудей. Таковы их специализации. Существенное различие между ними состоит, однако же, в том, что если Balaninus сверлит свои дырки чрезвычайно умело, человек, как я тебе продемонстрировал, писать толком не умеет. Вот почему я говорю, что, если сопоставлять различные виды, человек оказывается более бестолковым, более stultus, чем остальная животная братия. Да, собственно, никакой разумный наблюдатель иного ожидать и не вправе. Слишком краткое время провел человек на нашем шарике, чтобы требовать от него сноровки в каком бы то ни было ремесле.
Король почувствовал, что настроение его становится все более подавленным.
– И много других имен вы придумали? – спросил он.
– Было и третье предложение, его внес барсук.
При этих словах довольный барсук пошаркал ногами, украдкой оглядел из-под очков общество и принялся изучать свои длинные когти.
– Impoliticus, – сказал Мерлин, – Homo impoliticus. Если помнишь, Аристотель определил нас как политических животных. Барсук предложил подвергнуть это определение проверке, и мы, рассмотрев политическую практику человека, пришли к выводу, что impoliticus, по всей видимости, – единственное пригодное слово.
– Продолжай, раз уж начал.
– Мы установили, что Homo ferox присущи политические идеи двух сортов: либо что любая проблема решается силой, либо что для их разрешения следует прибегать к убеждению. Муравьеобразные люди будущего, уверовавшие в силу, считают, что для установления истинности утверждения «дважды два – четыре» достаточно повышибать дух из людей, которые с тобой не согласны. Демократы же, верующие в убеждение, полагают, что всякий человек вправе обладать собственным мнением, ибо все люди рождаются равными: «Я ничем не хуже тебя» – вот первое, что инстинктивно выпаливает человек, который хуже тебя всем.
– Но если нельзя опереться ни на силу, ни на убеждение, – сказал Король, – то я не вижу, что остается делать.
– Ни сила, ни убеждение, ни мнение никак не связаны с размышлением, – с глубочайшей искренностью промолвил Мерлин. – Убеждая в чем-либо другого, ты лишь проявляешь силу ума – это своего рода умственное фехтование и цель его – достигнуть победы, не истины. Мнения же суть тупики дураков и лентяев, неспособных думать. Если когда-нибудь честный политик по-настоящему и с бесстрастием обдумает свое занятие, то в конце концов даже Homo stultus вынужден будет принять его выводы. Мнению нипочем не устоять против истины. Однако в настоящее время Homo impoliticus предпочитает либо спорить о мнениях, либо драться на кулачках – вместо того чтобы ждать, когда в голове у него забрезжит истина. Должны пройти еще миллионы лет, прежде чем людей в их массе можно будет назвать политическими животными.
– Так что же мы представляем собой в настоящем?
– Нам удалось обнаружить, что в настоящее время род человеческий разделяется в политическом отношении на одного мудреца, девятерых прохвостов и девять десятков болванов на каждую сотню. То есть это, с точки зрения оптимистического наблюдателя, девять прохвостов собираются под знамя, выброшенное самым прожженным из них, и становятся «политическими деятелями»; мудрец отходит в сторонку, ибо понимает, что его безнадежно превосходят числом, и посвящает себя поэзии, математике или философии; что же до девяноста болванов, то эти плетутся вослед знаменам девятерых проходимцев, выбирая их наугад, плетутся по лабиринтам софистики, злобы или войны. Так приятно командовать, говорит Санчо Панса, даже если командуешь стадом баранов, – вот потому-то политики и вздымают свои знамена. К тому же баранам все едино, за каким знаменем тащиться. Если это знамя демократии, девятеро прохвостов станут членами парламента, если фашизма – партийными лидерами, если коммунизма – комиссарами. И никакой больше разницы, только в названии. Болваны так и будут болванами, мошенники – вождями, результатом – эксплуатация. Что касается мудреца, то и его удел при любой идеологии в общих чертах одинаков. При демократии ему предоставят возможность пухнуть с голода на чердаке, при фашизме упекут в концентрационный лагерь, при коммунизме ликвидируют. Таков оптимистический, но в целом вполне научный вывод относительно повадок Homo impoliticus.
