Смерть Артура бесплатное чтение
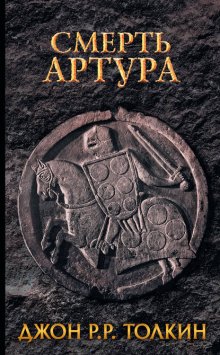
J.R.R. Tolkien
Edited by Christopher Tolkien
The fall of Arthur
© The Tolkien Trust, 2013
© The J.R.R. Tolkien Copyright Trust, 1975, 1981
© C.R. Tolkien, 2009, 2013
© The J.R.R. Tokien Estate Limited, 1953, 1966
© The J.R.R. Tolkien Copyright Trust and C.R. Tolkien, 1985, 1986, 1987
© R.S. Loomis, 1963
© Cambridge University Press, 1966, 1998
© Eugene Vinaver, 1947, 1971
© Перевод. С. Лихачева, 2016
© Издание на русском языке AST Publishers, 2016
Предисловие переводчика
Поэма «Гибель Артура» представляет собой пространный стихотворный текст (около тысячи строк), написанный в рамках аллитерационной системы стихосложения, непривычной для восприятия современного читателя, привыкшего к силлабо-тонике. Возникает необходимость предварить перевод небольшим разъяснением переводческой концепции, использованной в данном издании.
Современный читатель воспринимает аллитерацию как особый фонетический прием, повторение одинаковых или однородных согласных в стихотворении, придающее ему особую звуковую выразительность. Однако в древнегерманской поэзии аллитерация служила не украшением, а функциональным инструментом, связывающим строку в единое целое. Ее роль была близка той роли, которую в современной рифмованной поэзии играет рифма: соединение единиц стихосложения – строк или полустиший.
Аллитерационный стих широко представлен в сохранившихся древнеисландских, древнеанглийских, древненижненемецких и древневерхненемецких текстах.
Каждая строка древнеанглийского аллитерационного стиха делилась на две так называемые краткие строки, разделенные паузой или цезурой и связанные повторением начальных звуков в ударных словах.
В каждой краткой строке имелось по два сильных ударения, между которыми различным образом распределялись безударные слоги. Каждая краткая строка представляла собою образчик или вариацию одной из шести основных схем (их Дж. Р.Р. Толкин описал в своем эссе «О переводе „Беовульфа“»). Сильные места в строке назывались ее вершинами (англ. lifts); слабые места назывались спадами (англ. dips). Традиционная вершина представляла собою долгий ударный слог, обычно с повышением тона; традиционный спад представлял собою безударный слог, долгий или краткий, с понижением тона. В отношении такой метрической формы аллитерацию можно определить как согласованное созвучие начальных согласных либо гласных (любых: все гласные считаются аллитерирующими между собой) в сильноударных слогах долгой строки. Таким образом, основная метрическая функция аллитерации состоит в том, чтобы связать воедино две отдельных и сбалансированных кратких строки в завершенную долгую строку. Организацией строки заведует ряд правил: 1) не менее одной вершины в каждой краткой строке должны аллитерировать; 2) во второй краткой строке аллитерировать может только первая вершина; вторая аллитерировать не должна; 3) в первой краткой строке аллитерировать могут обе вершины[1].
В качестве примера можно привести отрывок из англосаксонского гимна, который, как считается, впервые явил Дж. Р.Р. Толкину образ мифического мира, впоследствии описанного им в своих произведениях:
Eala Earendel, /engla beorhtast
ofer middangeard / monnum sended…
(«Христос», 104–105)
В Англии аллитерационный стих в чистой, первозданной его форме вымирает вскоре после Нормандского завоевания 1066 года; однако ему суждено было воскреснуть в «свободном» аллитерирующем стихе Аллитерационного Возрождения середины XIV века. Эти же самые модели, как древнеанглийские, так и более свободные среднеанглийские, Дж. Р.Р. Толкин возрождает и использует, пользуясь средствами современного английского языка: примером тому служит «Возвращение Беорхтнота, сына Беорхтельма», отдельные стихотворные фрагменты из «Властелина Колец», «Лэ о детях Хурина» и настоящая поэма «Гибель Артура».
В том, что касается перевода аллитерационного стиха на русский язык, единого свода правил не существует. В германских языках ударение падает на корневую морфему, и она же обычно стоит в начале слова: она и является «вершиной», сильным местом краткой строки; именно в ее начале и содержится повторяющийся, «аллитерирующий» звук. В русском языке ударение к корневой морфеме не привязано; тем самым, если буквально воспроизводить модели древнеанглийской поэзии, аллитерирующий предударный звук может оказаться и далеко от начала слова, и даже не на корневой морфеме. В. Тихомиров, «первопроходец» и один из самых авторитетных переводчиков аллитерационной поэзии, на материале малых памятников прибег к точному, буквальному соблюдению аллитерационных схем – аллитерируют предударные согласные:
- Мы со Скиллингом возгласили голосами чистыми
- Зычно перед хозяином песносказание наше…[2]
- Платье мое безгласно, пока я по земле ступаю,
- пока я тревожу воды, пребываю в селеньях…[3]
Однако на куда более обширном материале эпической поэмы «Беовульф» тот же переводчик стремится скорее воспроизвести звуковой эффект оригинала, нежели соблюсти схемы, в результате чего аллитерирующие звуки повторяются вне строгой последовательности, зато на совпадении начальных согласных; причем общее впечатление кажется более привычным и естественным для русского слуха:
- Истинно! исстари слово мы слышим
- О доблести данов, о конунгах датских…
- Дань доставить достойному власти…[4]
Однозначного ответа на вопрос «как же правильно?», скорее всего, нет и быть не может: аллитерационный стих не является органической частью русскоязычной поэзии, и желаемого эффекта оригинала возможно добиваться разнообразными средствами, по одному или в комплексе. Что лучше воспринимается на слух русскоязычного читателя: совпадение начального согласного ударного слога – или совпадение начальных согласных слова, независимо от ударения? То есть:
Задумал он недоброе – или: Замыслил он злое?
Бегством из битвы себя запятнали – или: Бежали бесславно с бранного поля?
В настоящем переводе приоритет отдается совпадению начальных согласных (статистически доказано, что первый звук слова в четыре раза заметнее остальных): опыт подтверждает, что в большинстве случаев такая аллитерация «слышнее»:
- На восток выступил с войском Артур
- Воевать ворога на вольных границах…
Однако в ряде случаев «срабатывает» и совпадение начального согласного ударного слога:
- Как зябнет земь в предзимнюю пору…
- Или используется сочетание того и другого:
- Чтоб драккары недобрые не дерзали рыскать…
Важное уточнение: ударение в германских именах падает на первый слог. Поэтому для соблюдения ритмики стиха в имени «Артур» предпочтительно ставить ударение на первом слоге:
- На восток выступил с войском Áртур (не Артýр).
Еще несколько пояснений – по большей части относительно оформления текста.
В своих статьях (в частности, в статье, посвященной обзору эволюции артуровского мифа), К. Толкин ссылается на целый ряд ранних источников и пространно цитирует их: аллитерационную «Смерть Артура» (1400 года), строфическую «Смерть Артура» (XIV век), французский прозаический роман «Смерть Артура» (XIII век), «Смерть Артура» Томаса Мэлори (1485) и т. д. Большинство этих текстов, каждый – со своей узнаваемой стилистикой и узнаваемой лексикой, на русский язык никогда не переводились. Цитаты из существующих в русском переводе источников («История бриттов» Гальфрида Монмутского и «Смерть Артура» Томаса Мэлори) приводятся в ставших каноническими переводах, опубликованных в серии «Литературные памятники». Цитаты из не существующих в русском переводе источников – латинских и среднеанглийских, которые в тексте статей выглядят как иноязычная ставка, – приводятся параллельно и в оригинале, и в переводе на русский язык с точным соблюдением формы, чтобы дать читателю наиболее полное представление об этих практически не известных в русскоязычном литературоведении памятниках. Перевод данных фрагментов, зачастую достаточно обширных, выполнен переводчиком книги специально для данного издания.
Специфика написания имен сохраняется авторская (варианты, сознательно выбранные из всего многообразия существующих форм самим Дж. Р. Р Толкином), и потому они могут отличаться от привычных написаний в русскоязычной традиции, основанной на каноническом переводе «Смерти Артура» Т. Мэлори (выполненном И. Бернштейн). Так, у Толкина: Бламор (Blamore), Леодегранс (Leodegrance), Камилиард (Camiliard); эти варианты сохраняются и в русскоязычном переводе толкиновской поэмы, несмотря на то что в русскоязычной традиции закрепились варианты из перевода Т. Мэлори (поскольку другие тексты, как говорилось выше, практически не представлены): Бламур, Лодегранс, Камилард и т. д.
В случае разночтения написания у самого Дж. Р.Р. Толкина (что неизбежно, учитывая, что речь идет о незаконченном произведении и о большом количестве черновиков), в тексте перевода разночтения сохраняются в каждом отдельно взятом случае употребления имени. Так, варьируется написание имени супруги короля Артура: преобладает вариант Guinever (Гвиневра), но встречается и вариант Guinevere (Гвиневера), а в черновиках – варианты Guenaver (Гуэнавера), Gwenaver (Гвенавера) и т. д.
В главе, посвященной эволюции поэмы, одной из самых сложных для перевода, К. Толкин приводит большое количество фрагментов черновиков, сравнивая разные варианты одних и тех же строк, зачастую отличающихся друг от друга одним-двумя словами. В настоящем переводе сделано все, чтобы, сохранив совпадения в строках оригинала, воспроизвести мелкие разночтения средствами русского языка. Например:
(I.110–113)
- There evening came
- Отгорел закат,
- With misty moon moving slowly
- Месяц мглистый медленно крался
- Through the wind-wreckage in the wide heavens,
- Сквозь бреши бури в безбрежном небе,
- Where strands of storm among the stars wandered.
- Где вихрей вервия вьются средь звезд.
- There evening came
- Отгорел закат,
- With misty moon; mournful breezes
- Месяц был мглист; мягкие веянья
- In the wake of the winds wailed in the branches
- Ветрам вдогонку в ветвях стенали
- Where strands of storm…
- Где вихрей вервия.
В тексте представлены постраничные примечания двух видов. Примечания К. Толкина (уточнения, перевод отдельных слов в среднеанглийских цитатах и т. д.) являются неотъемлемой частью оригинала и не маркированы никак. Примечания, по необходимости добавленные переводчиком, отмечены как таковые. – Примеч. пер.
С. Лихачева
Предисловие
Общеизвестно, что непреходящая любовь моего отца к «северному» аллитерационному стиху ярко проявилась в его поэтическом наследии – от мира Средиземья (в частности, в длинном неоконченном «Лэ о детях Хурина») до драматического диалога «Возвращение Беорхтнота», восходящего к древнеанглийской поэме «Битва при Мэлдоне», и до его «древнеисландских» поэм: «Новая Песнь о Вёльсунгах» и «Новая Песнь о Гудрун» (на которые отец ссылался в письме от 1967 года как на «одну вещицу, написанную мною много лет назад, когда я пытался освоить искусство аллитерационной поэзии»). В «Сэре Гавейне и Зеленом Рыцаре» он демонстрирует блестящее мастерство в перенесении аллитерационного стиха XIV века на современный английский язык с использованием той же самой метрики. Теперь к ним добавляется неоконченная и неопубликованная поэма «Гибель Артура».
Мне удалось обнаружить только одно упоминание отца об этой поэме – в письме от 1955 г., где говорится: «Я с удовольствием пишу аллитерационные стихи, хотя, помимо нескольких фрагментов во „Властелине Колец“, опубликовал совсем мало, если не считать „Возвращения Беорхтнота“ ‹…›. Все еще надеюсь закончить длинную поэму „Гибель Артура“, написанную тем же стихом» («Письма Дж. Р. Р Толкина», № 165). В его бумагах нет никаких указаний на то, когда поэма была начата и когда отложена; но, по счастью, отец сохранил письмо Р. У. Чемберса от 9 декабря 1934 г. Чемберс (профессор английского языка и литературы в лондонском Юниверсити-Колледже), старый друг моего отца, восемнадцатью годами его старше, неизменно даривший его поддержкой, описывал, как читал «Артура» в поезде по пути в Кембридж, а на обратном пути «воспользовался тем, что в купе никого больше не было, и декламировал поэму вслух, как она того и заслуживает». Он отзывался о поэме с большой похвалой: «Величественное произведение. по-настоящему героическое, и ценно отнюдь не только тем, что наглядно демонстрирует, как можно использовать метрику „Беовульфа“ на современном английском языке». И завершил письмо словами: «Вы просто обязаны ее закончить!»
Но этого не произошло; и еще одна из отцовских длинных эпических поэм осталась недописанной. Можно почти наверняка утверждать, что отец прервал работу над «Лэ о детях Хурина» до того, как уехал из Лидского университета в Оксфорд в 1925 г.; а сам он отмечает, что взялся за «Лэ о Лейтиан» (пересказ легенды о Берене и Лутиэн), написанное уже не аллитерационным стихом, но парнорифмованными двустишиями, летом того же года («Лэ Белерианда», стр. 3). Вдобавок в Лидсе он начал аллитерационную поэму «Бегство нолдоли из Валинора» и еще один, совсем короткий фрагмент – по-видимому, им открывалось «Лэ об Эаренделе» («Лэ Белерианда», § II, «Поэмы, оставшиеся незавершенными на ранней стадии»).
В книге «Легенда о Сигурде и Гудрун» я предположил (стр. 5) – «хотя никаких подтверждений тому нет, – что отец взялся за древнеисландские песни как за новый поэтический проект [и вернулся к аллитерационному стиху] после того, как оставил „Лэ о Лейтиан“ (легенду о Берене и Лутиэн) ближе к концу 1931 года». Если так, то он, по-видимому, начал работу над «Гибелью Артура», закончив древнеисландские песни в конце 1934 года, – на тот момент поэма была все еще далека от завершения.
В поисках объяснения тому, что столь масштабные поэмы были заброшены на достаточно продвинутой стадии, стоит обратиться к обстоятельствам жизни автора после того, как он был избран на пост профессора англосаксонского языка в Оксфорде в 1925 г.: вспомнить о том, как много времени и сил отнимала эта должность и научная работа, а также о нуждах, заботах и расходах семьи. Как и на протяжении большей части жизни, у отца никогда не хватало времени; я склонен предположить, что вдохновение, бесконечно сдерживаемое, вероятно, могло просто иссякнуть – и все же снова дало о себе знать, как только среди всех его обязанностей, и неотложных дел, и прочих интересов образовался просвет, – однако проявилось уже с иной сюжетно-тематической посылкой.
Вне всякого сомнения, в каждом отдельном случае причины были свои, и сейчас доподлинно определить их невозможно; но в случае «Гибели Артура» я предположил (см. ниже), что эта поэма «села на мель» на волне кардинальных изменений, которые происходили в концепциях моего отца на тот момент вследствие работы над «Утраченным путем» и публикации «Хоббита»: возникла идея Нуменора, миф о том, как Мир Стал Круглым и о Прямом Пути, и впереди замаячил «Властелин Колец».
Можно также заподозрить, что в силу самой своей природы эта последняя, чрезвычайно сложная поэма оказалась особенно уязвима для задержек и помех. Ошеломляющее количество сохранившихся черновиков к «Гибели Артура» свидетельствует о трудностях, неизбежных при использовании данной метрики, которую мой отец находил настолько близкой по духу; и о придирчивой взыскательности, с какой отец стремился найти в рамках прихотливого и запутанного повествования подходящее выражение для ритмических и аллитерационных моделей древнеанглийских стихотворных форм. Если слегка изменить знакомую метафору, «Гибель Артура» явилась одним из тех произведений искусства, которые возводятся неспешно, и открывшиеся новые творческие горизонты для них губительны.
Как бы ни воспринимались подобные умозаключения, перед издателем неизбежно возникала проблема: как именно следует представить «Гибель Артура» издателю. Вероятно, некоторые из тех, кто взял в руки эту книгу, вполне удовольствовались бы одним лишь текстом поэмы в том виде, как он приведен здесь, и, скажем, кратким описанием этапов его создания, которые явствуют из многообразия черновиков. С другой стороны, наверняка есть и многие другие: те, кто взялся за поэму из любви к самому автору, но об «артуровской легенде» знает крайне мало и хочет, и ожидает обнаружить хоть какие-то указания на то, как эта «версия» соотносится с исходной средневековой традицией.
Как я уже сказал, отец не оставил никаких, даже самых кратких, указаний в том, что касается его соображений и намерений в отношении этой чрезвычайно оригинальной трактовки «Легенды о Ланселоте и Гвиневре», – в отличие от древнеисландских поэм, опубликованных под общим названием «Легенда о Сигурде и Гудрун». Но в данном случае со всей очевидностью нет нужды вступать в лабиринт в редакторской попытке написать всеобъемлющее разъяснение к «артуровской» легенде, которое, скорее всего, воздвиглось бы пугающим и грозным бастионом, так, словно без этого предваряющего справочного аппарата прочесть «Гибель Артура» никак невозможно.
Потому я отказался от какого бы то ни было «Введения» в полном смысле этого слова, но, следуя тексту поэмы, добавил несколько комментариев явно необязательного плана. Краткие примечания, приведенные в конце поэмы, по большей части сводятся к сжатому объяснению имен собственных и отдельных слов и к ссылкам на комментарии.
Каждый из этих комментариев, адресованных тем, кому требуются такие разъяснения, посвящен отдельным аспектам «Гибели Артура», представляющим особый интерес. Первый из них, «Поэма в контексте артуровской традиции», прост по замыслу, при всей своей длине очень ограничен по масштабности охвата и не содержит гипотетических интерпретаций; в нем прослеживается происхождение поэмы моего отца от конкретных нарративных традиций и анализируются расхождения с ними. С этой целью я опирался в основном на два произведения на английском языке: на средневековую поэму, известную как аллитерационная «Смерть Артура», и на соответствующие эпизоды из сэра Томаса Мэлори, со ссылками на источники. Не довольствуясь сухим конспективным изложением, я дословно цитирую ряд отрывков из этих произведений как наглядные образчики этих традиций, по форме и стилю радикально отличные от аллитерационной «Гибели Артура» иной эпохи.
По зрелом размышлении я решил, что лучше всего – во избежание лишней путаницы – изложить свои комментарии так, как если бы поэма дошла до нас только в позднем своем варианте (тот, что опубликован в книге), а все черновики, иллюстрирующие причудливую эволюцию этой формы, были бы полностью утрачены. Я не видел необходимости углубляться в запутанные дебри происхождения Артуровского мифа и его бытования в ранние эпохи. Скажу лишь, что для понимания «Гибели Артура» важно отдавать себе отчет: легенда коренится в V веке, когда римскому владычеству в Британии пришел конец и в 410 году легионы были отозваны, и восходит к воспоминаниям о битвах, которые вели бритты, противостоя разбойной резне и разору, что несли с собою варварские захватчики, англы и саксы, продвигаясь все дальше от восточных пределов бриттских владений. Следует помнить, что на протяжении всей книги термины «бритты» [Britons] и «бриттский» [British] относятся единственно и исключительно к кельтскому населению и их языку[5].
За разделом «Поэма в контексте артуровской традиции» следует раздел под названием «Ненаписанная поэма и ее взаимосвязь с „Сильмариллионом“», с анализом разнообразных набросков моего отца, которые содержат в себе какие-либо указания на планы автора касательно продолжения поэмы; и, наконец, раздел «Эволюция поэмы» – это в первую очередь попытка проиллюстрировать как можно четче (учитывая крайне запутанную текстологическую историю) основные изменения в структуре, на которые я то и дело ссылаюсь, и в придачу к ней – множество примеров, поясняющих художественный метод автора.
Примечание. На протяжении всей книги ссылки на текст поэмы даются в следующем формате: номер песни (римская цифра) + номер строки, напр. II. 7.
Гибель Артура
Песнь I
Как Артур и Гавейн отправились на войну и достигли Востока
- На восток выступил с войском Артур
- Воевать ворога на вольных границах,
- Поплыл за море в пределы саксонские,
- Рубежи римские от разора спасти.
- 5 Волну времени вспять обратить,
- Наказать нечестивцев надежда вела его,
- Чтоб драккары недобрые не дерзали рыскать
- Близ брегов белоснежных Британии Южной,
- Промышляя поживу в приливных водах.[6]
- 10 Как зябнет земь в предзимнюю пору
- И стынет солнце, склоняясь к закату
- В тусклом тумане, – так тянет мужа
- К трудам и странствиям, пока тепла кровь,
- Солнцем согретая, – так стремился душой он
- 15 После стольких свершений силу и доблесть
- Пробе подвергнуть, пытать напоследок
- Волю и веру в войне с судьбою.
- Так судьба своевластная сподвигала его,
- Его помыслам подло поддакивал Мордред:
- 20 Война-де важна, выжидать – глупо.
- «Кумирни да капища, крепости мощные[7]
- Да падут в пламени, пристани – рухнут,
- Острова, огражденные от оружных походов
- И римских ратей, руинами станут
- 25 В пожарах мести. Могуча длань твоя,
- Судьба твоя счастлива – ступай к победе!
- Благую Британию, бескрайний предел твой
- Беречь от бедствий берусь, как уедешь.
- Верный вассал я. Что за враг дерзнет
- 30 Нагрянуть с набегом, напасть на стены
- Островной отчизны, где Артур правит,
- Если волк востока в вековой чаще
- В западню загнан, затравлен насмерть?»[8]
- Так молвил Мордред; мужи – одобрили.
- 35 Предательства подлого не приметил Гавейн
- В совете смелом: до сражений жаден,
- Он в праздной пышности пагубу видел,
- Что Круглый Стол на крах обрекла.
- Так повел войско на восток Артур;
- 40 Война вспыхнула в великих землях.
- На кумирни и крепости королей нечестивых
- Мощь его двинулась маршем победным
- От Рейнских устьев – по разным странам.
- Ланселота лишился он; Лионель и Эктор,
- 45 Борс и Бламор на битву не вышли.
- Но мужи могучие во множестве шли с ним:
- Бедивер и Болдуин, Бриан Ирландский,
- Маррак и Менедук из мощных башен,
- Эррак и Ивейн Уриенова рода,[9]
- 50 Короля Регедского; Кедивор храбрый,
- И Кадор[10] запальчивый, королевин родич.
- Гавейн всех грознее, горд и бесстрашен:
- Сгущался сумрак – но слава росла его.
- Первым средь паладинов представал не раз он:
- 55 Оплот и опора обреченного мира.
- Как в последний прорыв за пределы осады —
- Так вел их Гавейн. Веселым гулом
- Голос гремел его в авангарде Артуровом;
- Головней горящей грозил клинок его,
- 60 В побоище первым полыхал молнией.
- Позади – пламя, противник – пред ними;
- Все вперед, к востоку вела их удача.
- Люд бежал без боя, как пред Божьим ликом,
- Пустели пущи; в пустынных холмах
- 65 Не видал их взгляд, не внимал им слух —
- Разве зверь да птица, что злобно рыщут
- В одиноких угодьях. Однажды дошли они
- До мглистого Мирквуда во мраке предгорий:
- Позади – пустошь, пред ними – стены;
- 70 По сирым склонам стремились все выше
- Чащ частоколы, черны, непролазны.
- Темные тени таились в лощинах,
- Где ветви витые вековечных дерев
- Сумеречные своды сплетают над реками,
- 75 Что с луговин льдистых льются потоком.
- Средь каменных кряжей каркали вороны,
- Орлы откликались с облачных высей,
- Выли волки у врат чащобы,
- Веял ветер, волглый и стылый,
- 80 Гневаясь грозно над грядой леса
- Средь листьев шумливых. Ливень хлынул,
- Сглотнула солнце свирепая буря.
- * * *
- Вековой Восток восстает во гневе:
- Раскатистый рокот, рожденный в темницах
- 85 Под горами грозными гремел окрест.
- В высях провидит войско смятенное
- Всадников вольных в вихревых тучах:
- Мчатся во мраке в мглистых шлемах
- Мороки бедствий на битву ярую.
- 90 Взвыл ветер. Величавые стяги
- Сдернул с древков. Добрая сталь,
- Серебро, и злато, и светлый щит
- Померкли в мареве, во мгле потонули,
- Полчища призраков с призывными кликами
- 95 Сходились в сумраке. Славный Гавейн
- Голос возвысил над гулом ветра:
- Зов зычный звенел в скалах
- Над грохотом грома: «Грядет война,
- Вы, рати разора, распри вестники!
- 100 Cупостат нам не страшен, ни смутные тени
- С предгорий пасмурных, приюта демонов!
- Внемлите вершины, вековые чащобы,
- Престолы подлунные предвечных богов,
- Велики и враждебны, внемлите, дрожите!
- 105 Война грядет с Запада, ветров сильнее,
- Мощь и мудрость, мареву неподвластные,
- Лорд легионов лучом во тьме —
- Артур мчит к востоку!» Воспряло эхо,
- Стих ветер. Стены ущелий
- 110 «Артур» откликались.
- Отгорел закат,
- Месяц мглистый медленно крался
- Сквозь бреши бури в безбрежном небе,
- Где вихрей вервия вьются средь звезд.
- Пламя плясало всплесками золота
- 115 Под холмами хмурыми. В хладных сумерках
- Белели бледно по бугристым склонам,
- Как эльфийские поросли в осеннем поле,
- От смертных спрятаны в сонных низинах,
- Шатры Артуровы.
- Шло время,
- 120 Дня дождались: дремотные сумерки
- Над мглистыми кряжами мерцали бессолнечно;
- В воздухе волглом ветер улегся.
- Тишь настала. Из темных долин
- Туманы тусклые тянулись кверху;
- 125 Хладная хмарь хребты затопила,
- Сырая и стылая; седые лощины
- В пелене пасмурной потонули, как в море.
- Дерева вековые ветви сплетали,
- Как подводная водоросль, где волны не движутся;
- 130 Cтращали из сумрака скитальцев[11] уставших.
- У людей в лагере леденели сердца
- На кромке Мирквуда под корнями горы.
- Проступала пуща сквозь покровы туманов,
- Огнища гасли. Гнёл души страх,
- 135 В мире мрака, не молвя ни слова,
- Все бдили, боясь бедствий неведомых.
- Из дальней дали, чуть дело к вечеру,
- В предгорьях послышалось пенье рога,
- Как в ночи над пучиной нечаянный голос,
- 140 Забыт и затерян. Звучал он все ближе.
- Копыта клацали, кони ржали,
- Сигнал дала стража. Скорбь нагрянула.
- Вести по ветру влекомы с Запада:
- Бастионы Британии к битве готовятся.
- 145 Ло! Конный Крадок[12] к королю явился
- Путями опасными. Пролегли те тропы
- От Рейнских устьев по разным странам.
- Мрачно мчал он. Ни мглистые тени,
- Ни проливень не преграда пылкому сердцу.
- 150 C седла он спешился, без сил, измучен;
- Скверные вести поведал Артуру:
- «Надолго, владыка, владенья покинул ты!
- Пока ведешь войну ты с вражьим племенем
- На Востоке варварском, вождей сотня
- 155 Коней прибоя, крепких да быстрых,
- Взнуздали в заливах заокраинных островов.
- Драккары дерзкие дробят волны;
- На бреге брошенном бряцают щиты,
- Смоляные стяги струятся средь труб.
- 160 Веют ветра войны над Британией![13]
- Йорк в осаде и сдался Линкольн,
- Пылает пожарами побережье Кента.
- Сюда скакал я сломя голову,
- Приспел к тебе, спасшись от погони по морю, —
- 165 О вероломстве поведать. Не верь Мордреду!
- Предатель он подлый, привечает врагов твоих,
- С лордами Лохланна[14] ладит дружбу,
- С Альмейна и Ангельна[15] алчет союзников,
- Крадет королевство, к короне тянет
- 170 Подлые руки. Поспешай на запад!»
- * * *
- Долго Артур, досадой объят,
- Сидел бессловесно. Сколь скоро фортуна
- Подвела, предав его. Победу стяжал он
- В двадцати битвах. Бежали враги,
- 175 Вождям враждебным воздавала длань его.
- Но вниз низвергшись с высот надежды,
- Душа домышляла: его дом обречен,
- Древний мир движется к гибели,
- И волна времени восстает супротив него.
- 180 После послал он призвать Гавейна,
- В совете смелого. Сказ был невесел;
- Вести скверные поведал Артур ему.
- «Днесь по Ланселоту лью я слезы:
- Нужда у нас ныне в надежных мечах
- 185 Рода Банова.[16] Разумным мнится
- Послать поскорее к ним, прося о службе
- Повелителю прежнему. На предательский сговор
- Мы воинство выдвинем, вернемся гордо
- С мощью немалой – Мордреда усмирять».
- 190 Говорит Гавейн, грозно и веско:
- «Быть в Бенвике Бановым родичам,
- Думаю, должно, не содействуя более
- Предательству подлому. Предвижу худое:
- Врагами вступят в войну друзья твои.
- 195 Коли Ланселот – ленник верный,
- Пусть раскаянья ради отринет гордыню,
- Незваным нагрянет при нужде к королю.
- Но скорее с сотней сердец верных
- Грозу я встречу, чем гербами бесславными
- 200 И мечами бесчестными черных изменников
- Нашу мощь умножу. Много ли надо нам?
- Собери хоть сонмы по странам мира,
- Смертных ли, эльфов ли – от сводов Леса
- До острова Авалон[17] огромные рати —
- 205 Нигде не найдется надежней рыцарей,
- Бойцов благороднее, в битве прославленных;
- Мужи столь могучие под месяцем ясным
- Не сойдутся снова, пока склепы не вскроются.
- Здесь не вянет на воле времени цвет,
- 210 Что помнить потомкам сквозь полог годов
- Как златое лето средь лютой зимы.
- Гавейн с тобой. Господь да хранит нас,
- Союзников в чаянии, сердцами связанных,
- Ведь кровь родная кипит в наших жилах,
- 215 Артур и Гавейн! Грознее злу
- Бросали мы вызов, бежать вынуждая.
- Надежда – в натиске. Пока ненависть медлит
- И советы спорные в секрете зреют,
- Порывом ветра помчим на запад
- 220 За море, не мешкая, с мщеньем явимся!»
Песнь II
Как явился с вестями фризский корабль, а Мордред собрал войско и отправился в Камелот к королеве
- Темный ветер веет над водной пучиной,
- Влечет на взморье валы с юга,
- Грозное море с грохотом катит
- Громовые горы с гребнями сивыми.
- 5 Мир – во мраке. Мерцает луна
- Сквозь тучи тяжкие, что тянутся к северу.
- * * *
- Ладья ладная летит из Франции,
- Драконьеглавая, грозная видом,
- По морю мечется, мглою одета,
- 10 Затравлена волнами, как зверь дикий
- Средь голодных гончих. Гул урагана
- Смерть сулит ей.[18] Стенают люди,
- Воплем великим взывают к богам,
- Гоним на гибель горемычный корабль
- 15 В морское устье. Мерцает луна
- В глазах немигающих на горестных лицах,
- Смерть смущая. Свершился рок их.
- Пробудился Мордред, в мыслях блуждая
- Темными тропами тайных козней.
- 20 Засмотрелся в окно западной башни:
- Заря занималась, зловещая, смутная,
- Серый свет струился сквозь своды туч.
- Ветер веял над валом каменным;
- Волны вздыхали, вздымалось море.
- 25 Не слышал, не слушал он, сердцем влекомый
- К пытке похоти, к плену давнему,
- К Гвиневре[19] гордой, гладкорукой,
- Прекрасной и пагубной, подобной фее,
- Что о муках мужей в мире подлунном
- 30 Ни слезы не сронит. Сокрушит он твердыни,
- Повергнет престолы – но не прогнать той думы.
- В почивальне покойной, средь подушек шелковых
- Спала она сладко на серебряном ложе,
- Средь волны волос, привольно дыша,
- 35 Скиталась без страха во снах благовонных,
- Сожалений не ведая, сочувствию чуждая,
- В крепости Камелота королева прекрасная,
- Владычица беззащитная. Веяло холодом.
- Постыла постель ему – призраки черные
- 40 Желанья жаркого и жгучей ярости
- Снедали сердце до студеного утра.
- Взошел он вверх по витой лестнице
- К стенам, сложенным из серого камня.
- Над миром, плачущим в миг пробуждения,
- 45 Смеясь, склонился он, к слезам непривычен.
- Петухи пели. Переполох у врат.
- Слуги спешат к нему, ступая неслышно,
- Пробежав поспешно по покоям и залам.
- Ивор-оруженосец окликнул Мордреда
- 50 От ступеней донжона,[20] в дверях стоя.
- «Лорд! Спускайся! Что скучаешь один ты?
- Верные вести: времени мало —
- Каяться некогда.[21] Корабль на взморье!»
- Вышел Мордред; мужи дрогнули
- 55 Пред ликом неласковым, влагой сбрызнутым;
- Ветром встрепаны волосы; вздорливо молвит он:
- «Ты рыщешь с отребьем по роскошному замку,
- Раз прибило к берегу бурей лодчонку?»
- Ивор ответствовал: «Исполняя наказ твой,
- 60 Капитан фризский из Франции прибыл,
- По воле ветра, верный слову,
- С судьбой споря. Судьба победила.
- Ладья, изломана, лежит на гальке;
- На пороге погибели посланец замешкался,
- 65 Покойники – прочие». С приходом дня
- Рыжий разбойник расплатился с хозяином
- За кольца златые – и канул в ад;
- Не пытался покаяться, не просил о священнике;
- Последним словом предостерег лорда:
- 70 «Крадок клятый, к королю поспешая,
- От сетей твоих спасся, до срока должного
- Вести везет на восток от Альмейна
- Безвременно из Британии. Бесплодны советы;
- О дерзких делах твоих донесли Артуру,
- 75 О замыслах знает он – и зол безмерно.
- Собирает силы он, спеша домой
- От рубежей римских ревущей бурей.
- Девять тысяч рыцарей рвутся к морю;
- На северных волнах суда качаются,
- 80 Баркасы и барки на Белом взморье[22],
- Молотки корабелов, крики матросов;
- Броня бряцает, беснуются кони,
- Гул стоит и грохот. Гляди ты в оба!
- На бортах блещут боевые щиты,
- 85 Кроваво-красным крашены к битве,
- Во власти ветра, на волнах ждут они;[23]
- Что псы на привязи, пляшут драккары
- На тросах натянутых. Торопись на восток!»
- Радбод рыжий, разбойник моря,
- 90 Неизменен в ненависти, нехристь – сердцем,
- Сгиб, как судил рок. Сумрачным утром
- В бездну вод его бросили, побрезгав душою:
- Ей скользить над пучиной скитальцем бездомным.
- Веял ветер над владеньями Запада.
- 95 Струились стяги, смоляной ворон
- С герба грозился. Гудели трубы,
- Кольчуги лязгали, кони ржали,
- В холмах хмурых ходило эхо.
- То Мордред шел маршем; мчались гонцы
- 100 На восток и на север с вестями спешными
- По лугам Логрии[24]. Лордов и рыцарей
- Сзывал под свой стяг он: спешили на зов,
- Согласно сговору, союзники Мордреда,
- Верны в вероломстве, враги Артуровы,
- 105 Предатели подлые, до подкупа жадные
- Солдаты судьбы, сорвиголовы дерзкие
- Из Эрин и Альбы, с островов туманных,
- Из Альмейна, и Ангельна,[25] и Восточной Саксонии,
- Вороны взморья и ветреных топей.
- 110 В Камелот прибыл он с королевой свидеться;
- По ступеням спешно ступая в гневе,
- Широким шагом взошел по лестнице,
- В покои поднялся. С пылающим взором
- У входа встал он, воззрившись мрачно.
- 115 Замерла она молча – ни знака, ни жеста —
- Под окном огромным. Отсвечивал день
- В локонах длинных лучистого золота.
- Серы глаза ее, как сверкание моря;
- Хрустально-хладные, храбро встретили
- 120 Безжалостный взгляд. Но бледнели щеки;
- Сердце стеснилось в ней: словно средь псов,
- Что льнут, и ласкаются, и лижут руку,
- Меж выжлецов волка вдруг разглядела.
- Молвил Мордред с мрачной улыбкой:
- 125 «Ло! Леди Британии! Без любви и веселья
- Долги дни доли безмужней,
- Короля королеве нет; в крепости стихло
- Веселье воинское. Но не век тебе
- Чахнуть в отчаянии часами постылыми
- 130 Без любви и ласки. Лестный удел ли
- Для могучей монархини, чья меркнет слава?
- Коли выберешь верно – вернется счастье:
- Король корону кладет к ногам твоим,
- И страсть, и службу суля тебе ныне».
- 135 Гвиневра горько гостю ответила:
- «Королем ты зовешь себя, о короне молвишь —
- Сюзерен ссудил ее на срок недолгий,
- Он жив и правит, пусть в походе замешкался.
- За любовь спасибо и за службу верную,
- 140 Хоть долг в том, думаю, дорогого племянника
- Пред королевой Артуровой». Отвела взгляд она.
- Он, свирепо схватив ее, пред собой поставил.
- Говорил грозно – Гвиневра дрогнула:
- «Вовек не воротится с войн северных
- 145 Обратно Артур в островную вотчину,
- Ланселот Озерный о любви и не вспомнит,
- Не вернется к верности! Время меняется;
- Запад затмился – задул ветер
- Над восставшим Востоком. И вздрогнул мир.
- 150 Плещут в проливах потоки новые.
- Верны ль, вероломны, лишь вольные души
- Превозмогут пороги, из праха выхватят
- Величье и власть. Как велю, так и будет.
- Со мной на ложе возляжешь, любовницей, госпожой ли,
- 155 Супругой или служанкой, силком ли, добром ли.
- Свой приз получу я, прежде чем падут башни
- И престолы повергнутся; прежде насыщусь.
- Потом как король коронуюсь златом».
- В стылом сердце сомневалась Гвиневра
- 160 Меж опаской и осторожностью; озадачена будто бы,
- Помолчав покорно, притворно молвила:
- «Лорд мой, нежданны любовные речи
- И признанья пылкие в эту пору в устах твоих.
- Надежды новые надо обдумать!
- 165 Передышку позволь мне, помедли малость
- Ответа требовать! Коли Артур вернется,
- Пропаду и погибну я! Подтвердить сумеешь,
- Что в войне верх возьмешь ты, вырвешь корону
- У смутных времен, так согласье дам я,
- 170 Не думая долго». Дерзок был смех его:
- «Подтверждения права – пленнице ль требовать,
- Слабой – у сильного? Сюзерен или эрл я,
- Меж невестой и невольницей недолог выбор!
- Нынче же ночью нужен ответ мне;
- 175 Доле думать не дам». Дворец покинув,
- Сбежал свирепо по ступеням гулким,
- Широким шагом прошел через двор он.
- Ночь настала. Нагая луна,
- Скользнув стремглав из свивальников облачных,
- 180 Грозой изодранных, в заводи звездной
- Плыла покойно. Поспешали сквозь ночь
- Конники резвые: копыта звенели,
- Серебром сверкали стальные копья.
- На дне долины далеко позади
- 185 Огни Камелота, отгорев, угасли;
- Лес лег впереди, лощины и топи,
- Тропы темные, тусклые. Торопил ужас.
- Волк вышел, завыл в чаще,
- С лесного лежбища лань пугливая
- 190 От беды бежала в безумном страхе,
- Затравлена зверем, – зычно трубя,
- Рогачи величавые за владычицу леса
- Встарь свирепо сражались. Так спасалась она,
- Гвиневера гордая, сквозь густой мрак
- 195 В сукне сером сокрывшись из замка.
- Приспешники преданные помогли бегству,
- Слуги из свиты, ее спутники встарь,
- Когда от Леодегранса[26] она в Логрию ехала
- Нареченной невестою, нарядная, в золоте
- 200 Утренней славы Артуровой мощи.
- Ныне к землям забытым, к заброшенным башням,
- Где Леодегранс много лет назад
- За Круглым Столом по-королевски трапезовал,
- Поспешала к прибежищу, к пристани стылой,
- 205 К ненадежному дому. Думала о Ланселоте
- Мрачные мысли: вдруг за морем прослышит он
- О скитаньях ее и скорби, и свирепом волке.
- Коли сгинет король и слетятся вороны,
- На призыв придет ли паладин королевин,
- 210 На подмогу прискачет ли? У погибели, может быть,
- Отрада отспорится. Отважная Гвиневера
- Судьбу переборет – в придачу к Мордреду,
- И волну времени своей волей направит.
Песнь III
О сэре Ланселоте, пребывающем в Бенвике
- К свирепой силе от сна на юге
- Разбужена буря, с бряцаньем грома
- И лютым ливнем над лигами моря
- Стремительным смерчем к северу движется.
- 5 Седые вершины взгорий и скал
- Взъерошены ветром пред вздыбленным морем.
- Бьют в брег буруны на Бенвикском взморье,[27]
- Крушат в крошево в крутом гневе
- Валуны великие. Взвесь соленая
- 10 Висит в воздухе вспененным маревом.
- Там Ланселот за лигами моря
- В круговерти ветров из высоких окон
- Глядел да гадал, горюя один.
- Томился он тяжко. Тьма сгущалась.
- 15 Лорда он предал, любви уступая,
- Но, любовь отринув, лорда не возвернул.
- Впредь вероломцу в вере отказано,
- От любви ж отделен он лигами моря.
- Сэр Ланселот, лорд Бенвикский,
- 20 В прошлом – первый из паладинов Артуровых,
- В кругу королевичей королем казался,
- В деяньях доблести дерзок сверх меры,
- Превзошел он прочих, пылок духом.
- В краю, где красив люд, что кущи цветущие,
- 25 Всех милее ликом, лучший из воинов,
- Силен и статен, сталь закаленная.
- Сам – светел, как смоль – кудри,
- Темны и пышны; темны глаза его.
- Что злато зари, золотой Гавейн,[28]
- 30 Но строго смотрят серые очи,
- Суровей – складом. Слывя ему ровней,
- Не знал он зависти, не заботясь о первенстве,
- Паладинов придворных похвалой дарил он,
- Но лишь лорда любил беззаветно,
- 35 Ни мужей, ни жен в мыслях не числил
- Дороже Артура. Денно и нощно
- Сомневался в Гвиневре он, пока стылая тень
- Ее славы сияние сумраком не одела.
- Ланселота любовью леди дарила,
- 40 В сиянии славы его – счастье черпала.
- Лишь свою леди любил беззаветно он;
- Ни мужей, ни жен в мыслях не числил
- Гвиневры дороже: с госпожой рядом
- Лишь доброе имя, да доблесть рыцаря
- 45 Сберегал в сердце. Совершенства взыскуя,
- Он верен всегда был владыке Артуру;
- За Круглым Столом, в королевском ордене
- Паладин и принц, преданно чтил он
- Королеву и даму. Но дымное золото
- 50 И серебро стылое она сердцем алчным
- Почитала прекрасней, в пальцах сжимая;
- Милей мнила то, что во мраке сокровищниц
- Для себя сберегала. Страстно любила
- Непреклонной любовью леди безжалостная,
- 55 Чьи пагубны помыслы, прекрасна – как фея,
- Мужам на муку в мир пришла она,[29]
- Судьбою сподвигнута. Сочла его краше
- Серебра и злата, что сжимала в горсти.
- Златом серебряным, как на заре – солнце,
- 60 Рдела улыбка, рыданья внезапные
- Смягчались слезами, сладостный яд,
- Сталь стойкая.[30] Не сдержали клятв они.
- Мрачный Мордред молча следил их,
- Затаив злобу и завистью мучась.
- 65 Так зло зародилось, застлала тень
- Чертоги Артуровы, как черная туча
- Свет солнца скрывает, сгущаясь медленно.
- В день недобрый доблестный Агравейн
- Суровая длань[31] смерть принял[32] —
- 70 На пороге пал он, к печали Гавейна.
- Мечи могучие не мешкали в ножнах:
- И Круглый Стол на крах обрекла
- Королевина распря. Клинки сверкали,
- Королеву казнь на костре ожидала.
- 75 Прекрасной как фея – приговор суровый:
- Смерть суждена ей. Но смерть замешкалась.
- Се! Ланселот лучезарной молнией
- Средь гулкого грома – грозное пламя —
- Напал нежданно, неистово ринулся
- 80 На друзей давних: так деревья в бурю
- Валит ветер, вырывает с корнем.
- Гахерис и Гарет[33], Гавейновы братья,
- Подле пламени пали: повелел так рок.
- Из огня вызволив, он увез далеко ее;
- 85 Страх всех сковал; никто следом не ринулся:
- Бились с ним бок о бок[34] Бановы родичи.
- * * *
- Но ярость иссякла, излился гнев,
- Поменялся настрой его. Поздно оплакал он
- Раскол и крах Круглого Стола,[35]
- 90 В гордыне он покаялся, проклял доблесть,
- Что сразила соратников и слово нарушила.
- Любви лишившись лорда Артура,
- Честь он чаял печалью вылечить,
- Возвернуть королеву королевской милостью
- 95 К чину почетному. Чуждым ей мнился он,
- Как от порчи пагубной переменившись.
- Не во вред война бы ей, кабы волей собственной
- Сохранила счастливо и страсть, и жизнь,
- На потеху и прихоть, покуда жив мир.
- 100 Но участь изгнанницы угодна ей мало[36],
- За любовь лишенья не любо терпеть ей.
- Простились в печали. Презрительным словом
- Бередя боль его, безжалостно мучая,
- Терзалась тоской она,[37] без толку алкая;
- 105 Сияние солнца сокрыла буря
- В черный час. Чужой она мнилась,
- Переменившись. Над пучиной стоял он
- Изваянием каменным, изверясь в надежде.
- Простились в муке. Прощенье нашла она
- 110 В монаршьей милости и мудрых советах:
- Чтоб не вышло впредь войны нечестивой
- Меж владыками христианскими воронью на поживу.
- В Камелоте вновь она королевою стала
- В почете и чести. Прощенья Артурова
- 115 Не обрел опальный. Отвергли меч его.
- Верным воином впредь на колено то
- Не класть клинка ему, не клонить главы —
- Ланселоту, что, любовь отринув,
- Просил о прощении, презрев гордость.
- 120 Любви лишившись, за лиги изгнан,
- Круглый Стол, и славное братство,
- И сиденье[38] славное, где он сиживал прежде,
- Покинул в печали он. Пучина соленая
- За спиной серела.
- Скорбел Артур
- 125 В душе и думах; дом его, мнилось,
- Оскудел отрадой, отравлен горечью:
- Паладина первейшего потерял в час нужды.
- Не один отплыл за океан бурный
- Ланселот в ладье. Лордов в роду его
- 130 Много могучих. На мачтах реяли
- Борса бравого и Бламора стяги,
- Лионеля, Лавейна и лихого Эктора,
- Сына младшего Банова. Все по морю уплыли
- Из Британии в Бенвик. В битвах отныне
- 135 Опорой Артуру с оружием не были,
- Но в башнях Бановых бдили зорко,
- За валами высокими войну отвергая,
- Лорда Ланселота с любовью хранили
- В час черный. Чаша горька его:
- 140 Лорда он предал, любви уступая,
- Но любовь отринув, лорда не возвернул,
- От любви ж отделен он лигами моря.[39]
- От гаваней западных грядут вести:
- Артур с оружием на отчизну двинулся,
- 145 Могучий флот, местью сподвинут,
- Собрал он споро, но свирепая буря
- Послужила преградой и препоной нежданной.
- О лорде Логрии[40] и лукавой измене,
- Что престолу – пагуба, помышлял он мрачно:
- 150 Нужда настала в надежных рыцарях,
- Чтоб в веках выстоял венец державный,
- У прибоя пенного правил Западом,
- Заслоняя крепости от крушения мира.
- Не хватает ныне нещадных клинков
- 155 Банова рода и блестящих стягов;
- Ланселот ныне лордову битву
- Пожаром полнил бы, как пламя ярое.
- Ныне надеялся и нехотя ждал он
- Получить приказ и призыв немедля
- 160 Воспомнить о верности вассала – к монарху,
- Ланселота – к лорду Артуру.
- О Гвиневре, горюя, грезил он снова:
- Беда в Британии, бушует война;
- Коли вновь возродилась в ней верность стойкая,
- 165 Так гибель грозит ей. Глубоко любил он.
- Хоть в гневе ушла она, горя не выказав,
- Не печалясь, не плача, в презрении гордом,
- Глубоко любил он. В горький час бедствия
- Послала б письмо она, пылко и спешно,
- 170 Трубя в трубы, против туч и шторма
- За море мчался б он, мечом потрясая,
- В предел покинутый, к последней битве
- По воле владычицы, хоть владыка отверг его.
- Не пришло ни письма с призывом от лорда,
- 175 Ни вестей от владычицы. Лишь ветер гулкий
- Над вольными волнами веял беспечно.
- Ныне слава Гавейна в сиянии злата,
- Как закат, что заревом зажигает мир,
- За окоем океана опускаясь в багрянце,
- 180 Пред Артуром пылала, и померкнул Восток.
- В сумраке сером сокрывшись, Гвиневра
- Ревниво следила, как рушится мир,
- Сердцем суровела, как счастье таяло,
- В потаенных помыслах просчитала опасность;
- 185 Мечты миновали – а ведь мнила недавно
- Лепить рок людской, как любо душе ее.
- А Ланселот за лиги морские
- Глядел да гадал, горюя один
- В смятении сердца. Сгустилась тьма.
- 190 В рог не трубил он, рать не сбирал он;
- В путь не пустился. Порывы ветра
- Сотрясали стены, сердилась буря.
- Заря забрезжила. В заливе сумрачном
- На песке призрачно пена мерцала;
- 195 Поменялся прилив, поутихла буря.
- Свет скользнул из стылой тени,
- Волны возжег, по водам разлившись,
- Стеклом сияли серебро и зелень.
- Сном скован, склонясь к окну,
- 200 Прилег Ланселот пленником грез,
- Челом поникнув на подоконник.
- Отверз он очи: за окном – рассвет;
- Ветер все веял в вольном небе,
- На дорогах вышних, а на дольний мир
- 205 Пал покой. В прудах отражались
- Серебром сиявшие солнца лучи;
- Мир мерцал, омытый росою;
- Пели птицы, празднуя утро.
- * * *
- Воспряла в нем воля – словно вес тяжкий
- 210 Cо спины сбросил. Стоял один он;
- Зари зарево зажглось в лице его,
- Песнь позабытая прибоем нахлынула,
- В сердце слышалась, что струны арфы.
- Так Ланселот в лад и негромко
- 215 Пел про себя, приветствуя солнце;
- Жизнь из сумрака, сияя, восстала,
- Под сводом вышним смертью восславлена.
- Прилив переменится, придет время,
- Из-за гряд утра грядет надежда —
- 220 Пробуждать спящих, пока стоит мир.
- Часа не чаял он, не чуял, что впредь
- Не вернуться вовек ей вестницей бури,
- Не воззвать к войне ветрам трубным.
- Стеченье судеб сменилось отныне,
- 225 Прилив отхлынул потоком быстрым.
- Смерть стояла пред ним, и сочлись дни его
- Вне вех времени; не вернется он снова
- В страны смертных, пока стоит мир.
Песнь IV
О том, как Артур возвратился на заре и с помощью сэра Гавейна пробился к берегу
- Выли волки у врат чащобы,
- Ветви под ветром, вздыхая, дрожали,
- Листва летучая над лесом кружилась,
- Умирая, устлала унылые долы.
- 5 Путь петлял по промозглым долинам,
- Через гряды гор в густевшем тумане,
- До валов валлийских, что воздвиглись на западе,
- Темнолики и грозны. К грядам черным
- По кручам каменным конники мчались,
- 10 Cледа не оставив. Слышался грохот
- Воды с высот, вскипавшей во тьме
- Повсюду в пути к потаенному царству.
- Ночь настала. В недвижном безмолвии
- Звон копыт затих над землей теней.
- 15 Заря забрезжила. По зябким склонам
- Вековых гор, на восток глядящим,
- Заструилось зарево. Замерцала земля.
- Сверкнуло солнце. Серебристое утро
- Всходило все выше, водой омытое,
- 20 В синь светозарную свода небесного.
- Лучи лились сквозь лесные кущи,
- Сияя, сквозили в седой глуши;
- Дождевые капли с дерев срывались,
- Стекали, сверкая стеклом расплавленным.
- 25 Птицы не пели, прятался зверь.
- Волками чуткими сквозь чащу крались
- К границам гористым гонцы Мордреда,
- Голодны и грозны, гончие с ними —
- По следу[41] спешили, свирепо лая.
- 30 За Гвиневерой гнались они в гневе лютом,
- Пока не отчаялись средь чуждых пустошей,
- Погоню прервали в предгорьях грозных
- У валов валлийских. Война – позади них,
- Беда – в Британии. Бушевали ветра,
- 35 Выжидал Мордред.
- Вести пришли к нему
- Под сенью скал сиявших над морем
- В стороне южной. На скошенном поле
- Шатры встали – что шумный город;
- Проулки и площади полнились гомоном
- 40 На дне долин и на дюнах отлогих,
- Над Ромерилем[42], где ревущий поток
- Проложил к побережью путь неглубокий.
- С островов облачных, с Ангельна, с Востока[43]
- Короли Альмейна корабли там строили:
- 45 Под скалой стеснились суда резные,
- Смоляные стяги струились вольно.
- Ветер вспенил воды зыбливые;
- Над сверкающей галькой, серебристо-зеленое,
- Мыло море меловые скалы.
- 50 Мордред встал молча на могильном кургане:
- Взор свой вперяя вдаль, к южным пределам,
- Чтоб суда Артуровы к суше нежданно
- Не пригнал прибой. Поставил он стражу
- Вдоль кромки моря в краю южном —
- 55 Наблюдать неусыпно ночью и днем
- За проливом с предгорьев. Построил на высях
- Сигнальные башни – что светом вспыхнут,
- Коль Артур покажется, на помощь скликая,
- Собирая силы, там, где спешная надобность.
- 60 Так выжидал он вдумчиво и ветер отслеживал.
- Воззвал к нему Ивор, выкликая зычно:
- Суров и статен, стоял у шатра тот;
- Невеселы вести, что привез он с Запада:
- «О Король! – крикнул он. – Королева пропала!
- 65 След сокрылся средь серого камня,
- Гонители с гончими в горах заплутали.
- В королевство сокрытое, в священные долы,
- Где Леодегранс[44] много лет назад,
- Владыка волшебный, вел жизнь осадную,
- 70 Она спаслась – и свободна. Но по сердцу немногим.
- Не страшись ее долее, даму-фею!
- Провались она пропадом! И пусть сюда она
- Не вернется вовеки вздорить с Мордредом!
- Из мыслей гони ее! До мужей тебе дело;
- 75 От жены отрекшись, обратись к битве!
- Грядет час твой!» Тут глаза отвел он,
- Поток слов пресекся. Повернувшись неспешно,
- Супясь сурово, свирепый Мордред
- Взор вперил в него. «Вон! – крикнул. —
- 80 Владыки время выберет сам он.
- Ничего не знаешь ты. Никчемный посланец,
- Провалив порученье, посмел вернуться,
- Чтоб наглым напутствием наставлять Мордреда
- Да скудоумным советом! Страшен гнев мой —
- 85 Прочь проваливай! Побери тебя дьявол!»
- По холму хмуро ходил он долго.
- В душе дымилось душно и тяжко
- Чадное пламя под черной тенью;
- Метались мысли в мороке путаном
- 90 От свирепости к страху. Сперва дума,
- На волю вырвавшись, вожделеньем пылая,
- Приманилась похотью к пытке давнишней.
- Но Гвиневера, гадал он, с гонцом тайным
- Привет послала поспешно за море
- 95 К Ланселоту, о любви памятуя
- И прося помощи в пору бедствия.
- Коли Банов род в битву ринется
- И чистая лилия в черном поле[45]
- Вновь вспыхнет, выступив гордо
- 100 В подмогу Артуру, пойдут крахом
- Его затея и замысел. Задумался крепко он.
- Ведь Ланселота, лорда Бенвикского,
- Больше всех боялся он, больше всех ненавидел;
- Помнил он пророчество, подсказано ведьмами:
- 105 Коли лордам Бенвика лилейноукрашенным
- В беспощадной битве бросит он вызов —
- Пожнет погибель он. Так подлость с гневом,
- Сомненье и смелость в совете мрачном
- Войну вели. Ветер улегся.
- 110 В ясной выси, ярко-златое,
- Сумеречное солнце сходило с неба
- В мареве летнем. Море искрилось
- В сонмах созвездий свода ночного.
- День сменялся днем. Даль рассветала,
- 115 Ветерок веял веселым утром,
- Крылат, кружился. Крик разбудил его.
- «Парус, парус над пучиною реет!»
- Всполошились воины, по ветру летели
- От кордона к кордону кличи надрывные.
- 120 Бдили, бодрствуя, у башен сигнальных
- При мечах стражи. Ни слова ни молвил он.
- Вдаль всмотрелся – за волны, к югу:
- Паруса показались над пенным морем.
- Так Артур явился ясным утром,
- 125 Возвращаясь вновь во владенья утраченные.
- На снастях сиял серебряным блеском[46]
- Лик Богородицы, в белых руках ее
- Дитя дивное, от девы рожденное.[47]
- Солнце сияло. Сверкало море.
- 130 Мужи приметили, признал Мордред
- Знамя Артурово. Но зорко высматривал
- Со стесненным сердцем стяг Бенвикский —
- Серебро на черни. Смотрел – и не видел.
- Поник в поле, поблек флер-де-лис[48],
- 135 Сгинул в сумерках. Судьба подступала.
- Паруса побелели: поднялось солнце.
- Вдали над водой вдруг зазвучали
- Тихо трубы. Твердыней воздвигшись,
- Рядом с Артуром рвался вперед
- 140 Могучий корабль в мерцающем зареве —
- Бела обшивка, борта раззолочены,
- На ветрилах вышито встающее солнце;
- На браном стяге, что струился по ветру, —
- Грифон грозный, горящий золотом.[49]
- 145 Так приспел Гавейн на помощь к Артуру,
- Отважен сердцем, авангард[50] возглавил:
- Сотню судов, сиявших бортами;
- Паруса полнились, пестрели щиты.
- Следом спешило славное воинство:
- 150 Быстрые барки, бесстрашные дрóмоны[51],
- Галеоны, галеры, готовы к битве,
- Парусов шесть сотен поднялись под солнцем:
- Славный вид и свирепый. Стяги реяли;
- Десять тысяч тарджетов[52] теснились друг к другу,
- 155 Гербы государей горят на фальшбортах,
- И князей Севера, и девяти королевств
- Благой Британии. Но Банова рода
- И Ланселотовых лилий не было.
- Тут Мордред со смехом, мрачно и громко,
- 160 Прокричал приказ. Прогремели трубы,
- Огни вспыхнули, взвились флаги,
- Било древко в щит, берега откликались.
- Беда в Британии: битва грядет.
- Так прибыл Артур в пределы отчие,
- 165 В величии власти вернулся гордо
- В Ромериль, где размеренно ныне
- Плещут и плачут прибрежные волны.
- Сталь под солнцем сияла. Серебряным блеском
- Полыхали пики, пшеницы белее,
- 170 В небо направлены. Насмешливо каркая,
- Вилось воронье в высях заоблачных.
- Над пенной пучиной плескала тысяча
- Взлетающих весел. Вожди саксонские,
- На носу стоя, свирепо кричали,
- 175 Мечами махали и мощными топорами,
- Голосами пасмурными призывали богов.
- Грозно глядя, они гнали драккары,
- Волков волн – к внезапному натиску,
- Лавируя ловко, летели к цели.
- 180 Бушприт бил в борт. Брусья трещали,
- Железо лязгало, ломались секиры,
- Щиты и копья в щепы дробились;
- Кузнецы битвы, кроша железо,
- С грохотом гулким гневно ковали
- 185 Крах и крушение. Красны их руки.
- Подступили к «Придвену»[53], прекрасному, гордому
- Кораблю Артурову в ореоле серебряном.
- Тут грянул гулко Гавейн в трубу свою.
- Галеон громадный, горя золотом,
- 190 Громовой грозой в гущу боя ворвался,
- Ветра обгоняя. Вослед поспешали
- Ленники Лотиана, лорды и капитаны.
- Дробились весла. Древесина щепилась.
- Трещали тросы. Тяжелые мачты
- 195 Ломались хрустко, что лес на склоне,
- Разбитые, рушились в реве битвы.
- Грозным Галутом Гавейн размахнулся —
- Клинком своим славным. Кузнецы волшебные
- На нем руны резали, прежде чем Рим построился;
- 200 Cмертоносную стойкую сталь закалили.
- Как пламя, прянул он, полыхая ярко.
- Государя Готланда на гордом челне
- Сразил насмерть и сбросил в море;
- На лордов Лохлана лучом обрушился,
- 205 Крушил в крошево кабаньи шлемы
- И знамена язычников. Звенел его голос,
- «Артур!» выкликая. Воздух дрогнул:
- Призыв подхваченный прогремел стократно.
- Как ветви под ветром, как валится колос
- 210 Пред жнецом безжалостным, как под жгучим солнцем[54]
- Туман тает, тесним рассветом,
- Так спасались саксы. Страх обуял их.
- От бортов и бушприта бежали в смятенье,
- На дно шли камнем, с душой расставаясь.
- 215 Пылали пламенем на плаву корабли;
- Выносила волна на взморье обломки.
- Прибой пурпуром пятнал скалы.
- Щиты на воде, в щепы разбитые,
- Мешались с мусором. Мало кто, изранен,
- 220 Бесславным бегством из битвы спасся.
- Так прибыл Артур в пределы отчие,
- Проложил путь чрез пучину мечом,
- За Гавейном следуя. Его слава пылала
- Звездой полдневной, знаменьем грозным,
- 225 Восходя все выше, возгоралась над миром
- В преддверье паденья. Поджидала судьба.
- Прилив повернул. Поломанный брус
- Топляком темным и трупы погибших
- Валялись вповалку на взморье длинном,
- Воздвиглись над волнами валуны обагренные.
Песнь V
О закате над Ромерилем
- Так, подхвачен прибоем, поджидал Артур,
- На владенья взирал свои, взыскуя сердцем
- По лугу зеленому, под легким ветром
- Пройти привольно, пока прочен мир,
- 5 Смакуя сладость соленого бриза
- С винно-пряным веяньем клевера
- Над солнечным склоном, сходящим к морю,
- В христианском мире, где хрустальный звон
- С колоколен летит, колыхаясь по ветру, —
- 10 Королем кротким королевством править
- Во владеньях священных у врат Небесных.
- На землю взирал он в зареве ясном.
- Здесь злая измена звенела в трубы
- В мощи мстительной. Мятежные лорды
- 15 На брег в броне бесстыдно вышли,
- Предав правителя, презрев Господа,
- Надеясь на натиск неверных язычников.
- Мужи могучие шли маршем к югу,
- Вражьи всадники с Востока мчали,
- 20 Как пламя проказы, пагубу сеяли;
- Белые башни жгли и богатые нивы,
- Стонали степи, сохла трава.
- Беда в Британии – и блекнул мир;
- Колокол смолк – клинки зазвенели,
- 25 Ад разверзся, а рай – неблизко.
- Дань[55] дорогую должно платить ему:
- Красной крови – кропить землю;
- Жизни лишатся любимые други,
- Падут паладины, погибнет цвет
- 30 Рыцарства ратного, раденьем снискавшего
- Смерть и смуту, судьбу роковую,
- Покуда путь проложат, покорят стены,
- Покуда примнет он пышные травы
- Под ногой наново, направляясь к дому.
- 35 Никогда не случалось нужде ли, угрозе
- Одолеть Артура, отвратить от цели
- Или путь преградить. Но пришла жалость,
- Любовь к земле своей и люду верному;
- О сбитых с пути и супротивниках злобных,
- 40 О слабых сердцем сокрушался он равно.
- Страданьями сыт, и скорбью, и битвами,
- Венцом владея и венчан правом,
- Прошел бы покойно он, прощенье даруя,
- Врачуя раны, ведя за собою,
- 45 В благую Британию блаженство вернув,
- Но смерть маячит, и мрак – впереди,
- Покуда путь не проложен, не покорён мир.
[Нижеследующие шестнадцать строк были наспех набросаны на отдельном листке.]
- Гавейна призвал он. Горькие речи
- Молвил, мрачных мыслей исполнен.
- 50 «Вассал и родич, верный и славный,
- Заслон и защита мне, и зоркий советник,
- Путь пагубный пролег пред нами.
- Отвоеваны воды. Но высятся стены
- Вражды вместилищем, и вызов шлют нам.
- 55 Верно ли выбран внезапный натиск —
- Чтоб предателю подлому пошлину смерти
- Платить за прорыв потерями тяжкими
- В попытке поспешной, провалом рискуя,
- Ставя на кон надежду. Надумал я в сердце:
- 60 Выждать с высадкой вернее будет.
- К иному причалу поведем войско,
- Доверимся ветру и волнам отлива,
- Пусть влекут нас на запад».
Здесь заканчивается самый поздний из вариантов «Гибели Артура».
Поэма в контексте Артуровской традиции
Более семи веков минуло с тех пор, как римские легионы покинули Британию, когда в середине XII века (вероятно, около 1136 г.) появилось произведение, озаглавленное «Historia Regum Britanniae», за авторством Гальфрида Монмутского (который, к слову сказать, мимоходом упоминается в произведении моего отца «Записки клуба „Мнение“», опубликованном в томе «Саурон Поверженный», с. 192, 216). Об «Истории королей Британии»[56] говорилось (сэром Эдмундом Чемберсом в 1927 году), что «ни одно порождение воображения, кроме разве „Энеиды“, не сделало столько для созидания национального мифа». Чемберс употребил слово «воображение» сознательно. Считается, что книга Гальфрида Монмутского стала источником «исторической» (в противовес «романной») традиции в артурологии, но само это слово способно ввести в заблуждение, если не понимать под ним следующее: хотя труд Гальфрида и изобилует чудесами и фантастическими преувеличениями, вкрапленными в совершенно неисторическую структуру, тем не менее написан он в «исторической форме» (то есть как повествовательная хроника событий, сухо и сдержанно изложенная на латыни). Содержание же историческим назвать никак нельзя, поэтому по отношению к нему употребляется термин «псевдоисторический».
В этой книге излагается история бриттов на протяжении более девятнадцати сотен лет, а жизнеописание короля Артура составляет не более четверти общего объема. Выдающийся ученый Р. Ш. Лумис назвал ее «одной из самых дерзких и удачных фальшивок» («Эволюция артуровского романа», 1963). Однако в том же труде он пишет:
Чем больше изучаешь «Историю королей Британии» и методы ее составления, тем больше поражаешься бесстыдству автора, тем больше восхищаешься его изобретательностью, его искусством. «История» написана стилем отточенным, но не вычурным; в достаточной мере приведена в согласие с высокоучеными авторитетами и общепринятыми традициями; свободна от куда более фантасмагорических крайностей рассказчиков-conteurs[57][58]; якобы основана на весьма старинной рукописи; неудивительно, что magnum opus* Гальфрида Монмутского обезоруживал скептиков и был восторженно принят людьми образованными.
То, что «История» имела такой успех и так долго принималась на веру – это воистину необыкновенный литературный феномен. О том, как к сему труду относился мой отец, я не знаю. Безусловно, он согласился бы с суждением своего друга Р У. Чемберса, утверждавшего, что «История» – «одна из самых влиятельных книг, когда-либо написанных в этой стране». Вероятно, отец оказался бы солидарен и с К. С. Льюисом, который резко осуждал артуровскую часть книги в опубликованном посмертно эссе «Генезис средневековой книги» («Очерки по средневековой и ренессансной литературе», 1966):
Гальфрид, несомненно, очень важен для историков Артуровского Мифа; но поскольку интерес таких историков нечасто ограничивается сферой чисто литературной, они порою забывают сообщить нам, что это автор весьма посредственного таланта и с полным отсутствием вкуса. Львиная доля артуровской части сего труда приходится на несносное пустозвонство Мерлиновых пророчеств и на Артуровы иноземные завоевания. Последние, безусловно, наименее историчны и наименее мифологичны в том, что касается Артура.
Если реальный Артур и существовал, Рима он не завоевывал. Если легенда уходит корнями в кельтское язычество, то эта военная кампания не является ее частью. Это вымысел. И какой вымысел! Мы можем отказаться от неверия в того или иного великана или колдунью. У них есть друзья в нашем подсознании и в наших самых ранних воспоминаниях; воображение с легкостью допускает, что и в реальном мире для них найдется местечко. Но масштабные боевые действия, которыми небрежно исчеркана вся карта Европы, при том что в известную нам историю они не вошли ни в каком виде, – дело другое. Отказаться от неверия нам никак невозможно. Да мы этого и не хотим. Хроники бессмысленной и однообразно успешной агрессии читать отчаянно скучно, даже когда они правдивы; когда же они вопиюще, нелепо сфальсифицированы, они просто невыносимы.
Но по первым же строкам «Гибели Артура» видно, что мой отец радикально отходит от истории последнего заморского похода Артура в том виде, как она изложена у Гальфрида Монмутского и его продолжателей. Я приведу здесь очень краткий пересказ повествования Гальфрида, никак не ссылаясь на литературные и мифологические источники, на которые автор опирался, поскольку цель моя здесь – в первую очередь проследить, как «Гибель Артура» соотносится с героической, «летописной» традицией, начало которой положил Гальфрид.
В этом произведении Артур по смерти своего отца Утера Пендрагона принимает королевский венец и становится королем Британии в возрасте пятнадцати лет, а затем тотчас же отправляется в военный поход, дабы подчинить ненавистных и злобных саксов, и сражается в нескольких битвах, последняя из которых происходит в Сомерсете, при Бате. Артур был вооружен щитом Придвеном с изображенным на нем ликом Богоматери, мечом Калибурном, откованным на острове Авалон, а голову его венчал золотой шлем с гребнем в форме дракона. В ходе этой битвы Артур ворвался в ряды саксов и с одного удара поражал всех, на кого обрушивал свой меч Калибурн, пока наконец на поле не осталось лежать не менее четырехсот семидесяти саксов, убитых им собственноручно.
Саксы обратились в бегство и укрылись в лесах, горах и пещерах, а Артур принялся истреблять заполонивших его земли пиктов и скоттов; «приведя весь край в подобающее ему прежнее состояние», он сочетался браком с Гвиневерой, «происходившей из знатного римского рода», которая затмевала красотой всех женщин Британии. На следующий год Артур завоевал Ирландию и Исландию, а короли Готланда и Оркнеев добровольно признали его верховную власть. По прошествии еще двенадцати лет бритты безжалостно предали огню и мечу Норвегию и Данию и подчинили их господству короля Артура; также ему покорились все области Галлии.
На этом этапе Гальфрид Монмутский изображает Артура могучим правителем, непобедимым в битве; его имя внушает благоговейный страх всей Европе, его рыцари и приближенные являют собою образец и идеал рыцарственности и куртуазии. Возвратившись из Галлии, он устраивает в Каэрлеоне на Аске в Гламоргане пышный прием при дворе и великолепнейшее торжество, на которые съехались все до одного прославленные правители западных земель и островов. Но еще до окончания празднества явились послы из Рима с письмом к Артуру от императора Луция Гиберия. В этом письме Луций требовал, чтобы Артур лично прибыл в Рим выслушать приговор и принять наказание за все оскорбления, что нанес, отказываясь выплатить дань, причитающуюся с Британии, и захватив земли, подчиненные Империи; а если Артур не явится, то Рим выступит против него.
На это Артур ответил, что и впрямь прибудет в Рим, но для того, чтобы взыскать с римлян ту дань, которую они сочли себя вправе потребовать от него. Тогда Луций повелел восточным царям собрать войска и вместе с ним отправиться завоевывать Британию. В этой огромной армии насчитывалось ровно четыреста тысяч сто шестьдесят человек. Против них король Артур выдвинул великую рать, а на время своего отсутствия вверил защиту Британии своему племяннику Мордреду и королеве Гвиневере.
Сокращая повествование Гальфрида Монмутского еще больше и поставив слова К. С. Льюиса вместо резюме, скажем, что «римская война» закончилась великой победой бриттов и гибелью императора Луция; и Артур уже переходил через Альпы, двигаясь к Риму, когда ему сообщили, что Мордред узурпировал королевскую власть и вступил с Гвиневерой в прелюбодейскую связь. Здесь Гальфрид Монмутский внезапно замолкает; на этот счет он ничего более не скажет, пишет он. Автор сдержал слово: упомянув о высадке короля Артура в Ричборо на кентском побережье, он бегло перечисляет битвы с Мордредом, в которых пали Мордред и Гавейн, а Артур был смертельно ранен. О Гвиневере Гальфрид сообщает только, что, охваченная отчаянием, она бежала в Каэрлеон и там постриглась в монахини; а об Артуре – что он был переправлен для лечения ран на остров Авалон. О сэре Ланселоте в «Истории королей Британии» не упоминается ни разу.
Именно так последовательность событий представлена в «летописной» или «псевдоисторической» артуровской традиции, восходящей к Гальфриду Монмутскому: в «Романе о Бруте» нормандского поэта Васа, что был создан к моменту смерти Гальфрида (1155), и в следующем поколении – в весьма пространной поэме под названием «Брут»[59], сочиненной приблизительно в начале XIII в. англичанином Лайамоном, священником из прихода Эрнли (Арли Регис) на реке Северн в Вустершире; этот поэт вторил Васу, но в собственной манере.
Аллитерационная «Смерть Артура»
Эта же история представлена в еще одном труде, сыгравшем, как мы увидим ниже, немаловажную роль при создании «Гибели Артура». Эта знаменитая поэма «аллитерационного возрождения» XIV века известна как аллитерационная «Смерть Артура». В сборнике «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь», «Перл» и «Сэр Орфео» (1975) я процитировал слова моего отца, описывавшего:
…древнюю английскую метрику, наследие глубокой старины: такой стих сегодня зовется «аллитерационным». Он ставит целью создать совсем иное впечатление, нежели то, что достигается с помощью рифмованных, основанных на подсчете слогов размеров, заимствованных из Франции и Италии; для непривычного уха он звучит резко, жестко и грубо. И, совершенно независимо от диалектной (с лондонской точки зрения) природы языка, этот «аллитерационный» стих включал в свой арсенал ряд специальных поэтических слов, которые в повседневной речи или прозе никогда не использовались и оставались «темны» для тех, кто стоял вне традиции.
Вкратце, наш поэт [автор «Сэра Гавейна и Зеленого рыцаря»] принадлежал к тому направлению, что сегодня известно как Аллитерационное возрождение XIV века, – как попытка использовать древние исконные метрику и стиль, давно считающиеся провинциальными и просторечными, в сочинениях серьезного и возвышенного плана; и он заплатил за провал этой попытки, поскольку возродить аллитерационную поэзию так и не удалось. Все было против: смена эпох, вкусов, языка, не говоря уже о политической власти, торговле и соображениях выгоды.
Аллитерационная «Смерть Артура» – это длинная поэма, насчитывающая более 4000 строк; дата ее написания неизвестна, но обычно ее относят ко второй половине XIV века; она сохранилась в единственной рукописи, переписанной Робертом Торнтоном, в библиотеке Линкольнского собора[60]. Об источниках, которыми пользовался анонимный автор, ведутся нескончаемые споры; но для наших целей довольно упомянуть, что структура повествования заимствована из традиции «Истории королей Британии». Рассказ начинается с пышного празднества, устроенного королем Артуром; на пир являются послы «сэра Луция Гиберия, римского императора»; значительная часть текста отводится описанию битв Артура с римлянами и их союзниками. Это в полном смысле слова «героический» эпос, шансон де жест, поэма о войне (хотя и не только), о полях сражений и яростных схватках, об ужасах блеснувшего в глаза меча – это картины Столетней войны. Иллюстрацией может послужить короткий отрывок. Согласно Гальфриду Монмутскому, Луций пал от руки неизвестного рыцаря, в этой поэме он сражен самим Артуром, и доблесть короля описывается так:
- The emperour thane egerly at Arthure he strykez,
- Император истово на Артура обрушился:
- Awkwarde on the umbrere, and egerly hym hittez!
- Замахнулся в забрало задним ударом!
- The nakyde swerd at the nese noyes hym sare,
- Клинок у носа нестерпимо досаден;
- The blode of [the] bolde kynge over the breste rynnys,
- Кровь короля каплет на грудь его,
- Beblede al the brode schelde and the bryghte mayles!
- Багрит блестящую броню и щит!
- Oure bolde kynge bowes the blonke by the bryghte brydylle,
- Король, коня кругом обернувши,
- With his burlyche brande a buffette hym reches,
- Мечом мощным метит в недруга,
- Thourghe the brene and the breste with his bryghte wapyne,
- Рассекает разом и грудь, и панцирь
- O-slante doune fro the slote he slyttes at ones!
- Надвое, наискось направляя удар.
- Thus endys the emperour of Arthure hondes…[61]
- Так от оружья Артурова император сгинул.
Смертью императора в последней великой битве войны против римлян аллитерационная «Смерть Артура» не заканчивается: на протяжении еще многих сотен строк в ней рассказывается о новых захватнических военных походах под предводительством Артура, отсутствующих у Гальфрида Монмутского, пока король не оказывается к северу от Рима, в долине Витербо «among the vines» [среди виноградных лоз], и «was never meriere men made on this erthe» [свет не видел вовеки веселья такого].
К Артуру в это отрадное место являются посланцы из Рима просить о мире, и среди них «konyngeste cardynalle that to the courte lengede» [кардинал даровитый, ко двору приближенный]: они предлагают Артуру, чтобы Папа короновал его в Риме как государя и владыку. Король Артур ныне на вершине славы: объявив, что Рим теперь принадлежит ему и что он коронуется там на Рождество, уставший от недосыпания правитель отправляется почивать.
- But be ane aftyre mydnyghte alle his mode changede;
- Но после полуночи поменялся настрой его:
- He mett in the morne-while fulle mervaylous dremes!
- Поутру привиделись пречудесные сны!
- And when his dredefulle drem was drefene to the ende,
- Когда же грезы грозные угасли вовсе,
- The kynge dares for dowte, dye as he scholde;
- Смертный страх сковал короля;
- Sendes aftyre phylosophers, and his affraye telles[62].
- Призвал он философов, поведал боязнь свою.
Я уже говорил выше, что аллитерационная «Смерть Артура» – это эпическая поэма, восхваляющая Артура, и в первую очередь поэма батальная; но по мере ее продвижения от начала к концу читатель осознает, что лишь Артуров сон среди виноградников в долине Витербо может послужить достойным завершением грандиозного замысла автора. Во сне, как пробудившийся в страхе Артур описывает его своим «философам», ему явилось прихотливое и вычурное видение Колеса Фортуны, на котором помещены восемь из «Девяти Достойных» или «Девяти Героев», великие исторические правители и завоеватели: об этом видении я здесь расскажу вкратце.
Артуру снилось, будто он один заплутал в лесу, где кишмя кишат волки, дикие вепри и львы, что лакают кровь его верных рыцарей; убегая прочь, он оказывается на горном лугу – «the meryeste of medillerthe that men myghte beholde» [веселей в средиземье не видали люди] – и видит, как туда спускается с облаков богиня в великолепном наряде, воплощение Фортуны, а в руках у нее – колесо из золота и серебра, которое она вращает в белых пальцах. Артур видит, что в верхней точке Колеса Фортуны стоит «a chayere of chalke-whytte silver» [сиденье из серебра белоснежного]: шестеро королей упали с него и теперь, с разбитыми коронами, цепляются за внешний круг колеса, и каждый сетует, что низвергнут с таких высот величия и власти; а еще двое королей карабкаются вверх, чтобы занять трон на вершине. Госпожа Фортуна возносит на это сиденье Артура, сообщая, что это благодаря ей он стяжал в войне такую славу, что она избрала его воссесть на высоком троне и обращается с ним как с «soverayne in erthe» [владыкой земли]. Но внезапно «at midday» [в полдень] ее манера по отношению к Артуру меняется. Она говорит: «Thow has lyffede in delytte and lordchippes inewe» [ «Полно жить в почете, да в приятстве и холе»], и «abowte scho whirles the whele, and whirles me undire» [крутнув колесо, сокрушила меня], – переломала Артуру все кости, и на этом он проснулся.
Философ, истолковавший сон, сурово объявил королю, что судьба вознесла его к самой вершине – но теперь ему суждено пасть.
- Thow has schedde myche blode, and schalkes distroyede,
- Кровь лил ты ливмя, людей губил
- Sakeles, in cirquytrie, in sere kynges landis;
- Безвинных, бахвалясь, в бессчетных землях;
- Schryfe the of thy schame, and schape for thyne ende!
- Покайся в проступках, приготовься к смерти!
- Thow has a schewynge, sir kynge, take kepe yif the lyke,
- Владыка, виденью внемли, коли хочешь,
- For thow sall fersely falle within fyve wynters![63]
- Пасть предстоит тебе, пяти зим не минет!
Пространно растолковав смысл всего того, что привиделось королю Артуру во сне, ученый муж объявил, что дикие звери в лесу – это злые люди, вторгшиеся в его земли, дабы притеснять его подданных, и предостерег, что не минует и десяти дней, как придут известия о том, что в Британии со времен отъезда короля приключилась какая-то беда. Он призывает короля покаяться в неправедных деяниях, «изменить нрав» (то есть исправиться) и смиренно молить о милости, пока его не постигло несчастье.
Тогда Артур поднялся, оделся (семь строк посвящено подробному описанию его роскошного платья) и вышел пройтись в одиночестве, а с восходом солнца повстречал человека в простом платье (его описанию посвящено столько же строк), выдающем в нем паломника на пути в Рим. Артур заговорил с ним: оказалось, что это сэр Крадок, известный ему как «кастелян-рыцарь, Каэрлеона хранитель». У Гальфрида Монмутского не уточняется, как именно Артур узнал о предательстве Мордреда, но в поэме сэр Крадок отправился в путь единственно с этой целью (и в «Гибели Артура» (I. 145) весть приносит не кто иной, как сэр Крадок). Он сообщает, что Мордред короновался королем Британии, захватил многие замки, собрал под Саутгемптоном огромный флот, призвал данов и саксов, пиктов и сарацин править страной и – худшее из всех его преступлений! – женился на Гвиневере и зачал ребенка.
С этого момента повествование аллитерационной «Смерти Артура» продолжается на протяжении еще около восьмисот строк. К ним и к тому, как они связаны с «Гибелью Артура», я еще вернусь (см. ниже).
Примечательная особенность английской артурианы состоит в том, что пятая книга сэра Томаса Мэлори (в нумерации Кэкстона) «Повесть о благородном короле Артуре, как он сам стал императором через доблесть своих рук»[64] очень близко основана на аллитерационной «Смерти Артура» (и ни на каком другом источнике): создавая свой тщательно продуманный прозаический пересказ, Мэлори держал рукопись перед глазами (однако он имел доступ к рукописи более аутентичной во всех ее подробностях, нежели та, что хранится в Линкольне и была составлена Робертом Торнтоном).
Профессор Евгений Винавер в своем монументальном труде («Сочинения сэра Томаса Мэлори» в трех томах, 1947) доказывал, что эта повесть на самом деле написана Мэлори первой, и утверждал, что «вопреки общепринятому мнению автор впервые познакомился с артуровской легендой не из „французских книг“, но через английскую поэму, аллитерационную „Смерть Артура“» (Винавер, I, xii).
Несмотря на то что от аллитерационной «Смерти Артура» оставалось еще более тысячи строк, Мэлори тем не менее резко обрывает пересказ на том эпизоде, где Артур, встав лагерем у Витербо, принимает римских послов, которые явились просить о мире и предлагают, чтобы Артура короновал сам Папа. Отсюда Мэлори стремительно продвигается к развязке своей истории. Артур в надлежащем порядке короновался как император и вскорости после того возвратился в Британию. Он высадился в Сэндвиче на кентском побережье, и «королева Гвиневера, узнавши о его возвращении, выехала в Лондон встретить его». В начале повести Мэлори опустил все упоминания о том, что Артур назначил своего племянника Мордреда регентом в свое отсутствие; и теперь в финале автор отвергает всю линию предательства Мордреда, прелюбодеяния Гвиневеры и падения Артура. А вместе с ними, само собой, был опущен и сон о Колесе Фортуны. Сочиняя эту повесть, Мэлори вовсе не стремился представить историю короля Артура как трагедию самонадеянного героя.
Нетрудно заметить, что в первой песни «Гибели Артура» отец сохраняет ключевой сюжетообразующий элемент «летописной» или «псевдоисторической» традиции: великий заморский поход короля Артура на восток. Но его поэма начинается in medias res[65], безо всякого предваряющего вступления или непосредственной мотивации:
- На восток выступил с войском Артур
- Воевать ворога на вольных границах,
поскольку
- Так судьба своевластная сподвигала его.
Пышный пир, устроенный в Каэрлеоне в честь побед Артура и впервые упомянутый у Гальфрида Монмутского, здесь отсутствует, а следовательно, не говорится и о приходе римских послов с угрожающим письмом от императора, что послужило поводом для последней военной кампании короля бриттов. В «Гибели Артура» от этой концепции не осталось и следа.
Предел мечтаний Артура как полководца – отнюдь не сокрушить римские армии и принудить посланцев Рима молить о мире; напротив, Артур задался целью «рубежи римские от разора спасти» (I. 4).
Цели и масштабы этого военного похода не вполне ясны. В самом начале ясно сказано, что Артур намерен атаковать саксонских пиратов в их собственных логовах, и разумно предположить, что «рубежи римские», которые Артур собирается от них оборонять, – это со всей определенностью римская Британия; но упоминания о Мирквуде (I. 68,132), как мне кажется, открывают более широкие горизонты. Не могу сказать доподлинно, вкладывал ли отец более конкретный смысл в это древнее легендарное название темного пограничного леса, разделяющего народы, но, поскольку войско Артура прошло маршем «от Рейнских устьев – по разным странам» (I. 43) и двигалось «все вперед, к востоку» (I.62) и поскольку лес Мирквуд располагается на холмах, – «по сирым склонам стремились все выше / чащ частоколы, черны, непролазны» (I. 70–71), – по всей видимости, теперь бритты оказались сильно восточнее обжитых саксами областей, что подтверждается также и словами сэра Крадока (I. 153–154): «Пока ведешь войну ты с вражьим племенем/на Востоке варварском…»
Примечательно и то, что на протяжении ста строк в первой Песни поэмы от начала Артурова похода в строке 39 до прибытия сэра Крадока с недобрыми вестями (помимо строки «Позади – пламя, противник – пред ними», I. 61) содержится только одно упоминание об уничтожении языческих поселений вторгшейся армией (I. 41–43):
- На кумирни и крепости королей нечестивых
- Мощь его двинулась маршем победным
- От Рейнских устьев – по разным странам.
Отец, по-видимому, скорее намеревался живописать враждебный зимний мир бурь и льдов, где «средь каменных кряжей каркали вороны» и слышен волчий вой, – зловещий мир, населенный лишь «полчищами призраков», в котором (I. 134–136):
- Гнёл души страх,
- В мире мрака, не молвя ни слова,
- Бдили, боясь бедствий неведомых.
Более того, это ощущение надвигающейся страшной опасности дополняется уверениями поэта в том, что заявленная цель Артура – дело величайшей важности, героический вызов судьбе:
- Волну времени вспять обратить,
- Наказать нечестивцев надежда вела его.
Та же мысль эхом звучит в строках I. 176–179 по получении известия о предательстве Мордреда:
- Но вниз низвергшись с высот надежды,
- Душа домышляла: его дом обречен,
- Древний мир движется к гибели,
- И волна времени восстает супротив него.
Вот так и Гавейн, который ведет войско, «как в последний прорыв за пределы осады», -
- оплот и опора обреченного мира
И позже (II. 147–149) Мордред сознает, что:
- …Время меняется;
- Запад затмился – задул ветер
- Над восставшим Востоком. И вздрогнул мир.
Вне всякого сомнения, персонажи провидят в «волне времени» грядущее падение Рима и римского христианства.
Но как бы мы ни истолковывали эти подробности «Гибели Артура», ясно, что великий поход Артура на континент, пусть столь же мало основанный на реальных исторических событиях, как и нападение на Римскую империю у Гальфрида Монмутского и его последователей, куда лучше вписывается в исторический контекст, из которого и возникает артуровский миф: это сопротивление бриттов германским захватчикам в V веке. В «Гибели Артура» примета врага – то, что он язычник. Такова участь фризского капитана, который доставил Мордреду вести о возвращении Артура в Британию (II. 89–93):
- Радбод рыжий, разбойник моря,
- Неизменен в ненависти, нехристь – сердцем,
- Сгиб, как судил рок. Сумрачным утром
- В бездну вод его бросили, побрезгав душою:
- Ей скользить над пучиной скитальцем бездомным.
Он «канул в ад» (II. 67). Так варваров-язычников обрекают на вечные муки в поэме, написанной тем самым стихотворным размером, который эти варвары принесли на завоеванные земли. «Веют ветра войны над Британией!» – говорит сэр Крадок, рассказывая королю Артуру (I. 160) о языческих драккарах, атаковавших незащищенные берега; пять веков спустя Торхтельм в «Возвращении Беорхтнота» повторит его слова применительно к викингам:
- Так пал последний потомок эрлов,
- Что ведут родство от владык саксонских.
- В песнях поется – приплыли они
- От восточного Ангельна, к наковальне битв,
- Мечами рьяными разить валлийцев;
- В древние дни державы обширные,
- Земли знатные захватили на острове.
- Сегодня ж с севера снова напасть к нам:
- Веют ветра войны над Британией!
Примечательно, что в первой песни «Гибели Артура» Мордред, который с самого начала повествования изображен как «подло» поддерживающий короля в его намерении идти войной в варварские земли, ибо за его словами скрывается тайный умысел (I. 27–29):
- Благую Британию, бескрайний предел твой
- Беречь от бедствий берусь, как уедешь.
- Верный вассал я.
В то время как Гальфрид Монмутский посвящает этому событию одну-единственную фразу («Он поручил Британию Модреду, своему племяннику, и королеве Геневере»), в аллитерационной «Смерти Артура» король куда более многоречиво описывает бремя обязанностей – а Мордред умоляет (но тщетно) освободить его от них и дать дозволение сопровождать Артура на войну. В поэме нет ни намека на дальнейшие события. В «Гибели Артура» говорится, что сэр Гавейн не заподозрил «предательства подлого» в Мордредовом «совете смелом», поскольку (I. 36–38):
- …До сражений жаден,
- Он в праздной пышности пагубу видел,
- Что Круглый Стол на крах обрекла.
Вместе с этими словами отец вводит в повествование новый элемент, радикально отличающий его от произведений, созданных в рамках «летописной» традиции. Несколькими строками ниже (I. 44–45) говорится, что Ланселот и прочие рыцари не сопровождали Артура в этой военной кампании. Позже, в первой песни, услышав известия о предательстве Мордреда от сэра Крадока, король Артур советуется с сэром Гавейном (I. 180 и далее), рассказывает, как ему недостает сэра Ланселота и «надежных мечей рода Банова», и находит, что мудрее всего было бы послать гонца к подданным Ланселота и попросить их о помощи. Против этого сэр Гавейн решительно возражает.
В таком изложении не вполне понятно, что, собственно, произошло; скорее всего, мой отец предполагал, что его читатель уже сколько-то знаком с историей Ланселота и Гвиневеры. О причинах разрыва между Артуром и Ланселотом будет рассказано в третьей песни поэмы, хотя и довольно уклончиво.
В мои намерения отнюдь не входит подробно проанализировать «пласты» или «стили» средневекового артуровского мифа, «псевдоисторическую» или «летописную» традицию с одной стороны, и обширные «романтические» переработки «британского материала» во французской прозе и поэзии – с другой. Моя задача – лишь выявить характерные черты отцовского пересказа легенды о Ланселоте и Гвиневере.
Я уже отмечал, что в «Истории королей Британии» Гальфрида Монмутского о Ланселоте не говорится вообще. В аллитерационной «Смерти Артура» о нем упоминается несколько раз, но почти во всех случаях он просто назван в числе главных рыцарей Круглого Стола[66]. Касательно его появления у Мэлори в «Повести о благородном короле Артуре, как он сам стал императором через доблесть своих рук» (см. выше) профессор Винавер отмечает:
Из рассказа Мэлори создается впечатление, что Ланселот не более чем просто воин и что все его великие достоинства ума и сердца безоговорочно поставлены на службу его королю. Никто из читателей [повести Мэлори] в жизни не догадается по этому тексту, что Ланселот с самого начала был героем куртуазным, что впервые он появляется в средневековом рыцарском романе как поборник courtoisie и что мировую славу он стяжал как главный герой «Романа о телеге» Кретьена де Труа[67]. Именно потому, что Ланселот был известен только как куртуазный рыцарь, он почти не привлекал раннеанглийских авторов; они не находили в нем ничего такого, что могло бы подкрепить и проиллюстрировать их эпическую трактовку романа об Артуре. По-видимому, именно по этой самой причине автор [аллитерационной] «Смерти Артура» сделал Ланселота сравнительно малозначимым персонажем. Отношение Мэлори было поначалу практически таким же: его помыслы, так же как и у его английских предшественников, сосредоточились на проблемах человеческого героизма, а не на тонких материях куртуазного служения. Чтобы вернуть Ланселоту былую славу, автор превращает его в подлинно эпического героя, скорее сродни Гавейну из «Смерти Артура», нежели кретьеновскому «рыцарю телеги». Мы не знаем, сколь многими французскими материалами автор располагал, создавая «Повесть об Артуре и Луции». Несомненно одно: Мэлори – сочинитель прежде всего эпического склада, не желающий и, вероятно, даже неспособный воспроизвести романтизированный образ странствующего рыцаря и понять его очарование. Великое приключение французских книг еще не началось.
Про Ланселота из «Гибели Артура», впервые упомянутого столь иносказательным образом, можно сказать сразу: это – не фантастический образ «романтизированного странствующего рыцаря»; и источник сюжетной линии, которую он собою воплощает, вполне самоочевиден. Во французском прозаическом романе под названием «Mort Artu» [ «Смерть Артура»] тема прелюбодейской любви сэра Ланселота и королевы Гвиневеры переплетается с темой предательства Мордреда и гибели короля Артура. «Mort Artu» послужил источником для английской поэмы XIV века под названием «Le Morte Arthur», которую обычно называют строфической «Смертью Артура» (чтобы отличать ее от аллитерационной «Смерти Артура»): это пространное произведение длиной около 4000 строк, организованных в восьмистрочные строфы. Сэр Томас Мэлори пользовался текстами как прозаического романа «Mort Artu», так и английской поэмы, подробно изучая и сравнивая их в ходе создания повествовательной структуры, что легла в основу его последней книги, «Смерти Артура» в собственном смысле слова[68].
Строфическая «Смерть Артура» и «Повесть о смерти Артура» Мэлори
Здесь я вкратце перескажу повесть Мэлори, но сперва процитирую несколько строф из английской поэмы, обозначивших самое начало финальной трагедии, – чтобы дать некоторое представление о ее стиле и форме.
- A tyme befelle, sothe to sayne,
- Сошлись однажды на совет
- The knyghtis stode in chambyr and spake,
- С Гавейном сэр Гахериэт,
- Both Gaheriet, and syr Gawayne,
- Немало доблестных вождей:
- And Mordreite, that mykelle couthe of wrake;
- Мордред, смутьян и лиходей.
- «Allas, than sayde syr Agrawayne,
- «Нам лгать и скрытничать не след, —
- How fals men schalle we us make,
- Сэр Агравейн сказал. – Ей-ей,
- And how longe shalle we hele and layne
- Довольно нам хранить секрет
- The treson of Launcelote du Lake!
- Что Ланселот – прелюбодей!
- Wele we wote, wythouten wene,
- Сомнений нет на этот счет:
- The kynge Arthur oure eme sholde be,
- Артур нам дядя как-никак!
- And Launcelote lyes by the quenе;
- Спит с королевой Ланселот —
- Ageyne the kynge trator is he,
- Он королю бесспорный враг
- And that wote alle the curte bydene,
- Об этом знает весь народ,
- And iche day it here and see:
- И слышит слух, и видит зрак.
- To the kynge we shulde it mene,
- Кто королю сказать дерзнет?
- Yif ye wille do by the counselle of me.»
- Идем к нему: совет мой благ».
- «Wele wote we, sayd sir Gawayne,
- «Всяк знает, – сэр Гавейн сказал, —
- That we are of the kyngis kynne,
- Мы – королевская родня;
- And Launcelot is so mykylle of mayne,
- Но рыцарь Ланселот удал, —
- That suche wordys were better blynne;
- Смолчим, друзья, секрет храня.
- Welle wote thou, brothyr Agrawayne,
- Я шум бы поднимать не стал.
- Thereof shulde we bot harmys wynne;
- Брат Агравейн, пойми меня:
- Yit were it better to hele and layne,
- Опасно затевать скандал —
- Than werre and wrake thus to begynne»[69].
- Случится распря и резня».
Первая сцена, послужившая сюжетом для этих строф, у Мэлори изложена так:
…В месяце мае случилось великое несчастие и раздор, которые продолжались до тех пор, пока лучший цвет рыцарства не был погублен или уничтожен. И всему этому виною были два злосчастных рыцаря, сэр Агравейн и сэр Мордред, которые приходились родными братьями сэру Гавейну. Ибо эти рыцари – сэр Агравейн и сэр Мордред – издавна питали тайную ненависть к королеве Гвиневере и к сэру Ланселоту, и они денно и нощно следили за сэром Ланселотом.
Однажды Гавейн и его братья Агравейн, Гарет и Гахерис (сыновья Артуровой сестры Моргаузы и короля Лота Лотианского), а также и Мордред (который по традиции, изложенной у Мэлори, был сыном Артура, по неведению вступившего в кровосмесительную связь с Моргаузой[70]) сошлись в покоях короля Артура. Агравейн заявил, что всем и каждому известно, будто «сэр Ланселот всякий день и всякую ночь возлежит с королевой» и что он намерен донести на Ланселота королю. Гавейн, будучи всей душой предан Ланселоту, славнейшему из рыцарей Круглого Стола, решительно высказался против – провидя вероятность кровопролитной распри; и Гарет с Гахерисом поддержали брата. Высказавшись начистоту, они вышли из покоя как раз тогда, когда туда вошел король Артур, спрашивая, что происходит. Когда же Агравейн рассказал ему все, король очень обеспокоился, поскольку, хотя он и подозревал правду, ему отнюдь не хотелось затевать дело против такого славного рыцаря, как Ланселот. Потому король заявил, что ничего не предпримет без ясных доказательств – если только Ланселот не будет схвачен с поличным.
С этой целью Агравейн предложил устроить ловушку. Королю надлежало выехать на следующий день на охоту и послать королеве с известием, что ночевать он не вернется. Тогда Агравейн, и Мордред, и еще двенадцать рыцарей пойдут в спальню к королеве и доставят Ланселота, живого или мертвого. Но этого не случилось. Пока Ланселот был с королевой, четырнадцать рыцарей подошли к двери, и Агравейн и Мордред грозными голосами принялись звать Ланселота, честя его изменником; но Ланселот не имел при себе ни доспехов, ни оружия, и они с королевой пребывали в большом расстройстве. Тогда Ланселот отодвинул дверные засовы и приоткрыл дверь так, чтобы можно было пройти лишь по одному; когда же внутрь шагнул сэр Колгреванс и ударил Ланселота мечом, Ланселот свалил его одним ударом. Затем он облачился в доспехи убитого и вышел навстречу рыцарям, всех уложил замертво, ничуть при этом не пострадав, – в том числе двух сыновей Гавейна и его брата Агравейна, за исключением одного лишь Мордреда, который, будучи ранен, обратился в бегство.
Когда же король узнал обо всем об этом от Мордреда, он понял, что братство Круглого Стола распалось навеки, поскольку многие рыцари примут сторону Ланселота. Но Гвиневера должна «предстать перед судом»: Артур приказал сжечь королеву на костре. Гавейн горячо убеждал короля, чтобы тот не спешил так с вынесением приговора, говоря, что, возможно, Ланселот пришел к королеве без злого умысла, но Артур был непоколебим. Он твердил, что если Ланселот окажется в его руках, то тоже умрет столь же позорной смертью, и что в том за беда сэру Гавейну, раз Ланселот убил его брата и его сыновей? На это Гавейн отвечал, что предупреждал их об опасности и что они сами навлекли на себя смерть. Но переубедить короля не удалось; он приказал Гавейну и его братьям Гарету и Гахерису облечься в доспехи и отвезти королеву на костер. Гавейн отказался выполнять повеление короля Артура. «Тогда пусть на казни присутствуют сэр Гарет и сэр Гахерис», – потребовал король. Эти двое не смогли ослушаться, но сказали, что отправятся на казнь против своей воли и доспехов не наденут. Тогда Гавейн горько зарыдал и посетовал: «Увы! Зачем дожил я до этого скорбного дня!»
И вот Ланселот с большим числом вооруженных рыцарей, которые поддерживали его в намерении спасти королеву, если ее приговорят к казни, ждали в лесу неподалеку, и, как только им сообщили, что королева вот-вот погибнет, они примчались к костру, и завязалась яростная битва. Ланселот рубил мечом направо и налево всех, кто пытался ему противостоять, и убил, «не разобрав», двоих, «безоружных и не ожидавших худого»: а это были братья Гавейна, Гарет и Гахерис; а Гавейн питал к Гарету сильнейшую любовь, так же как Гарет к Ланселоту.
Ланселот подскакал прямо к королеве Гвиневере и, усадив ее на коня, ускакал с ней в свой замок Веселой Стражи, и они поселились там. Короля Артура все эти события повергли в глубокое горе, и он приказал ничего не говорить сэру Гавейну:
«…Ибо я знаю, что, когда он услышит о том, что умер сэр Гарет, он почти что лишится рассудка. Боже милостивый, – сказал король, – почему же он убил сэра Гахериса и сэра Гарета? Ибо что до сэра Гарета, то ведь, ручаюсь, он любил сэра Ланселота более всех людей на свете».
Смерть братьев, сказал Артур, вызовет величайшую из смертельных войн. Поскольку Гавейн, конечно же, скоро узнал правду и из преданного друга Ланселота превратился в его заклятого врага. В строфической «Смерти Артура» он восклицает:
- Betwixte me and Launcelote du Lake
- Врагами, слово в том даю,
- Nys man in erthe, for sothe to sayne,
- Пребудем я и Ланселот,
- Shall trewes sette and pees make
- Покуда в яростном бою
- Er outher of vs haue other slayne.
- Один другого не убьет.
Или, как он сказал королю в повести Мэлори: «Ибо, клянусь богом, в отместку за смерть брата моего сэра Гарета я семь царств обыщу, а сэра Ланселота найду, и либо я его убью, либо же он убьет меня».
На что король Артур ответил: «Сэр, вам не придется искать его так далеко, ибо, как я слышал, сэр Ланселот поджидает меня и всех нас в своем замке Веселой Стражи».
Тогда король с сэром Гавейном во главе огромного войска осадил Веселую Стражу. Долгое время сэр Ланселот не выезжал из замка со своими рыцарями, но наконец он появился на стенах и обратился к Артуру и Гавейну, стоящим внизу, отвечая на их словесные оскорбления примирительными словами и пытаясь избежать вооруженного столкновения с ними и особенно с королем. Он напомнил о многих опасностях, от которых спасал их обоих, заверил, что убил сэра Гарета и сэра Гахериса по чистому неведению и засвидетельствовал полную невиновность Гвиневеры, утверждая, что был прав, спасая ее от костра. Но все было напрасно; под Веселой Стражей завязалось великое сражение, в ходе которого Ланселот отказывался отвечать на удары короля Артура, а тот «все прорывался к сэру Ланселоту, желая его убить»; когда же сэр Борс Ганский выбил короля из седла, Ланселот поднял поверженного с земли и подсадил в седло.
Спустя два дня яростных боев, в одном из которых Гавейн был ранен, войска разошлись, причем сторона сэра Ланселота одерживала верх; и в ту пору к Артуру прибыл посланник из Рима с папскими буллами, повелевавшими под угрозой интердикта всей Англии принять назад свою королеву и примириться с сэром Ланселотом.
Ланселот сделал все, что было в его силах, чтобы выполнить повеление Папы. Он возвратил Гвиневеру королю; но холодную, неумолимую ненависть Гавейна превозмочь не мог. В конце концов он отправился в изгнание и покинул двор, горько сетуя, в пересказе Мэлори:
«О, благороднейшее христианское королевство, возлюбленное мною превыше всех королевств! В твоих пределах добыл я почти всю мою славу, но ныне, когда должен я вот так бесславно тебя покинуть, воистину мне жаль, что когда-то я прибыл сюда, откуда я столь позорно изгнан, незаслуженно и беспричинно! Но так уж изменчива судьба и безостановочно ее колесо, что нет в жизни постоянства».
На это отвечал Гавейн:
Знай, мы скоро последуем за тобою и обрушим крепчайший из твоих замков тебе на голову!
В строфической «Смерти Артура» Ланселот спросил, обезопасит ли он себя от преследования в своих собственных землях во Франции, но:
- Syr Gawayne than sayd, «naye,
- Ответил сэр Гавейн: „Ну нет!
- By hym that made sonne and mone,
- Творцом и солнца, и луны
- Dight the as welle as euyr thou may,
- Клянусь: за все ты дашь ответ,
- For we shalle after come fulle sone.“
- Тебе не избежать войны!»
На том Ланселот попрощался с Гвиневерой, и поцеловал ее, и объявил «во всеуслышание»:
«А теперь посмотрим, найдется ли здесь кто-нибудь, кто осмелится сказать, что королева неверна господину моему королю Артуру? Пусть говорит, если посмеет». И с тем он подвел королеву к королю, а потом поклонился и вышел. ‹…› И пустился он в путь к замку Веселой Стражи, который он с тех пор всегда называл замком Печальной Стражи. Так покинул сэр Ланселот навсегда двор короля Артура.
Ланселот призвал к себе многих рыцарей, и они отплыли кораблем во Францию.
Сэр Ланселот был сыном короля Бана, что правил над городом и областью во Франции, которая в строфической «Смерти Артура» и у Мэлори названа Бенвик, а в романе «Mort Artu» – Беноик. Некоторые рыцари Круглого Стола приходились Ланселоту близкой родней, среди них – сэр Эктор Окраинный (его брат), сэр Лионель, сэр Борс Ганский и сэр Бламор Ганский (эти рыцари поименованы в «Гибели Артура», I. 44–45 и в III. 131–132). Так что изгнанники отправились в Бенвик; но, насколько мне известно, где он якобы находился, не установлено по сей день. Дойдя до этого момента в своем повествовании, Мэлори рассказывает, что они «отплыли в Бенвик; сейчас иные зовут его Байонна [Bayan], а иные – Бон [Beawme], откуда вино боанское». Но более нигде такой идентификации не приводится; а поскольку Бенвик – это, со всей очевидностью, порт, это никак не может быть Бон, который находится на расстоянии многих сотен миль от Атлантики; а если Bayan – это Байонна, то это слишком далеко на юге.
Но где бы Бенвик ни находился, очень скоро король Артур и сэр Гавейн, вдохновитель всего предприятия, исполнили свою угрозу. Король «назначил сэра Мордреда главным управителем над всей Английской землей и под его началом оставил также королеву»;
с огромным войском переправился через море и стал жечь и разорять земли сэра Ланселота. По-прежнему пытаясь уладить дело миром – хотя его рыцари считали, что «ваша учтивость погубит нас всех», – Ланселот отправил к королю Артуру посольство, но вновь получил ответ, что король «рад был бы примириться с сэром Ланселотом, но сэр Гавейн до того не допустит». Гавейн же выехал к воротам осажденного Бенвика и прокричал вызов осажденным. Против него выступили сперва сэр Борс, затем сэр Лионель, но оба были повержены и получили тяжелые раны; так продолжалось до тех пор, пока Ланселот, хотя и крайне неохотно, не принял вызов.
Во всех рассказах об этой войне сэр Гавейн оказывается наделен особым «даром» или свойством, а именно: его мощь резко возрастала до полудня, а затем вновь шла на убыль. Когда же Ланселот понял, что происходит, он принялся уворачиваться туда и сюда и долго уклонялся от ударов сэра Гавейна, пока волшебная мощь не начала убывать, а тогда Ланселот обрушился на противника и тяжело его ранил. (Между прочим, в романе «Mort Artu» говорится, будто в то время, пока Гавейн поправлялся, Артур покинул осаду Бенвика и отправился в поход против Рима, в ходе которого был убит император Луций; Мэлори, разумеется, игнорирует это обстоятельство, поскольку он уже пересказал этот эпизод в повести о короле Артуре и императоре Луции (см. выше). Когда же Гавейн вновь смог взять в руки оружие, история повторилась с тем же исходом, ибо Ланселот нанес ему удар по старой ране. Но даже тогда ненависть сэра Гавейна не утихла; но, пока он готовился к третьей попытке, из Англии прибыли вести, которые заставили Артура снять осаду Бенвика и вернуться домой. Оказывается, Мордред якобы получил письма с сообщением, что Артур пал в бою от руки Ланселота; тогда Мордред «созвал парламент» и короновался в Кентербери; и объявил, что намерен жениться на Гвиневере, назначил день свадьбы и стал готовиться к празднеству.
Притворившись, что якобы согласна на брак, Гвиневера бежала в Лондон и укрылась от Мордреда в Тауэре; и, сколько бы Мордред его ни атаковал, захватить Тауэр так и не смог; и королева оставалась там. Артур же с большим флотом приближался к Дувру, где его и поджидал сэр Мордред.
Вот так, при том что морская кампания короля Артура осталась в силе, предыстория радикально поменялась. Короля заставила покинуть Англию (не «Британию») любовь Ланселота и Гвиневеры, спровоцировавшая длинную череду причинно-следственных связей: от вторжения Агравейна и Мордреда до приговора Гвиневере к сожжению на костре, откуда ее спасает Ланселот, но убив при этом Гарета с Гахерисом, из-за чего привязанность Гавейна к Ланселоту сменяется беспощадной ненавистью, до изгнания сэра Ланселота и до карательной экспедиции против него во французские земли. Две различные традиции, представленные аллитерационной «Смертью Артура» и строфической «Смертью Артура», сходятся лишь в том эпизоде, когда к Артуру из-за моря приходят вести о том, что Мордред узурпировал власть над королевством.
Как будет видно впоследствии, во многих своих чертах третья песнь «Гибели Артура» заметно расходится с «Повестью о смерти Артура» Мэлори (равно как и со строфической «Смертью Артура») – а именно, в ней немало всего опущено. Ни словом не говорится о том, что гибель братьев Гавейна от руки Ланселота – это ключевой момент в развитии трагедии; и, безусловно, здесь отсутствует элемент, насущно важный в старых версиях, – непримиримая ненависть Гавейна к Ланселоту, некогда его близкому другу. В Песни III Гавейн фигурирует только в виде описания (строки 29 и далее), намеренно и выигрышно противопоставленного предшествующему описанию Ланселота; упоминается также о его славе (III. 177 и далее), в то время как Ланселот в Бенвике «за лиги морские / глядел да гадал, горюя один, / в смятении сердца». Но в повествовании он роли не играет вплоть до морской битвы по возвращении Артура. Правда, в песни I Гавейн «грозно и веско» возражает против желания Артура призвать Ланселота и его подданных на помощь против Мордреда (I. 190 и далее); но несогласие Гавейна, по-видимому, вызвано сомнением в преданности «рода Банова», и взвешенный тон его слов не имеет ничего общего с непримиримым гневом Гавейна из старых книг.
В «Гибели Артура» рассказ о событиях, последовавших за спасением Гвиневеры от костра, сведен к словам: «он увез далеко ее; / страх всех сковал; никто следом не ринулся» (III. 83–84); и вся история о том, как Артур с Гавейном осаждали Веселую Стражу, о яростных сражениях под стенами замка, о безоговорочной рыцарственной преданности Ланселота королю и о вмешательстве Папы, исчезла бесследно.
В ретроспективной песни III концепция распада братства Круглого Стола и запутанности Ланселотовых любви и преданности существенно упрощается. Вместе с отсутствием Гавейна исчезает определенная глубина. Пропасть, разделившая короля Артура и сэра Ланселота, очерчена более четко, и преодолеть ее невозможно. Об этом недвусмысленно говорится не раз и не два:
- Лорда он предал, любви уступая,
- Но любовь отринув, лорда не возвернул.
- Впредь вероломцу в вере отказано,
- От любви ж отделен он лигами моря.
(III. 15–18; повторяются, за исключением третьей строки, в III. 140–142.)
Спасение Гвиневеры от смерти на костре играет ключевую роль в «Гибели Артура», но не по причине гибели Гарета и Гахериса, а скорее по причине безоглядного неистовства, с каким Ланселот ворвался на место событий; причем приступ ярости сменяется упадком духа совершенно в духе Турина и приводит Ланселота к глубокому раскаянию, к попытке исправить содеянное и к мучительным угрызениям совести.
- В гордыне он покаялся, проклял доблесть,
- Что сразила соратников и слово нарушила.
Помимо всего прочего, «не сдержали клятв они» (III. 62): ему должно возвратить Гвиневеру королю и убедить Артура проявить милосердие к жене и примириться с ним самим.
Ни в строфической «Смерти Артура», ни в повествовании Мэлори ни словом не говорится о том, что чувствовала или думала по этому поводу сама Гвиневера. Совершенно иначе она представлена в «Гибели Артура»: здесь желания Гвиневеры подробно проанализированы, и ей этот преобразившийся Ланселот кажется отталкивающим чужаком, чей внутренний разлад остается за пределами ее понимания: «Чуждым ей мнился он, / как от порчи пагубной переменившись» (III. 95–96). Теми же словами описываются и чувства Ланселота: «Чужой она мнилась, / переменившись». Но Ланселотова утрата куда тяжелее Гвиневериной, ведь: «Хоть в гневе ушла она, горя не выказав, / не печалясь, не плача, в презрении гордом, /глубоко любил он» (III. 166–168). «В Камелоте вновь она королевою стала /в почете и чести» (III. 113–114); в то время как Ланселотово прошение королем Артуром решительно отвергнуто: Ланселот изгнан в иную землю, где и предается мрачным раздумьям. Но король, печалясь в душе, понимает, что потерял лучшего из своих рыцарей, а вместе с ним и еще многих; и пока он оплакивает свою утрату перед Гавейном, прибывают вести о предательстве Мордреда (I. 180 и далее). Ланселот в Бенвике, услышав слухи о грядущей войне, снова и снова прокручивает в голове противоречивые мысли об Артуре и Гвиневере (III. 143 и далее).
При отсутствии Гавейна вторжению в Бенвик, к которому тот подстрекал из ненависти к Ланселоту, в «Гибели Артура» места тоже не находится. Следующий раз мы встретимся с Артуром только в песни IV, когда Мордред, стоя на береговом утесе, слышит крик: «Парус, парус над пучиною реет!» (IV. 117). Но ретроспективному изложению «истории Ланселота» в песни III предшествует абсолютно самобытная песнь II, в которой рассказывается, как умирающий капитан корабля, выброшенного на берег, пират-язычник по имени Радбод, нанятый Мордредом, сообщает ему о том, что сэр Крадок (как говорилось в песни I) ускользнул из Британии, отыскал Артура и предостерег его о кознях Мордреда; так что Артур уже спешит назад в Британию. С последним вздохом Радбод сжато рассказывает Мордреду о лихорадочных приготовлениях в том, что касается воинов и кораблей (II. 76–89).
Но самая примечательная черта песни II «Гибели Артура» – это полностью вымышленный образ Мордреда в контексте надвигающейся катастрофы.
В песни I о нем было сказано только то, что за его горячей поддержкой Артуровой восточной кампании скрывался тайный недобрый умысел – который теперь оказывается раскрыт. О взаимоотношениях Мордреда с королевой Гальфрид Монмутский говорит лишь (см. выше), что после победы над римлянами до короля Артура дошли новости: «королева Геневера, осквернив первый свой брак, вступила с ним [Мордредом] в преступную связь». В аллитерационной «Смерти Артура» (см. выше) сэр Крадок сообщает королю о «худшем из деяний Мордредовых: он женился на Гвиневере и зачал ребенка». В версии Мэлори (см. выше) Артура в Бенвике достигли вести о том, как Мордред открыто объявил, что намерен жениться на Гвиневере. В полном тексте Мэлори говорится:
Стали готовиться к празднеству, и назначен уже был день, когда должны были они повенчаться; и тяжко было на душе у королевы Гвиневеры. Но печаль свою она открыть не осмелилась, говорила речи любезные и согласилась поступить по желанию сэра Мордреда. И для того испросила она у сэра Мордреда позволения отправиться в Лондон и закупить там всякой всячины, потребной к свадьбе. Сэр же Мордред из-за речей ее любезных ей поверил и ее отпустил. А она, лишь только прибыв в Лондон, удалилась в Лондонский Тауэр и, со всей поспешностью запасшись всевозможным провиантом, засела там с надежным гарнизоном.
В песни I «Гибели Артура» сэр Крадок о Гвиневере не упоминает, но в песни II, еще до того как капитан корабля Радбод сообщает свои новости, Мордред изображен глядящим в высокое окно: ему совершенно нет дела до бури, в которой затонул корабль (I. 18–31), поскольку все мысли его поглощены страстью к Гвиневере; выслушав Радбода и разослав гонцов «на восток и на север с вестями спешными», он выезжает в Камелот. Гвиневера слышит стремительные шаги этого зловещего персонажа: он поднимается по лестнице в ее покои. В ходе этой судьбоносной встречи Мордред предлагает ей выбор, который на самом деле выбором не является, между «любовницей, госпожой ли, супругой или служанкой» (II. 154–155). Гвиневера просит об отсрочке, но тот дает ей совсем мало времени: «Меж невестой и невольницей недолог выбор!» Она решается бежать немедленно – но не в лондонский Тауэр. Закутавшись в темный плащ, она тайком прокрадывается за двери; мы видим, как за ее спиной гаснут огни Камелота, она же с несколькими спутниками бежит на запад, к замку своего отца короля Леодегранса.
Песнь II заканчивается ее размышлениями о Ланселоте: вернется он или нет? Песнь IV начинается с описания ясного утра на границе с Уэльсом, где всадники, высланные Мордредом в погоню за королевой, потеряли ее след.
- За Гвиневерой гнались они в гневе лютом,
- Пока не отчаялись средь чуждых пустошей,
- Погоню прервали в предгорьях грозных
- У валов валлийских.
Мордреда извещает об их неудаче его оруженосец Ивор и неуместным советом приводит своего господина в бешенство: тот, в своем лагере, стоит на прибрежных утесах над Ромерилем (Ромни в Кенте), озирает пустынную гладь моря и опасается про себя, не послала ли Гвиневера гонца к Ланселоту, «о любви памятуя / и прося помощи в пору бедствия» (IV. 96). Наконец вдали показались паруса Артурова флота.
Здесь можно оглянуться назад и посмотреть, как вплоть до этого эпизода мой отец использовал и преобразовал повествовательную традицию, ставшую впоследствии известной в Англии благодаря «Смерти Артура» – последней из повестей Мэлори.
Он сохранил «летописную» традицию заморского похода Артура на восток, но радикально изменил его суть и цель. Артур не нападает на «Рим», он его защищает.
Он воспроизвел мотив предательства и узурпации Мордреда и его страсти к Гвиневере, но разработал его характер гораздо подробнее.
Он ввел (в ретроспекции) «романную» легенду о Ланселоте и Гвиневере («летописной» традиции совершенно чуждую), но существенно упростил сложные мотивации, заимствованные из французского романа «Mort Artu» и представленные в английской строфической «Смерти Артура» и последней из повестей Мэлори, вырезав роль Гавейна. Гвиневера по-прежнему приговорена к сожжению на костре, а Ланселот ее спасает; но здесь Ланселот изгнан из страны в наказание за связь с королевой, а не как следствие ненависти к нему Гавейна из-за того, что Гарет пал от его, Ланселота, руки. Ланселот выслан в Бенвик, а Гвиневера возвращена Артуру, который вновь окружает ее почетом.
Нападение Артура с Гавейном на Бенвик полностью вырезано; вести об измене Мордреда настигают Артура не под Бенвиком, а далеко на востоке.
«Повесть о смерти Артура» Мэлори (II)
Теперь я вкратце суммирую заключительную часть последней повести Мэлори, начав с того самого места, на котором я прервался (выше): корабли Артура подходят к Дувру, а Мордред его поджидает. Здесь Мэлори очень многое заимствовал из английской поэмы – строфической «Смерти Артура», расцвечивая собственное повествование новыми подробностями.
Войско Артура прорубило себе путь вверх по взморью и, пролив немало крови, изничтожило приспешников Мордреда. Но сэра Гавейна обнаружили на дне лодки «лежащим замертво»; обратившись к королю Артуру, тот признал, что через собственную свою гордыню и нетерпимость он сам навлек на себя погибель, поскольку принял удар по своей старой ране, которую Ланселот нанес ему в Бенвике; и что это из-за него Артур терпит такой урон:
…ведь будь благородный рыцарь сэр Ланселот сейчас с вами, как бывал он прежде и был бы и в этот раз, эта злосчастная война никогда бы не началась ‹…› И вот теперь вы пожалеете, что нет с вами сэра Ланселота. Увы! зачем я не примирился с ним!
Перед смертью Гавейн попросил бумагу и перо, чтобы он мог написать письмо Ланселоту, заклиная его со всей возможной поспешностью вернуться и помочь королю Артуру против Мордреда.
Гавейна похоронили в часовне Дуврского замка. А Мордред отступил к Бархемскому холму в Кенте, что в нескольких милях от Кентербери; там Артур атаковал его, и под конец битвы Мордред бежал в Кентербери. Тогда Артур отошел западнее, к равнине Солсбери, и два воинства стали готовиться к новому сражению. Но Артуру явился во сне сэр Гавейн, говоря, что послан Господом предостеречь его: не следует затевать бой раньше, чем спустя месяц, ведь к тому времени из Франции прибудет сэр Ланселот со всеми своими рыцарями. Начались переговоры с Мордредом; но перемирие было нарушено в результате недоразумения, вызванного страхом предательства; и закипела третья, самая яростная из битв, она продолжалась весь день до самой ночи, и наконец в живых остались лишь король Артур, сэр Бедивер и сэр Лукан с одной стороны и Мордред с другой, среди бессчетных павших. Но вот король заприметил сэра Мордреда – «он стоял, опираясь на меч свой, а вокруг него была большая груда мертвых тел»; они бросились друг на друга, и Артур пронзил Мордреда насквозь своим копьем. Мордред понял, что рана его смертельна, и из последних сил «ударил он отца своего короля Артура сбоку по голове, и рассек меч преграду шлема», и на том Мордред «рухнул наземь мертвый».
Сэр Бедивер и сэр Лукан, сами тяжко израненные, отнесли короля в «маленькую часовню у самого моря». Заслышав на поле боя крики и шум – это пришли мародеры обирать убитых, – двое рыцарей решили, что лучше унести короля подальше, но при попытке поднять его сэр Лукан скончался от полученных ран. Тогда Артур повелел Бедиверу взять его меч Экскалибур и бросить «в воду», и возвратиться рассказать о том, что увидел. Дважды Бедивер доходит до берега, и каждый раз притворяется, будто исполнил наказ; но всякий раз король Артур в гневе обвиняет его во лжи. На третий раз Бедивер отправляется «на берег» и, вернувшись, правдиво рассказывает, что зашвырнул меч в воду как можно дальше, и в тот же миг из волн поднялась рука, поймала меч, потрясла им и исчезла вместе с мечом под водой.
Тогда, по велению короля, Бедивер отнес короля на спине к кромке воды, где ждала «под самым берегом маленькая барка, а на ней много прекрасных дам и среди них – королева», сестра Артура, Фея Моргана. Тогда Бедивер уложил Артура на барку, и сказала Моргана (повторяя формулировку строфической «Смерти Артура»): «Милый брат мой! Почему так долго ты медлил вдали от меня? Увы! Рана у тебя на голове чересчур остудилась!» Но едва барка отошла от берега, Бедивер воззвал к королю, спрашивая, что с ним, последним из рыцарей, теперь станется; и Артур ответил:
Не убивайся понапрасну и позаботься о себе сам, ибо на меня теперь тебе не в чем полагаться и надеяться. Я должен поспешать в долину Авалона, дабы залечить там мою жестокую рану. И если ты никогда более обо мне не услышишь, то молись за мою душу!
На следующий день, скитаясь по лесу, Бедивер набрел на «дом отшельника с часовней», и там обнаружилась свежевырытая могила, о которой отшельник рассказал, что «много дам» явились в полночь и принесли с собою мертвое тело, и попросили похоронить его (подробнее см. ниже). Бедивер остался в пустыни, которая находилась «в окрестностях Гластонбери» (в Сомерсете), и зажил с отшельником «в молитвах и постах и в великом воздержании». А Гвиневера, узнав обо всем случившемся, «тайком покинула двор» и пришла в Эймсбери (в Уилтшире), и там постриглась в монахини:
Никто не мог ее развеселить, и она жила в неизменных постах, молитвах и делах благотворительных, и все люди только дивились тому, сколь праведно она переменилась.
Когда же Ланселот в Бенвике услышал обо всем, что случилось в Англии, и получил письмо Гавейна, он со всей поспешностью собрал войско и переправился через море в Дувр. Там оказалось, что приехал он слишком поздно. В глубоком горе он посетил могилу Гавейна в часовне Дуврского замка, а потом уехал на запад и добрался до монастыря, где Гвиневера приняла постриг. Увидев его вновь, Гвиневера упала в обморок, но, придя в себя, объявила всем собравшимся монахиням в присутствии Ланселота:
Из-за этого рыцаря и из-за меня случилась вся эта ужасная война и погибли благороднейшие в мире рыцари; ибо из-за нашей любви, что мы любили друг друга, убит мой благороднейший супруг. И знай, сэр Ланселот, потому-то я и приемлю ныне столько трудов для спасения моей души.
В своем разговоре с Ланселотом, который невозможно изложить вкратце, королева держалась непреклонно и ответила отказом, когда рыцарь сказал: «Прошу вас, поцелуйте меня сейчас в последний раз». На том они расстались, «и не нашлось бы человека столь жестокосердного, чтобы не заплакал при виде их горя, ибо они стонали жалобно, словно пронзенные копьем».
Покинув Эймсбери, Ланселот доехал до отшельнической пустыни, где ныне обретался Бедивер, и остался там, и зажил такой же жизнью. Там к ним присоединились и другие рыцари Круглого Стола; и спустя шесть лет Ланселот принял священнический сан. Однажды ночью ему явилось видение: Ланселоту велено было отправиться в Эймсбери, где он найдет Гвиневеру мертвой, и вменялось в обязанность похоронить ее подле короля Артура. Ланселот с товарищами пошел пешком «из Гластонбери в Эймсбери, что находился оттуда немногим более чем в тридцати милях», и весь путь занял у них два дня, поскольку они ослабели и обессилели, живя в покаянии и постах. Добравшись до Эймсбери, они узнали, что Гвиневера скончалась полчаса назад; им поведали, что королева сказала о Ланселоте:
«Он придет сюда сразу же со всею возможной поспешностью за моим телом, и подле господина моего короля Артура он похоронит меня». И так королева сказала во всеуслышание: «Молю всемогущего Господа, чтобы никогда мне более не узреть сэра Ланселота земными очами!»
Тело королевы было перевезено в часовню близ Гластонбери и там предано земле.
После того Ланселот почти не принимал пищи и не пил, «все больше слабел и чахнул» и вскорости умер. Согласно его пожеланию, тело перевезли в замок Веселой Стражи, причем дорога заняла пятнадцать дней, – и погребли в алтаре тамошней часовни.
Аллитерационная «Смерть Артура»(II)
С момента, когда с берега были замечены паруса Артурова флота, мой отец отходит от традиции, на английском языке воплощенной в строфической «Смерти Артура» и «Повести о смерти Артура» Мэлори, и обращается к аллитерационной «Смерти Артура», изложение которой я прервал на том моменте, когда Артур узнает от сэра Крадока о предательстве Мордреда и его женитьбе на Гвиневере (выше).
В строфической «Смерти Артура» и у Мэлори по возвращении Артура столкновения на море не происходит, но в аллитерационной поэме среди прочих дурных вестей, принесенных сэром Крадоком, говорится и о том, что Мордред привел враждебный королю флот (выше):
- Att Southamptone on the see es seuene skore [s]chippes,
- Два десятка драккаров с дружинами лютыми
- frawghte fulle of ferse folke, owt of ferre landes.
- Сошлись в Саутгемптоне из стран далеких.
В нескольких строках автор рассказывает о поспешном возвращении Артура, который:
- Turnys thorowe Tuskayne, taries bot littill,
- Нимало не мешкая, миновал он Тосканию,
- Lyghte noghte in Lumbarddye bot when the lyghte failede;
- Ввечеру с войском встал в Ломбардии;
- Merkes ouer the mowntaynes full mervaylous wayes…
- Путями путаными прошел через горы.
«And within fyftene dayes his flete es assemblede» [И за пятнадцать дней подготовлен был флот его] (в «Гибели Артура» (II. 76–88) Радбод в красках описывает Мордреду приготовления и сборы Артура).
Теперь в аллитерационной «Смерти Артура» поэт посвящает около ста строк изображению последующего яростного морского сражения, равного которому в средневековой английской литературе нет ничего. Яростная лавина слов доносит (можно сказать, что в равной степени благодаря их форме и сочетанию) рев битвы, треск шпангоутов, грохот сталкивающихся кораблей и падающих мачт, пение труб, свист стрел…
Именно из этой поэмы мой отец заимствовал свое описание грандиозного морского боя у Кентского побережья по возвращении Артура. В ранних произведениях «летописной» традиции имеет место кровопролитное сражение, когда на сцене появляется флот Артура, но это битва между захватчиками из-за моря и воинством Мордреда, обороняющим утесы. В «Бруте» Лайамона (см. выше и ниже) это достаточно очевидно, и то, что мой отец имел в виду этот отрывок, когда описывал морской бой, явствует из строк «Брута» о том, что Артур «hehte þat his scipmen brohten hine to Romerel» [велел корабельщикам везти его в Ромерель]: отсюда мой отец взял название «Ромериль» (Ромни в Кенте, о нем уже шла речь).
В изображении морского сражения в «Гибели Артура» явственно звучат отголоски аллитерационной «Смерти Артура» в таких строках, как IV. 180–182.
- Бушприт бил в борт. Брусья трещали,
- Железо лязгало, ломались секиры,
- Щиты и копья в щепы дробились…
Но, естественно, здесь не осталось и следа того торжествующего, ликующего тона старинной поэмы, где «наши» лорды громко смеются над чужаками с Мордредовых кораблей, которые в ужасе прыгают в море («when ledys of owtlonndys leppyn in waters, / All oure lordes one lowde laughen at ones» [как в пучину прыгали пришлецы иноземные, / все наши лорды, ликуя, лихо смеялись]).
Здесь уместно пересказать завершающую часть аллитерационной «Смерти Артура», местами более сжато, местами более подробно.
Битва на море была выиграна, но «Yitt es the traytoure one londe with tryede knyghttes» [предатель на бреге с бойцами грозными] ждал, пока новоприбывшие попытаются высадиться и напасть на них; королю же такой возможности не представлялось, поскольку был отлив и море отступило, оставив лишь огромные слякотные лужи. Но Гавейн взял гичку [большую беспалубную шлюпку] и с небольшим отрядом высадился на берег, оказавшись по пояс в воде в своих расшитых золотом одеждах («to the girdylle he gos in alle his gylte wedys» [в позолоченном платье по пояс грядет он]), а затем они бегом преодолели пески и обрушились на построенное в боевой порядок войско Мордреда. Гавейн сразил короля Готланда, а затем, восклицая: «Fy on the, felone, and thy false werkys!» [ «Будь ты проклят, предатель, и твои подлые козни!»] – ринулся к Мордреду «с мужами храбрыми / из дома Монтегью и другими лордами»; но он и его отряд оказались окружены и безнадежно уступали в численности врагу («Сарацины насели со всех сторон!»).
Тогда Гавейном овладело безрассудное неистовство, как поэт повторяет снова и снова: «all his witte faylede» [помутилсяум его]; «alls unwyse, wodewyse» [безрассудный безумец]; «he fell in a fransye for fersenesse of herte» [решился он разума, распалясь сердцем]; «wode alls a wylde beste» [буен как бешеный зверь]. Наконец, в поединке с Мордредом один на один он был побежден и пал мертвым от удара, разбившего ему шлем. Король Фредерик Фрисландский, ставший свидетелем подвигов Гавейна, принялся расспрашивать Мордреда о погибшем:
- Qwat gome was he this with the gaye armes
- Что за рыцарь рьяный рухнул ничком,
- With this gryffoune of golde, that es one growffe fallyn?[71]
- При гордом гербе с грифоном златым?
Мордред назвал его по имени и отозвался о нем с большой похвалой:
- Had thow knawen hym, sir kynge, «in kythe thare he lengede,
- „Кабы вам знать его, знатный сэр, в земле, где он жил,
- His konynge, his knyghthode, his kyndly werkes,
- Его деянья, и доблесть, и достоинства многие,
- His doying, his doughtyness, his dedis of armes,
- И смелость, и стать его, и славные подвиги,
- Thow wolde hafe dole for his dede the dayes of thy lyfe!“
- О смерти его скорбели б вы до скончания жизни!»
- Yit that traytour alls tite teris lete he falle,
- Тут предатель подлый плачем зашелся,
- Turnes hym further tite, and talkes no more,
- Повернулся поспешно, не прибавив ни слова,
- Went wepand awaye, and weries the stowndys,
- Поспешил прочь, печалясь, и проклял ту пору,
- That ever his werdes ware wroght, siche wandrethe to wyrke[72].
- Когда столько скорби содеял судьбы веленьем.
«Раскаявшись во всех своих преступлениях», он ушел на запад, в Корнуолл, и разбил шатры у реки Тамбир (Теймар). Оттуда он послал гонца к Гвиневере в Йорк, сообщая обо всем происшедшем и веля ей бежать «вместе с детьми» в Ирландию; она же, покинув Йорк в глубоком отчаянии, отправилась в Каэрлеон и там приняла постриг:
- Askes thare the habite in the honoure of Criste,—
- Попросила о постриге, почитая Христа,
- And all for falsede, and frawde, and fere of hire loverde [lord]!
- В сокрушении сердца и из страха за мужа.
Но Артур, видя безумие Гавейна, поспешил с корабля на берег вместе со многими рыцарями и, обыскав поле битвы, нашел его тело: тот «in his gaye armes, umbegrippede the girse, and on grouffe fallen» [в доспехах блестящих, /лежал лицом вниз на лугу зеленом]. Во власти безысходного отчаяния он горько оплакивает Гавейна (подробнее см. ниже); а тело погибшего перевозят в один из монастырей Винчестера. Королю советуют задержаться в Винчестере и собрать все свои силы, прежде чем бросаться в погоню за Мордредом, но Артур ничего и слышать не хочет, яростно бранит ненавистного Мордреда и клянется «ever pursue the payganys that my pople distroyede» [преследовать погань, что погубила народ мой]. Он немедленно покидает Винчестер и отправляется на запад в Корнуолл, где настигает Мордреда, вставшего лагерем в лесу. Мордред вызван на битву; его огромная армия, далеко превосходящая войско короля, выходит из лесу.
Далее следует битва при Камлане (в поэме она так не названа), кровопролитное сражение, в котором нашли свою смерть «the bolde Bretons» [бравые бритты] в столкновении с такими противниками, как «Peghttes and paynymes with perilous wapyns» [пикты и погань с опасным оружием] и «ethyns of Argyle and Irische kynges» [ётуны Аргайла и ирландские короли]: о нем рассказано примерно в двухстах строках. Происходит немало столкновений один на один; многие погибшие рыцари названы по имени, среди них Маррак, Менедук и Эррак (поименованные и в «Гибели Артура», I. 48–49) и Ланселот (о его присутствии и смерти при Камлане см. выше). Поэма заканчивается поединком не на жизнь, а на смерть между Мордредом и Артуром, причем каждый страшный удар меча описан красочно и наглядно. Будучи смертельно ранен, Артур тем не менее отрубает Мордреду правую руку своим мечом Калибурном и пронзает его насквозь, уже лежащего на земле.
Но король все еще жив.
- Thane they holde at his heste hally at ones
- По воле владыки все вышло в точности:
- And graythes to Glasschenberye the gate at the gayneste;
- Все пустились в Гластонбери путем кратчайшим,
- Entres the Ile of Aveloyne, and Arthure he lyghttes,
- На Авалон-остров; там Артур спешился,
- Merkes to a manere there, for myghte he no forthire[73].
- Ибо силы иссякли, и свернул в замок.
Хирург из Салерно осматривает его раны, и Артур понимает, что исцелиться ему не суждено. На смертном одре он отдает распоряжение убить и утопить детей Мордреда («Latt no wykkyde wede waxe, ne wrythe one this erthe» [Пусть от сорной травы и семени не останется]), а в последних своих словах вспоминает Гвиневеру:
- I foregyffe all greffe, for Cristez lufe of hevene!
- Все печали прощаю я, помня о Господе,
- Yife Waynor hafe wele wroghte, wele hir betydde!
- Благодать Божья да будет с благоверной Гвиневрой!
Короля Артура похоронили в Гластонбери, и на его погребении аллитерационная «Смерть Артура» заканчивается.
- Thus endis kyng Arthure, as auc tors alegges,
- Так Артур опочил, как автор поведал нам;
- That was of Ectores blude, the kynge sone of Troye,
- Род вел он от Эктора, сына Троянского короля,
- And of Pyramous, the prynce, pray sede in erthe;
- И принца Приама, что прославлен в мире;
- Fro thethen broghte the Bretons alle his bolde eldyrs
- Оттоль пришли предки прародителей бриттов
- Into Bretayne the brode, as the Bruytte tellys[74].
- В Бретань бескрайнюю, как в «Бруте» сказано.
Морской бой завершается победой; под Ромерилем, с палубы своего корабля, Артур озирает свои земли, раздумывая, как лучше поступить; на этом эпизоде отец оставил работу над «Гибелью Артура». Остается лишь пожалеть, что поэма не доведена до конца: из всех неоконченных произведений это, на мой взгляд, потеря наиболее прискорбная.
Ненаписанная поэма и ее взаимосвязь с «Сильмариллионом»
Поэма «Гибель Артура» осталась незавершенной, но сохранились рукописные заметки разного качества, отражающие мысли и намерения моего отца в том, что касается продолжения и завершения поэмы, и о некоторых можно сказать, что содержание их чрезвычайно интересно и чрезвычайно заманчиво. Существуют и обрывки новых стихов, хотя почти все они записаны настолько наспех, что местами вообще не поддаются прочтению. Среди этих бумаг есть набросок продолжения последней части законченного текста, где Артур, размышляя о целях и последствиях атаки на береговые утесы, делится сокровенными думами с Гавейном: им следует отложить дальнейшие военные действия и, «доверясь ветру и волнам отлива», плыть вдоль берега на запад «к иному причалу» (V 61–63).
Этот краткий план я привожу здесь: он занимает не больше страницы, со всей очевидностью написан в то же время, что и заключительный фрагмент поэмы, и недалеко ушел от самых неразборчивых отцовских каракулей. Я расшифровал сокращения и для ясности внес несколько мелких поправок.
Совет. Артур не желает рисковать своими рыцарями. Он призывает Гавейна и предлагает повернуть на запад и, воспользовавшись отливом и попутным ветром, плыть западнее вниз по проливу к другому месту высадки – прежде чем Мордред сумеет последовать за ними с большими силами – в Корнуолл, к неприветному взморью приветных людей, или в дивный Лионесс[75].
Но Гавейн говорит: мы планировали атаковать Мордреда немедленно. Вот он. Рано или поздно нам придется его атаковать. Каждый день умножает его силу и оставляет Восток открытым для [?язычников][76].
Они глядят вдаль, пока не заходит солнце. Гавейн глядит в раздражении и ярости.
[Приписано на полях: Артур настаивает на том, чтобы отплыть.] Солнце садится, снова начинается прилив. Гавейн прыгает в легкую лодочку вместе со своими лучшими друзьями и велит всем, кто отважится последовать за ним, сесть на весла и вести судно прямо на белые пески взморья. Гавейн прыгает за борт и под градом стрел идет вброд к берегу и вверх по руслу реки, пытаясь пробиться к вершинам утесов. Мордред подзадоривает своих людей. В тот день Гавейну недоставало его братьев Гахериса и Гарета, и Агравейна Суровой руки[77].
Но он сразил многих мужей,… вровень с теми, кто стоял на возвышении. Он достиг вершины, но с ним мало людей, хотя многие спешат следом. Там он расчищает путь к Мордреду. Они дерутся, и Гавейн [?? спотыкается]. Солнце садится по левую руку от него [сверху вписано: освещает его щит]. Алый луч падает на его щит и высвечивает грифона [на щите]. Галут [меч Гавейна] сокрушает Мордредов шлем; тот отступает к своим людям, выхватывает [лук] у Ивора и, развернувшись, стреляет Гавейну в грудь. Гавейн падает, призывая Артура. Герин, оруженосец Гавейна, сражает Ивора, и Гавейновы домочадцы атакуют так яростно, что отбивают вершину утеса и стоят над его телом, пока не подходит Артурово воинство, [??пробиваясь] наверх. Артур подходит в тот самый момент, когда Гавейн умирает и солнце садится за Лионессом.
Здесь конспект заканчивается. В другом наброске, явно более раннем, приводится план повествования для оставшейся части поэмы, от начала четвертой песни; но с момента оплакивания Артуром Гавейна этот план сводится (если он был написан одновременно с кратким содержанием, что не доказано) к набросанным наспех заметкам на обеих сторонах одного и того же листа; и нет никаких других свидетельств того, как представлял себе отец окончание поэмы.
Солнце ярко светит над Британией. Люди Мордреда обшаривают леса в поисках Гвиневеры, но не могут ее отыскать. Между тем, выслав людей в землю Леодогранса (Камилиард в Уэльсе), он идет на восток и собирает войско, к которому присоединяются также саксы и фризы. С юга дует благоприятный ветер, под сенью белых утесов зеленое море. Мордред построил на вершинах утесов и холмов сигнальные башни, чтобы его войско собралось там, где появится Артур.
Видны приближающиеся корабли Артура. На знамени Артура – белая дама с ребенком на руках. Перед Артуровым кораблем плывет великолепный белый корабль под знаменем с изображением золотого грифона. На парусах вышито солнце. Это Гавейн. Мордред все еще колеблется и не велит зажигать сигнальных огней. Ибо он думал в душе: если на кораблях плывут Ланселот и родня Бана, он отступит и запросит мира.
Ибо если он и ненавидел Ланселота, еще сильнее он его сейчас боялся. Но Ланселотовой белой лилии в черном поле не было видно, ибо Ланселот ждал повеления королевы. Тогда наконец вспыхнул сигнальный огонь, и войско Мордреда заняло берег. Так Артур прибыл в Ромериль.
Саксонские корабли у Ромериля были отброшены, потоплены или подожжены, но Артур не мог высадиться и держался на расстоянии. Так что Гавейн бросает вперед свой корабль «Вингелот» (?)[78] и другие корабли своих вассалов, они садятся на мель на белом песке, который скоро окрашивается красным. Начинается свирепая битва. Гавейн прыгает за борт и идет вброд к берегу. Его золотые волосы сияют над темноволосыми головами недругов. Он убивает короля Готланда и прорубает себе дорогу к знамени Мордреда. Дуэль между Гавейном и Мордредом. Мордред отброшен назад, но он хватает лук у одного из своих приспешников, разворачивается и стреляет в Гавейна. [Приписано на полях: Мордред спасен Ивором.]
Гавейн падает и умирает у кромки океана, призывая Артура. Между тем ярость Гавейновых людей расчищает берег, приходит Артур и целует Гавейна на прощание.
Плач Артура.
Здесь я привожу, в силу причины, которая вскоре покажется очевидной, и плач короля Артура из аллитерационной «Смерти Артура», и его же вариант из «Гибели Артура».
- Than gliftis the gud kynge, and glopyns in herte,
- Глядит гордый король, горюя в сердце,
- Gronys ful grisely with gretande teris;
- Стонет скорбно, слезы роняет;
- Knelis downe to the cors, and kaught it in armes,
- Преклонив колена, покойника обнял,
- Kastys upe his umbrere, and kyssis hym sone,
- Поднял забрало, поцелуями осыпает,
- Lookes one his eye-liddes, that lowkkide ware faire,
- Взирает на вежды, величаво сомкнутые,
- His lipis like to the lede, and his lire falowede.
- Что свинец губы, и серо лицо.
- Than the corownde kyng cryes fulle lowdе:
- Король коронованный кричит в голос:
- «Dere kosyn o kynde, in kare am I levede,
- „Родич мой кровный, разлад в душе моей:
- For nowe my wirchipe es wente and my were endide.
- Проигран поход мой, погибла честь.
- Here es the hope of my hele, my happynge of armes,
- На успех упованья, удача воинская,
- My herte and my hardynes hale on hym lengede,
- Мое сердце и сила с ним сгинули вместе,
- My concelle, my comforthe, that kepide myne herte!
- Моя поддержка и помощь – подспорье сердцу!
- Of alle knyghtes the kynge that undir Criste lifede,
- Король всех рыцарей, что радели о Господе,
- Thou was worthy to be kynge, thofe I the corown bare.
- Ты королем быть заслуживал, хоть корону носил я.
- My wele and my wirchipe of all this werlde riche
- Честью своей и счастьем, и чаяниями мирскими
- Was wonnen thourghe sir Gawayne, and thourghe his witt one!
- Сэру Гавейну обязан я и голове его мудрой!
- Allas!“ saide sir Arthure, „nowe ekys my sorowe!
- Увы! – вздыхает сэр Артур, – возросло мое горе!
- I am uttirly undon in my awen landes!
- Погиб и пропал я в пределах собственных!
- A! dowttouse derfe dede, thou duellis to longe!
- А! Страшная смерть, слишком ты медлишь!
- Why drawes thou so one dreghe? thow drownnes myn herte!“[79]
- Что вдали выжидаешь? Вынула душу ты!»
Плач короля Артура о сэре Гавейне в набросках к «Гибели Артура» представлен на самой ранней стадии создания и, к несчастью, записан самым неразборчивым отцовским почерком. Нижеследующий текст – это все, что я сумел расшифровать после долгого изучения рукописи:
- Сумрачно стало на сердце у славного короля,
- стенает он слезно, рыдает,
- взирает на вежды, навеки сомкнутые,
- что свинец губы и [?лилейно-бледные].
- Тут [?корону] кинул он, крича громко:
- «Родич милый, разлад в душе моей
- моя слава сгинула, счастье [приписано сверху: благое] иссякло.
- Здесь защита моя и помощь, и щит мой и меч,
- мое сердце и сила и мой… мощный
- моя поддержка и помощь
- из всех рыцарей [??благороднейший].
- из всех [?королей]… радели о Господе
- Королем быть. хоть корону носил я.
- Я… [?погиб и пропал] в пределах собственных.
- А, страшная смерть слишком ты медлишь!
- вынимаешь душу ты из меня вживе.»
В аллитерационной «Смерти Артура» рыцари упрекают короля за неподобающее проявление горя[80]:
- «Blyne», sais thies bolde men, «thow blondirs thi selfen;
- «Полно, – рекут паладины, – печаль уйми свою;
- This es botles bale, for bettir bees it never.
- Боль сия неизбывна, и беды не поправить.
- It es no wirchipe iwysse to wryng thyn hondes;
- Право, позорно – предаваться отчаянью,
- To wepe als a woman, it es no witt holden.
- По-женски жаловаться – жалкая участь.
- Be knyghtly of contenaunce, als a kyng scholde,
- Держись доблестно, как должно монарху,
- And leve siche clamoure for Cristes lufe of heven!»
- Не голоси столь громко, ради Господа Бога!»
Здесь отец набросал несколько слов под заголовком: «Сэр Ивейн утешает его словами Беовульфа»:
- по-женски жаловаться – жалкая участь;
- лучше месть, чем плач.
Мне кажется, отец наверняка имел в виду тот фрагмент из поэмы «Беовульф», где главный герой обращается к Хротгару, датскому конунгу, в строках 1384–1389:
- Ne sorge, snotor guma! Selre bið æghwæm,
- Мудрый! Не стоит печалиться! – должно
- þæt his freond wrece, þonne he fela murne.
- мстить за друзей, а не плакать бесплодно!
- Ure æghwylc sceal ende gebidan
- Каждого смертного ждет кончина! —
- worold lifes, wyrce se þe mote
- Пусть же, кто может, вживе заслужит
- domes ær deaþe; þæt bið drihtguman
- вечную славу! Ибо для воина
- unlifgendum æfter selest.
- лучшая плата – память достойная![81]
В аллитерационной «Смерти Артура» король Артур затем дает обет:
- «Here I make myn avowe», quod the kynge than,
- «Клятвой клянусь я, – король тут молвил, —
- «To Messie and to Marie, the mylde qwenne of heven,
- Мессии и Марии, милосердной Царице:
- I sall never ryvaye ne racches uncowpyll
- Полевать не пущусь я, не пошлю гончих
- At roo ne rayne-dere, that rynnes appone erthe;
- На оленя и лань, что в лесу таятся;
- Never grewhownde late glyde, ne gossehawke latt flye,
- Не спущу пса со сворки, сапсана – с перчатки,
- Ne never fowle see fellide, that flieghes with wenge;
- Не промыслю в полете птицу крылатую;
- Fawkon ne formaylle appon fiste handill,
- Полевой потехе не порадуюсь с кречетом,
- Ne yitt with gerefawcon rejoyse me in erthe;
- Не скакать мне с соколом, спеша за дичью,
- Ne regnne in my royaltez, ne halde my Rownde Table,
- Круглый Стол не сзывать и страною не править,
- Till thi dede, my dere, be dewly revengedе;
- Пока за смерть твою, свет мой, не сквитаюсь как должно;
- Bot eveеr droupe and dare, qwylls my lyfe lastez,
- Мне крушиться и каяться до конца жизни,
- Till Drighten and derfe dede hafe don qwate them likes!»[82]
- Пока Создатель и смерть не свершат свою волю!»
Предварительные отцовские наброски в том, что касается королевского обета лишить себя всех основных удовольствий, выглядят так:
- Артурова клятва
- Ни с собакой, ни с соколом не скакать мне за дичью,
- Не знать ни пиршеств, ни арфы, не носить мне короны,
- [?не сидеть за] Круглым Столом, пока не отмщен Гавейн.
Самоочевидно, что если отец и не держал перед глазами открытой аллитерационную «Смерть Артура», то по крайней мере этот фрагмент перечитал непосредственно перед тем, как набросал первоначальный вариант плача Артура по Гавейну и его обета самоотречения.
Я уже отмечал (см. выше), что концепция грандиозного морского сражения в Ромериле в «Гибели Артура» восходит к аллитерационной поэме. Из кратких планов, приведенных выше, можно вычленить и другие подробности такого же рода. Из «Смерти Артура» взяты отлив, помешавший высадке Артура (см. выше), и эпизод, в котором Гавейн садится в лодку вместе с несколькими сотоварищами, а потом идет вброд к берегу (см. выше). Из того же источника заимствован тот факт, что Гавейн убивает короля Готланда в сражении на суше (см. выше) – но в завершенной части поэмы это происходит раньше, в ходе морского боя (IV. 202–203). Среди прочих деталей – имя Гавейнова меча, Галут (IV. 197–200), и золотой грифон на его корабельном знамени (IV. 144) и щите (см. выше).
Теперь остается лишь вернуться ко второму из двух кратких планов и к интригующим заметкам, что следуют за плачем Артура по Гавейну: только по ним мы можем понять, как мой отец представлял себе завершение «Гибели Артура» на тот момент, когда он оставил работу над текстом.
Под наброском плача Артура и клятвы написано:
Мордред оттеснен и отступает на восток. Артур уходит на запад. Ланселот… [?? тело Гавейна]. На полях приписано, вероятно, касательно Мордреда: из-за отсутствия поддержки им захвачен весь восток. Внизу страницы есть карандашная пометка: Начать песнь V с того, что тело Гавейна переносят в Камелот.
На другой странице содержатся нижеследующие заметки, набросанные явно наспех: в моей расшифровке некоторые слова – не более чем догадка.
Сильное солнце. Войска Артура приходят в движение первыми. Слухи о нападении Мордреда. На востоке – облачко. Мордред неожиданно появляется из леса на равнине Камлан. Ивейн и Эррак. Маррак и Менедук. Идрис и Эйлмер.
У Мордреда саксы, фризы, ирландцы, пикты и «пайнимы» [т. е. язычники] с опасным оружием (см. выше). Артура оттесняют назад. Мордред выходит последним. Артур и Мордред убивают друг друга. Облако [?сгущается] до темноты. Повсюду темнеет.
Артур отступает на запад. Слухи о наступлении Мордреда. Мордред выходит из леса.
Битва при Камлане. Артур и Мордред убивают друг друга. Туча [?сгущается]. Артур умирает во мраке. Мародеры обыскивают поле битвы.
[Экскалибур] › Калибурн и озеро. Вверх по реке плывет темный корабль. Артура переносят на него.
У Ланселота нет известий. В пасмурный день [??дождя] он выходит в море с Лионелем и прибывает в Ромериль, где воронье все еще кружит над Ромерилем. Он едет верхом по пустынным дорогам; королева выезжает из Уэльса ему навстречу. Но он только спрашивает, где Артур. Она не знает.
Он отворачивается от нее и скачет все прямо на запад. Отшельник на взморье рассказывает ему об отбытии Артура. Ланселот раздобывает челн, плывет на запад и уже не возвращается. – Фрагмент об Эаренделе.
Гвиневера, наблюдая издалека, видит, как его серебряное знамя исчезает под луной. Так она оказалась во власти безутешного горя. Она бежала в Уэльс от людей востока, но, хотя горе было ее уделом, не говорится, что она больше печалилась о других, нежели о себе. Но так завершилась слава Артура и доблесть древнего мира, и над землей Британии надолго нависла тьма.
В других наспех набросанных карандашных заметках о Ланселоте и Гвиневере рассказывается чуть подробнее.
Ланселот, заслышав про Камлан, явился слишком поздно; он встречает Гвиневеру, но он любит своего короля, и вся его любовь отдана ему. Его любовь к Гвиневере больше не имела власти. В [?? муке] они простились холодно и без сокрушения. [?? Она одна.]
Ланселот расстается с Гвиневерой и плывет в Бенвик, но поворачивает на запад и следует за Артуром. И более не возвращается к берегу. Нашел ли он его на Авалоне и вернется ли, никто не знает.
- В сером сумраке состарилась Гвиневера
- все утратила та, что всего алкала.
- …злато … предана земле
- без пользы людям как было и прежде.
В этих бумагах на отдельном листке содержится семнадцать машинописных аллитерационных строк; из этого факта, равно как и из упоминания об Авалоне, в строке 15 явствует, что это и есть «фрагмент об Эаренделе», упомянутый во втором кратком плане выше.
- Подымается месяц в морских туманах,
- на морозе мерцая, мириады звездные,
- что тускнели и таяли во тьме на востоке,
- померкнув, погасли; пена на взморье
- мерцала маревом над мокрой галькой,
- и грохоту волн внимала во мраке
- стража на стенах.
- О! светозарная ночь:
- лучась луною, в переливах жемчужных,
- паруса парчовые; пестря самоцветами,
- на синем стяге серебристые звезды
- белизной блещут. Так бриг был отправлен
- в моря сумеречные под сенью ночи!
- Эарендель стремится в славное плаванье
- за мили морские, к магическим островам,
- мимо холмов Авалона и хором лунных,
- драконьих врат и дремучих гор
- в Гавани Фаэри у границ мира.
Первые семь строк были наспех отредактированы отцом, главным образом ради улучшения метрики:
- Месяц канул в мглистые гроты,
- морозно мерцая мириады звездные,
- тускнея, таяли во тьме на востоке;
- померкнув, погасли; пена на взморье
- мерцала маревом на мокрой гальке
- то громче, то глуше грохотали волны
- под стенами каменными.
На другой странице карандашом записан стихотворный текст на начальной стадии создания, с вычеркиваниями и заменами, крайне неразборчивый, но представляющий чрезвычайный интерес в связи с только что приведенным «фрагментом об Эаренделе».
- Могила Гавейна – под густой травою,
- в земле заката, у звучного моря.
- Где могила Гвиневры Густая тень
- ее злато в [?земле] [(вычеркнуто:) засияло подобно]
- ее злато в безмолвии незримо сияет.
- Ни в Бенвике, ни в Британии не бывало кургана
- Для Ланселота и любимой его.
- Нет [(вычеркнуто:) могилы у Артура]
- Нет кургана Артуру в краю смертных
- под луною и солнцем… кто в…
- за милями моря и магическими островами
- за чертогами ночи у небесных границ
- [(вычеркнуто:)] драконьи врата и дремучие горы
- Гавани Авалона у границ мира.
- на краю света на Авалоне [спит›] ждет.
- Покуда мир…
- пока мир [??не пробудится]
Глагол в предпоследней строке – не waiteth [ждет] и, по-видимому, не watcheth [наблюдает]. Под стихотворным текстом приписано: «Могила».
Среди скудных и непонятных заметок, приведенных мною выше, содержится так мало сведений, имеющих отношение к уходу Артура после того, как он был смертельно ранен в битве при Камлане, что в попытке их истолковать поневоле приходится обращаться к другим текстам.
Об уходе Артура говорится только в нижеследующих нескольких фразах (см. выше): «Артур умирает во мраке. Мародеры обыскивают поле битвы. Калибурн и озеро. Вверх по реке плывет темный корабль. Артура переносят на него». После мы читаем, что Ланселот поплыл на запад вслед за Артуром, но так и не вернулся, и «Нашел ли он его на Авалоне и вернется ли, никто не знает».
Выше я приводил рассказ Мэлори об уходе Артура. Здесь Мэлори довольно близко следовал строфической «Смерти Артура», а не французской «Mort Artu» (см. выше). Самая любопытная подробность в отношении отцовских записей касается места и характера ухода Артура. В «Смерти Артура» говорится, что король и его рыцари Бедивер и Лукан «всю ночь в часовне провели / на взморье»; по Мэлори – «у самого моря». В строфической «Смерти Артура» Артур велит Бедиверу бросить Экскалибур «в соленый поток»;
а когда Бедивер наконец-то исполняет приказание, он «в море бросил меч»: здесь Мэлори употребляет слово «в воду» (см. выше), но Бедивер рассказывает королю, что видел «wawes» (волны). Однако в «Mort Artu» речь идет со всей определенностью об озере, как и в пометке моего отца: «Калибурн и озеро». У Мэлори Артур уплывает на «маленькой барке», в «Смерти Артура» это «a riche shyppe with maste and ore» [ «на веслах, с мачтой, пышный челн»].
Тем самым отец намеревался, хотя намерения своего так и не осуществил, отказаться от финала аллитерационной «Смерти Артура», где о смерти короля рассказывается (см. выше), что после битвы при Камлане Артура по его желанию доставили в Гластонбери и он вступил на «the Ile of Aveloyne» [Авалон-остров], где и умер. Теперь отец в основном следовал фабуле «Mort Artu». Но в его записях «озеро» не вполне понятно; равно как и корабль, который «плывет вверх по реке».
Мне не кажется, что древние сведения о битве при Камлане проливают какой-либо свет на отцовскую концепцию. Самое раннее упоминание содержится в хронике десятого века под названием «Annales Cambriae», «Анналы Уэльса», где в записи о 537 годе говорится о Gueith Camlann (битве при Камлане), «в которой пали Артур и Медраут». Гальфрид Монмутский утверждает, что битва произошла в Корнуолле, на реке Камблан (Cambula), но других указаний не дает. На самом деле, где именно находился Камлан «Анналов Уэльса» и в самом ли деле в Корнуолле, неизвестно; но со временем этот топоним стали отождествлять с корнуольской рекой Камел[83].
Река, унесшая прочь Артура в заметке моего отца, по-видимому, восходит к Камблану Гальфрида Монмутского. Но явные несоответствия в этих записях, как мне кажется, лучше всего объясняет предположение о том, что идеи моего отца в них представлены в неоформленном виде; это обрывочные сцены, которые еще не обрели связности и единообразия: часовня на взморье, Экскалибур брошен в море – или озеро; река, по которой приплывает таинственный корабль, чтобы увезти Артура.
В любом случае самоочевидно, что отца категорически не устраивало окончание истории самого Артура в «Mort Artu», в строфической «Смерти Артура» и у Мэлори (см. выше): погребение тела близ отшельнического скита, куда его принесли в ту самую ночь, когда Артур уплыл на корабле – как рассказал отшельник Бедиверу в «Смерти Артура»:
- Abowte mydnyght were ladyes here,
- Явилось в полночь много дам —
- In world ne wyste I what they were,
- Не знаю, из какой земли, —
- This body they brought uppon a bere
- Неся покойного, и там
- And beryed it with woundys sore.
- Израненного погребли.
Но весьма любопытен рассказ Мэлори как таковой о погребении Артура у часовни в приюте отшельника близ Гластонбери:
– Сэр, – сказал ему сэр Бедивер, – что за человек погребен здесь, за которого вы молитесь так горячо?
– Любезный сын мой, – отвечал отшельник, – верно я этого не знаю, а только догадываюсь. Ибо нынешней ночью, ровно в полночь, сюда явилось много дам, и они принесли с собою мертвое тело и просили, чтобы я похоронил его здесь. И они поставили по нем сто больших свечей и пожертвовали тысячу безантов.
– Увы! – воскликнул сэр Бедивер, – тот, кто лежит погребенный в этой часовне, был прежде господином моим королем Артуром!
И более про Артура я ничего не нахожу в моих верных книгах, и про смерть его я тоже больше ничего надежного и достоверного не слышал, кроме лишь того, что на корабле, его увезшем, были три королевы ‹…›.
А больше о смерти короля Артура я не смог найти ничего, говорят лишь, что эти дамы принесли его в часовню и там его похоронили ‹…› Но, наверное, отшельник не знал, точно ли то было тело короля Артура. Для того-то сэр Бедивер, рыцарь Круглого Стола, и позаботился записать все как было на самом деле.
Не приходится сомневаться, что Мэлори весьма скептически отнесся к странному рассказу, вычитанному им в источниках.
Что до того, куда именно отбыл Артур на барке или корабле, здесь стоит вспомнить последние слова короля, обращенные к Бедиверу в повести Мэлори, процитированные выше: «Я должен поспешать в долину Авалона, дабы залечить там мою жестокую рану. И если ты никогда более обо мне не услышишь, то молись за мою душу!» Мэлори эхом повторял слова короля из «Смерти Артура», явившиеся откликом на восклицание Бедивера: «lord, whedyr are ye bowne?» [ «Куда плывешь ты, господин?»].
- I wylle wende a lytelle stownde
- Я ненадолго удалюсь
- In to the vale of Aveloune,
- Теперь в долину Авалон —
- A whyle to hele me of my wounde.
- Там я от раны исцелюсь.
Упоминание о долине Авалон в «Mort Artu» отсутствует. В «Гибели Артура» король, безусловно, отправляется на Авалон. Но Авалон – это где?
В поэме отца это со всей определенностью не Гластонбери в Сомерсете. В заметках, приведенных выше, сэр Ланселот возвращается в Британию из Бенвика, едет на запад, и «отшельник на взморье рассказывает ему об отбытии Артура». После того «Ланселот раздобывает челн, плывет на запад и уже не возвращается». Я почти уверен, что этот отшельник – хранитель часовни «на взморье» или «у самого моря» (см. выше), куда сэр Лукан и сэр Бедивер перенесли раненого короля, хотя в «Смерти Артура» и у Мэлори он не упомянут. Если так, то он видел корабль, уносящий Артура прочь от берега – в открытое море, и явно не в направлении скита близ Гластонбери для погребения, – и рассказал о том, что видел, сэру Ланселоту.
Здесь необходимо в двух словах объяснить, как именно могила Артура связана с Гластонбери. Самые ранние письменные свидетельства содержатся в сочинении валлийского историка Гиральда Камбрийского, он же Джеральд из Уэльса, созданном ближе к концу XII в. Отметив, что об останках Артура рассказывают немало фантастических историй, как то, например, что духи унесли короля в отдаленные пределы и смерти он не подвластен, хронист сообщает, что «в наши дни» тело Артура было обнаружено монахами Гластонберийского аббатства захороненным на кладбище глубоко под землей в гробу, сделанном из выдолбленного ствола дуба. С нижней стороны каменной плиты, находящейся под гробом, крепился свинцовый крест – так, что надпись на кресте была скрыта от глаз. Эта надпись, которую Гиральд видел своими глазами, гласила: здесь захоронены прославленный король Артур и Венневария «in insula Avallonia» [на острове Аваллония]. (Гиральд приводит также любопытную подробность: рядом со скелетом Артура (огромного размера) и Гвиневеры обнаружилась прекрасно сохранившаяся прядь ее золотых волос, но едва один из монахов до нее дотронулся, волосы рассыпались в пыль). Это событие датировано 1191 годом.
В том же абзаце Гиральд поясняет: то место, что сейчас именуется Glastonia, в древние времена звалось Insula Avallonia, поскольку представляло собою по сути дела остров, со всех сторон окруженный болотами. Потому Britannice (по-бриттски, т. е. на кельтском языке) его называли Inis Avallon, что означает, по словам автора, insulapomifera «остров яблок», – avalпо-бриттски «яблоко», – поскольку яблони некогда росли там в изобилии. Гиральд также добавляет, что Morganis, благородная дама, родственница короля Артура и правительница тех мест, после битвы при Кемелене (Камлане) доставила его на остров, что ныне зовется Гластония, дабы исцелить его там от ран.
Нам нет необходимости рассматривать «Гластонберийскую привязку» подробнее и задаваться трудноразрешимыми вопросами о том, что стоит за этой прелюбопытной «находкой» могилы короля Артура и соотносились ли как-либо легенды об Артуре с Гластонбери до 1191 года. Однако становится понятно, как так вышло, что автор аллитерационной «Смерти Артура» утверждает (см. выше), будто Артура переправили в «Glasschenberye» [Гластонбери] и одновременно он «entered the Ile of Aveloyne» [вступил на Авалон-остров] и почему в строфической «Смерти Артура» и у Мэлори король, уже будучи перенесен на корабль, говорит Бедиверу, что отправляется в долину Авалон, дабы исцелиться там от ран (см. выше).
Однако в «Гибели Артура» отец, заново перерабатывая легенду, Гластонбери вообще не рассматривает. Для него Авалон, вне всякого сомнения, остров на далеком Западе; но что до его природы, из заметок, приложенных к поэме, мы ничего не узнаем. В самой поэме содержится единственная интригующая ссылка на Авалон (I. 204). А именно, в речи Гавейна, когда тот напоминает королю о его бессчетной военной силе – рыцарских ратях «от сводов Леса / до острова Авалон»: это, по всей видимости, означает, что Авалон стал частью Артуровых владений в западных морях, – разве что это просто пышная риторическая фигура, дающая представление о масштабах Артуровой мощи на Востоке и Западе.
Об уходе Артура Гальфрид Монмутский в своей «Истории королей Британии», как уже отмечалось выше, сообщает только то, что для лечения ран Артур был переправлен на остров Авалон (in insulam Avallonis). Но в другом, более позднем своем произведении «Жизнь Мерлина» – поэме, написанной латинскими гекзаметрами, автор рассказывает об Авалоне и о прибытии туда короля Артура словами валлийского барда Талиесина. В этой поэме остров назван (с использованием той же этимологии, aval «яблоко», как у Гиральда) «Insula pomorum que fortuna vocatur», «Остров Яблок, который зовется также Счастливым Островом»[84]: поскольку в этой благословенной земле все родится само собою, земледельцам там нет нужды пахать землю, а зерно и виноград созревают безо всякого ухода. «Туда после битвы при Камлане (post bellum Camblani) мы отвезли раненого Артура, и там были с почетом приняты Морген: она уложила короля на золоченое ложе в своем собственном покое, долго осматривала рану и наконец сказала, что Артуру возможно вернуть здоровье, если он надолго останется с нею и доверится ее целительству. Возрадовавшись, мы поручили Артура ее заботам и поплыли назад, развернув паруса навстречу попутным ветрам»[85].
В литературе самые первые сведения об отплытии Артура на корабле обнаруживаются в «Бруте» Лайамона: о нем см. выше. Согласно Лайамону, местом великой битвы послужил Камелфорд; а войска сошлись «на Тамбре», на реке Теймар, которая протекает достаточно далеко от Камелфорда. Ниже я цитирую фрагмент из поэмы Лайамона: слова короля Артура, когда он, смертельно раненный, лежит на земле, и уже приближается корабль, который увезет его прочь[86]. Как можно видеть, размер поэмы восходит к древнейшей метрике, представленной в «Беовульфе» (и, между прочим, в «Гибели Артура»), но строки более долгие, а краткие строки здесь связываются посредством скорее рифмы или ассонанса, чем аллитерации; в то время как лексика практически вся древнеанглийская.
- «And ich wulle varen to Avalun to vairest alre maidene,
- „На Авалон путь пролег мой, к прелестной владычице,
- to Argante þere quene, alven swiðe sceone,
- к Арганте-королеве[87], к прекрасной эльфийской деве,
- and heo seal mine wunden makien alle isunde,
- она непременно исцелит мои раны,
- al hal me makien mid haleweзe drenehen.
- возвратит мне здравие целебным снадобьем.
- And seoðe ieh cumen wulle to mine kineriehen
- Я возвращусь с ходом времени в свои владения
- and wunien mid Brutten mid muehelere wunne.“
- и заживу среди бриттов в радости превеликой».
- Æfne þan worden þer com of se wenden
- Чуть слова прозвучали, как в морской дали
- þat wes an sceort bat liðen sceoven mid uðen,
- возник невеликий челн, влекомый волею волн,
- and twa wimmen þer inne wunderliehe idihte,
- а на нем две дамы в убранстве роскошном самом.
- and heo nommen Arður anan, and aneouste hine vereden,
- И подняли они Артура, и унесли его споро,
- and softe hine adun leiden and forð gunnen hine liðen
- и уложили бережно, и отплыли от берега.
- …
- Bruttes ileveð зete þat he bon on live,
- И верит бриттское племя, что он жив и по сие время —
- and wunnien in Avalun mid fairest alre alven,
- На Авалоне проводит годы с прекраснейшей из эльфийского рода,
- and lokieð evere Bruttes зete whan Arður eumen liðe.
- И ждут бритты не дождутся, когда Артур возвратится.
Этот фрагмент присутствует только у Лайамона: в «Бруте» Васа ему соответствия нет.
В «Гибели Артура» следует рассмотреть еще один аспект «Авалона»: непростой вопрос о том, как соотносятся «остров яблок», или «Счастливый остров», Авалон, куда увезли короля Артура, вкратце описанный Гальфридом Монмутским в «Жизни Мерлина» (см. выше), и Авалон как часть вымышленного мира моего отца.
Прошло немало времени, прежде чем это название возникло применительно к Тол Эрессеа, Одинокому острову, находящемуся в самой отдаленной части Белегаэра, Великого моря Запада. Нет необходимости здесь вдаваться в подробности о том, как причудливо менялось отцовское представление об Одиноком острове в первые годы работы над «Сильмариллионом». С другой стороны, небезынтересно попытаться понять ход отцовских мыслей на эту тему во время работы над «Гибелью Артура».
Единственная точная дата, которая могла бы нам в этом помочь, – это 9 декабря 1934 года, когда Р. У. Чемберс написал отцу хвалебное письмо об «Артуре», на тот момент еще в работе (см. выше); но дата, безусловно, не подскажет нам, как скоро после этого отец забросил поэму.
Много времени спустя, в письме от 16 июля 1964 года, отец рассказал, как он и К. С. Льюис договорились (сейчас уже невозможно определить, когда именно), что каждый напишет по истории: Льюису досталось сочинять про космическое путешествие, а отцу – про путешествие во времени. Льюис закончил «За пределы Безмолвной планеты» к осени 1937 года, а отцовский «Утраченный путь», еще очень далекий от завершения, был отправлен в судьбоносной посылке вместе с другими рукописями в издательство «Аллен энд Анвин» в ноябре того же года. В сентябре увидел свет «Хоббит»; 19 декабря 1937 года отец упоминает в письме: «Я написал первую главу новой истории про хоббитов».
Много лет спустя, в письме от 1964 года, он изложил свои планы касательно «Утраченного пути».
Я начал несостоявшуюся книгу о путешествии сквозь время, в финале которой моему герою предстояло присутствовать при затоплении Атлантиды. Она должна была называться Нуменор, Земля Запада. А связующая нить предполагалась вот какая: время от времени в семьях людей появляются (как Дурин среди гномов) отец и сын, чьи имена можно перевести как «Друг счастья» и «Друг эльфов». ‹…› История начиналась с отцовско-сыновней близости между Эдвином и Элвином настоящего; и, как предполагалось, уходила в легендарное прошлое через Эадвине и Эльфвине приблизительно 918 A.D., и Аудоина и Албоина лангобардской легенды, и так – в предания Северного моря о прибытии зерна и культурных героев, предков королевских родов, на ладьях (и их уходе на погребальных кораблях). ‹…› В моем произведении нам предстояло прийти наконец к Амандилю и Элендилю, вождям партии верных в Нуменоре, когда остров подпал под власть Саурона.
Сохранился отцовский исходный «план» для завершающей легенды, набросанный отцом наспех (он опубликован в книге «„Утраченный путь“ и другие работы», 1987 (см. выше).
«Этот примечательный текст, – как писал я в этом издании, – знаменует собою начало легенды о Нуменоре и продолжение „Сильмариллиона“ во Вторую Эпоху Мира. Здесь впервые была сформулирована концепция Мира, Ставшего Круглым, и Прямого Пути…». Существуют также две близкие по времени версии (там же и далее) краткого повествования, предшествующего тексту «Акаллабет» (опубликован в составе «Сильмариллиона»). Ко второму варианту (и только к нему) отец позже карандашом добавил в рукописи название: «Последнее сказание: Падение Нуменора».
Подробно изучив эти тексты, я пришел к выводу, что «Падение Нуменора» и фрагменты «Утраченного пути» «тесно связаны между собой; они возникли в одно и то же время, под влиянием одного и того же стимула, и мой отец работал над ними обоими сразу» (там же). Потому я заключил, что «„Нуменор“ (как самостоятельная сформированная концепция, какие бы уж „призраки Атлантиды“, пользуясь выражением отца, за нею ни стояли) возник непосредственно в контексте отцовских дискуссий с К. С. Льюисом в (по-видимому) 1936 г.».
В первом из двух текстов «Падения Нуменора» содержится нижеследующий отрывок:
[когда] ‹…› Моргота вновь исторгли во Внешнюю Тьму, Боги сошлись на совет. ‹…› Эльфов призвали в Валинор, и многие повиновались, но не все.
Но во второй версии отрывок был изменен:
Когда же Моргот исторгнут был прочь, Боги сошлись на совет. Эльфов призвали вернуться на Запад, и те, что повиновались, вновь поселились на Эрессеа, Одиноком острове, которому дали новое имя – Аваллон, ибо он совсем рядом с Валинором.
Это один из первых случаев употребления названия Аваллон применительно к Эрессеа. В обрывочном изложении нуменорской истории для «Утраченного пути» (а это все, что отец из нее записал) Элендиль рассказывает своему сыну Херендилю:
И призвали они [Валар] Изгнанников-Перворожденных, и помиловали их; и те, что вернулись, поныне живут в блаженстве на Эрессеа, Одиноком острове, что зовется Аваллон, ибо с него видны берега Валинора и свет Благословенного Королевства[88].
Предположительно, к тому же времени относится статья «Этимологий» (это чрезвычайно запутанный рабочий текст того же периода, опубликованный в книге «„Утраченный путь“ и другие работы»), посвященная основе LONO– (стр. 370):
lóna: остров, отдаленная труднодостижимая земля. Ср. Avalóna = Тол Эрессеа = внешний остров. [Возможно, добавлено позже: A-val-lon.][89]
В еще одной статье, имеющей отношение к данному названию, которая посвящена основе AWA-, в частности, говорится:
прочь, вперед; вовне. Кв [енья] ava вне, за пределами. Avakúma Внешняя Пустота за пределами Мира. [Сюда добавлено: Avalóna, ср. lóna].
Эти этимологии не согласуются с истолкованием названия (как «совсем рядом с Валинором») во второй версии «Падения Нуменора».
В это же время, когда отец обдумывал последовательность эпизодов в составе «Утраченного пути» – этим повестям суждено было остаться лишь в виде фрагментов, – он наспех набросал заметку касательно возможной истории «о человеке, который вступил на Прямой Путь». Таким человеком предстояло стать Эльфвине, англичанину X века, о котором мой отец много писал прежде: этот мореход добрался до Одинокого острова и там узнал от эльфов легенды, вошедшие в «Книгу утраченных сказаний». Ниже я привожу отцовскую заметку:
Но это лучше всего подойдет в качестве введения к «Утраченным сказаниям»: как Эльфвине проплыл по Прямому Пути. Они все плыли, и плыли, и плыли по морю; и море сделалось очень ясным и очень спокойным – ни облаков, ни ветра. Вода за бортом казалась разреженной и совсем светлой. Глядя вниз, Эльфвине внезапно увидел внизу, в воде, сияющей на солнце, земли и горы [или гору]. У них затруднено дыхание. Его спутники один за другим бросаются за борт. Эльфвине теряет сознание, чувствуя чудный аромат, словно бы земли и цветов. Придя в себя, он обнаруживает, что корабль тащат мужи, идущие вброд по воде. Ему рассказывают, что за тысячу лет среди людей находятся очень немногие, способные дышать воздухом Эрессеа (то есть Аваллона), а дальше никто этого не может. Так он попадает на Эрессеа, и ему рассказывают «Утраченные сказания».
Любопытно сравнить этот отрывок с заключительным фрагментом «Сильмариллиона» в версии под названием «Квента Сильмариллион»: именно такую форму «Сильмариллион» обрел к тому моменту, как отец отложил его на годы работы над «Властелином Колец» («Утраченный путь», стр. 333–335). Здесь название Аваллон уже употребляется применительно к Тол Эрессеа, но концепция Прямого Пути еще не возникла.
Здесь заканчивается «Сильмариллион»: а вошли в него пересказанные в немногих словах песни и легенды, что по сей день поют и рассказывают истаивающие эльфы и (более внятно и полно) исчезнувшие эльфы, те, что живут ныне на Одиноком острове, Тол Эрессеа, куда попадали немногие мореходы из числа людей, вот разве что раз или два за долгую эпоху, когда кто-либо из рода Эаренделя уплывал за пределы земель, открытых смертному взору, и видел мерцание светильников на набережных Аваллона, и вдыхал издалека аромат неувядающих цветов на лугах Дорвиниона. Одним из таких был Эриол, которого люди звали Эльфвине; он единственный возвратился и привез вести о Кортирионе [граде эльфов на Эрессеа] в Ближние земли.
Нам нет необходимости углубляться в тему Аваллона и разбираться в запутанных подробностях более поздних разработок: о них исчерпывающе рассказано в книге «Саурон Поверженный» (1992). В своем кратком обзоре я лишь попытался представить, что это название значило для моего отца в контексте «Сильмариллиона» на тот момент, когда он работал над «Гибелью Артура», причем очень скоро ему, по всей видимости, предстояло прерваться.
Мне кажется, что необходим значительный период времени для того, чтобы существующий миф претерпел столь грандиозные изменения, вызванные возникновением концепции Нуменора и его затопления, стихийного преобразования земли и загадочного «Прямого Пути», уводящего к исчезнувшему «прошлому», доступ к которому для смертных закрыт. Потому, на мой взгляд, по меньшей мере очень вероятно, что подобное развитие сюжета «Сильмариллиона» вкупе с новым проектом – «Утраченным путем» – и тяжкие сомнения и трудности, с которыми столкнулся отец, сами по себе служат достаточным объяснением того, почему он забросил «Гибель Артура».
Из этого, казалось бы, следует, что поэма была оставлена на удивление поздно; и на самом деле существует прелюбопытное и озадачивающее доказательство, по всей видимости, это предположение подтверждающее. Это отдельная страница с черновыми записями: список последовательных «элементов» повествования, причем все они упомянуты не только здесь. Последняя часть списка гласит:
- Битва при Камлане Артур убивает Мордреда
- и ранен
- Авг 1937 – Увезен на Авалон
- Ланселот является слишком поздно
- [?воссоединяется с] королевой
- Отправляется на корабле на Запад,
- и больше о нем не слыхали
Спустя какое-то время после создания этого списка отец нарисовал скобку, отделяющую «Увезет на Авалон» от предшествующих пунктов, и напротив этой скобки (то есть на одном уровне с «Увезен на Авалон») приписал: «Авг 1937».
По-видимому, естественно предположить, что на тот момент отец дошел (в стихах, пусть и в неотредактированном виде) до пункта «Артур убивает Мордреда и ранен», но не дальше. Безусловно, проблема в том, что к битве при Камлане отец еще даже не подступился: поэма заканчивается на финале сражения под Ромерилем, и из рукописи не явствует, что стихотворный вариант хоть сколько-то продвинулся дальше. Объяснения у меня нет. Но это, по крайней мере, зримое свидетельство того, что в августе 1937 года отец все еще активно занимался «Гибелью Артура» – пусть и на удивление поздно.
Но если так, возможно ли тем самым пролить свет на вопрос, почему отец примерно в это время утверждал, что название Тол Эрессеа, которое к тому моменту использовалось уже около двадцати лет, было изменено на Аваллон – в силу непонятной причины? Невозможно поверить, что этот факт никак не связан с артуровским Аваллоном; но приходится признать, что аналогия с уходом Артура стала еще менее явной.
В письме от сентября 1954 года, после публикации «Братства Кольца», отец написал замечательно краткое и ясное резюме касательно Эрессеа:
…До Низвержения за морем и за пределами западного побережья Средиземья находился земной эльфийский рай Эрессеа и Валинор, земля Валар (Властей, Владык Запада), места, до которых возможно было добраться физически, на самых обычных парусных кораблях, пусть даже Моря заключали в себе немало опасностей. Но после того, как нуменорцы, Короли Людей, жившие на острове, расположенном далее всего к западу из всех смертных земель, взбунтовались и в итоге, обуянные непомерной гордыней, попытались захватить Эрессеа и Валинор силой, Нуменор был уничтожен, а Эрессеа и Валинор изъяты с Земли за физически достижимые пределы; путь на запад был открыт, но вел лишь обратно в исходную точку – для смертных.
Мне кажется, что сказать тут можно одно: Счастливый остров, Авалон Феи Морганы и Аваллон как Тол Эрессеа родственны только в том, что оба представляют собою «земной рай» далеко в западном океане.
Тем не менее есть убедительный повод, более того – веские основания, считать, что отец нарочно установил эту связь, пусть мотивация его и не вполне понятна.
В одном из набросков моего отца, касающихся продолжения «Гибели Артура», говорится о том, как Ланселот раздобыл челн и отплыл на запад, но так и не вернулся. Этот фрагмент особенно интересен в данном контексте благодаря словам, что следуют за примечанием «Фрагмент об Эаренделе» и завершают его (см. выше). Эти аллитерационные строки, прилагающиеся к наброскам продолжения поэмы, приводились выше.
В этом коротком стихотворении «бриг был отправлен / в моря сумеречные», и Эарендель плывет к «магическим островам ‹…› мимо холмов Авалона ‹…› драконьих врат и дремучих гор / в Гавани Фаэри у границ мира». В этих строках отец намеренно вводил элементы мифической географии Первой Эпохи Мира, изначально описанной в «Книге утраченных сказаний»; а география эта по большей части вошла в гораздо более поздние тексты «Сильмариллиона».
В повести «Сокрытие Валинора» в первой части «Книги утраченных сказаний» рассказывается, что во времена укрепления Валинора в океане было создано огромное кольцо Магических островов для защиты Залива Фаэри. К тому времени, как был написан, полностью или почти полностью, вариант «Сильмариллиона» под названием «Квента», утверждалось следующее («Устроение Средиземья», 1986 (стр. 98):
В тот день, что в песнях назван Сокрытием Валинора, были созданы Волшебные острова, средоточие чар, и протянулись они через пределы Тенистых морей перед Одиноким островом, на пути у кораблей, идущих на Запад, дабы уловить в ловушку мореходов и сковать их вечным сном.
Примечательно, что выражение «Гавань Фаэри у границ мира» из последней строки «фрагмента об Эаренделе» часто повторяется в ранних текстах. Такова четвертая строка во втором варианте аллитерационной поэмы «Дети Хурина», написанного в 1925 году или до него («Лэ Белерианда», 1985 (стр. 95):
- О Боги, брега свои бастионами заградившие, —
- Столпами недвижными, скалами неприступными,
- Что над взморьем сокрытым взнеслись отвесно
- В Гавани Фаэри, у границ Мира!
В «Квенте» все эти названия появляются вместе в истории об Эаренделе («Устроение Средиземья (стр. 150). По пути в Валинор Эарендель с Сильмарилем и Эльвинг на корабле „Вингелот“:
…добрались до Волшебных островов, но не подпали под власть волшебства; и вступили они в Тенистые моря, и пробились сквозь тени; и открылся их взорам Одинокий остров, но не задержались они там; и вот, наконец, бросили они якорь в Заливе Фаэри у границ мира[90].
Примечательны слова „драконьи врата“ в предпоследней строке „фрагмента об Эаренделе“. В повести „Сокрытие Валинора“ („Книга утраченных сказаний“ I, стр. 215–216) рассказывается о том, как Боги „отважились на могучее деяние, величайшее из всех трудов их“:
Подошли они к Стене Сущего и возвели там Дверь Ночи. Там стоит она и по сей день, непроглядно-черной громадой на фоне темно-синих стен. Столпы ее из крепчайшего базальта, равно как и притолока, и вырезаны на них из черного камня громадные драконы, а из пастей их неспешно клубится призрачный дым. Врата эти несокрушимы, никому не ведомо, как они были сделаны и установлены, ибо не допустили эльдар на ужасное то строительство, и это – последняя тайна Богов.
(Выражения „драконоглавая дверь“ и „драконоглавые двери Ночи“ встречаются в ранних стихотворениях: „Книга утраченных сказаний“ II, стр. 272, 274.)
В этой самой ранней форме астрономического мифа „галеон Солнца“ проходит через Дверь Ночи, „уплывает в беспредельную тьму и, обогнув мир, вновь оказывается на Востоке“, возвращаясь через „Врата Утра“. Но эта концепция на ранней стадии была заменена новой формой мифа, согласно которой Солнце вступает во Внешнюю Тьму не через Дверь Ночи, а проплывает под Землей. Дверь Ночи осталась, но изменились ее назначение и время создания. В небольшой работе под названием „Амбарканта“, то есть „Очертания мира“, написанной в 1930 году или чуть позже, о новой сути Двери Ночи рассказано в нижеследующих фрагментах („Устроение Средиземья“, стр. 235, 237–238):
Мир окружают Стены Мира, или Илурамбар. Они подобны льду, стеклу и стали – холодны, прозрачны и тверды превыше всего, что в силах вообразить Дети Земли. Стены незримы; но пройти через них невозможно, кроме как через Дверь Ночи.
В пределах этих стен заключена сфера Земли; снизу, сверху и со всех сторон ее окружает Вайя, Всеохватный океан.
…посреди Валинора находится Андо Ломен, Дверь Вневременной Ночи, что проделана в Стенах и открывается в Пустоту. Ибо Мир пребывает посреди Кумы, Пустоты Ночи, лишенной времени и облика. Но никому не под силу перебраться через бездну и пояс Вайи и достичь этой Двери, кроме одних лишь великих валар. Они же проделали эту Дверь, когда Мелько был побежден и извергнут во Внешнюю Тьму; и охраняет ее Эарендель[91].
Я, безусловно, привел здесь все эти цитаты, отобранные из необъятного корпуса текстов, не ради их собственной значимости, но для того, чтобы подкрепить мысль о том, как целенаправленно и масштабно отец воскрешает кардинальный миф своего собственного „мира“, великое плавание Эаренделя в Валинор, применительно к Ланселоту артуровских легенд – которому теперь приписывает великое путешествие через западный океан[92].
Следует отметить, что в строках „фрагмента об Эаренделе“ (см. выше) единственное название, не заимствованное из повестей „Сильмариллиона“, – это „холмы Авалона“. При сравнении с описанием плавания Эаренделя и Эльвинг в цитате из „Квенты“, приведенной выше, где после того, как они миновали Тенистые моря и Волшебные острова, „открылся их взорам Одинокий остров, но не задержались они там“, кажется по меньшей мере вполне вероятным, что здесь „Авалон“ означает Тол Эрессеа, как в текстах 1930-х годов, процитированных выше. Если это так, то там, где отец в контексте „Сильмариллиона“ писал, что Тол Эрессеа был переименован в Аваллон, он употреблял название Авалон для обозначения Тол Эрессеа в артуровском контексте.
Можно предположить, что „стихи об Эаренделе“ являются не более чем масштабной параллелью между двумя великими плаваниями на запад. Но второе стихотворение, на начальной стадии создания и с трудом поддающееся прочтению (и в двух местах, к вящему сожалению, неразборчивое), обнаруженное среди этих бумаг[93] и приведенное выше, содержит куда более примечательные ассоциации.
Это стихотворение открывается размышлениями о том, что, в то время как могила Гавейна находится „в земле заката, у звучного моря“, нет погребальных курганов ни у Ланселота, ни у Гвиневеры, и „нет кургана Артуру в краю смертных“; в последующих стихах тоже идет речь об Артуре, но они очень близки или почти совпадают с заключительными строками „стихов об Эаренделе“. Не вполне понятно, какое из этих двух стихотворений – назовем их удобства ради „Плавание Эаренделя“ и „Могила Артура“ – предшествует другому. Может показаться, что машинописный текст „Плавания Эаренделя“ выглядит куда более законченным и потому создан позже; но тот факт, что названия, тесно связанные с легендой об Эаренделе, в этом стихотворении соотнесены именно с Эаренделем, а в „Могиле Артура“ – с королем Артуром, представляются мне убедительным аргументом в пользу того, что „Могила Артура“ написана после „Плавания Эаренделя“.
В конце „Могилы Артура“ говорится, что Артур „ждет“ (изначально было „спит“) на Авалоне, а Гавань Фаэри превратилась в Гавань Авалона. На первый взгляд пребывание Артура вживую „на Авалоне“ наводит на мысль, что название употреблено тут в традиционном „артуровском“ смысле, для обозначения острова, куда Артур был перевезен для исцеления Феей Морганой; однако появление его в контексте топонимов „Сильмариллиона“, по-видимому, также подразумевает, что это – Тол Эрессеа.
То же можно сказать об изменении названия „Залив Эльфийского дома“ (или Фаэри, или Эльдамара) на Залив Авалона[94]. Название „Авалон“, теперь употребленное по отношению к Тол Эрессеа, здесь перенесено с самого острова на побережье обширного залива, в котором укреплен в основании морского дна Тол Эрессеа[95].
Тем самым, по-видимому, артуровский Авалон, Счастливый остров, Insula Pomorum, владения Феи Морганы, в некоем загадочном смысле теперь был отождествлен с Тол Эрессеа, Одиноким островом. Но название „Аваллон“ вошло в употребление как одно из имен Тол Эрессеа одновременно с тем, как возникла идея Падения Нуменора и Изменения Мира (см. выше), вместе с концепцией Прямого Пути, по-прежнему уводящего из Круглого Мира к Тол Эрессеа и Валинору: дороги, не доступной для смертных, которую тем не менее непостижимым образом отыскал Эльфвине из Англии.
Как именно мой отец представлял себе такое сочетание, я ответить не в состоянии. Возможно, из-за отсутствия более точной датировки я вынужденно объединил – как совпадающие по времени – идеи, никак не связанные между собою, которые возникали и отбрасывались в пору бурного творческого подъема. Но я повторю здесь то, что уже говорил в книге „Утраченный путь“ и другие работы» (стр. 98) о намерениях моего отца касательно его книги о «путешествии во времени»:
В это время, с появлением в концепции «Средиземья» ключевых идей Низвержения Нуменора, Мира, ставшего Круглым, и Прямого Пути, и замысла истории о «путешествии во времени», в котором весьма значимая фигура англосакса Эльфвине должна была «перенестись» как в будущее, в двадцатый век, так и в многослойное прошлое, отец намечал обширное и недвусмысленное сопряжение своих собственных легенд с легендами многих иных земель и времен – все это было связано с преданиями и мечтами народов, живших по берегам великого Западного моря.
В завершение остается рассмотреть отцовские заметки, касающиеся истории Ланселота и Гвиневеры (см. выше). Мы узнаем, что Ланселот, с запозданием возвратившись из Франции, поскакал на запад от Ромериля «по пустынным дорогам» и что он повстречал Гвиневеру, «выехавшую из Уэльса». Повествование уже было задумано как радикальный отход от строфической «Смерти Артура», которой близко следовал Мэлори (его рассказ я кратко суммирую на выше). Из отцовских заметок, пусть и очень кратких, вне сомнения следует, что его Гвиневера в последующие годы знать ничего не знала о монастыре, равно как и об унылых «постах, молитвах и делах благотворительных», и уж конечно, не стала бы обращаться к Ланселоту в таких словах:
- «…But I beseche the, in alle thynge,
- „Будь счастлив – но в делах во всех
- That newyr in thy lyffe after thysse
- Впредь и до самого конца,
- Ne come to me for no sokerynge,
- Не у меня ищи утех,
- Nor send me sond, but dwelle in blysse:
- Ко мне с письмом не шли гонца.
- I pray to Gode euyr lastynge
- Помочь мне искупить мой грех
- To graunt me grace to mend my mysse“[96].
- Молю я Господа-Творца».
А его Ланселот тем более не стал бы отвечать теми словами, что приведены у Мэлори:
«Как, возлюбленная госпожа моя, – сказал сэр Ланселот, – неужели вы желаете, чтобы я вернулся в мою страну и там женился? Нет, госпожа, знайте, этого я никогда не сделаю, ибо я никогда не нарушу данной вам клятвы. Но доля, к которой я вас привел, станет и моей долей. Я заслужу милость божию и в особенности буду молиться за вас».
В изложении моего отца встреча Ланселота и Гвиневеры, приехавшей из Уэльса, была совершенно иной. Ее предвосхищают строки третьей песни:
- Чуждым ей мнился он,
- как от порчи пагубной переменившись
- Чужой она мнилась,
- переменившись. Над пучиной стоял он
- изваянием каменным, изверясь в надежде.
- Простились в муке.
В строфической «Смерти Артура» последняя встреча и расставание в монастыре исполнены глубокой скорби:
- But none erthely man covde telle
- Но никому не описать,
- The sorow that there by-gan to bene.
- Какое их постигло горе.
В повести Мэлори «они стонали жалобно, словно пронзенные копьем» (см. выше); однако решение их было твердым и окончательным. В заметках к «Гибели Артура» (см. выше) их последняя встреча отмечена ощущением опустошенности и уныния. В первом из набросков Ланселот спрашивает у Гвиневеры только одно: «Где Артур?» И, хотя, конечно же, настрой здесь совершенно другой, есть в этой сцене нечто от мучительной проникновенности того вопроса о Турине, с которым умирающая Морвен обращает к Хурину: «Если ты знаешь, расскажи мне! Как удалось ей отыскать его?» Хурин ничего не сказал; и Гвиневере тоже ответить было нечего. Ланселот «отворачивается от нее».
В другом наброске, касающемся их последней встречи, говорится, что в сердце Ланселота не осталось иной любви, кроме как к Артуру; Гвиневера утратила над ним всякую власть. Повторяются слова третьей песни: «Простились в муке», но теперь добавлено: «холодно и без сокрушения». Этот Ланселот отнюдь не собирается провести свои последние годы в постах и покаянии и доживать жизнь в воздержании столь суровом, чтобы он «вовсе отощал и обессилел». Он отправился к морскому берегу и узнал от живущего там отшельника, что Артур уплыл на запад за океан. Ланселот поднял парус, последовал за Артуром, и более о нем никогда не слышали. «Нашел ли он его на Авалоне и вернется ли, никто не знает».
Будущее Ланселота описывается поэтом в заключительных строках третьей песни. Хотя на душе у рыцаря стало легче и он преисполнился новой надежды в Бенвике, после того как миновала гроза, «часа не знал он»:
- Стеченье судеб сменилось отныне,
- Прилив отхлынул потоком быстрым,
- Смерть стояла пред ним, и сочлись дни его
- Вне вех времени; не вернется он снова
- В страны смертных, пока стоит мир.
Можно предположить, что отец воспринимал свою версию ухода сэра Ланселота как своего рода реконструкцию повести о Туоре, отце Эаренделя (Туор был сыном Хуора и братом Хурина; он женился на Идриль Келебриндал, дочери Тургона, короля Гондолина). В «Квенте» 1930 года о нем рассказывается так:
В ту пору ощутил Туор, что подкрадывается к нему старость, и не мог уже отрешиться от тоски по морю, что владела им; потому выстроил он могучий корабль, «Эарамэ», «Орлиное Крыло», и вместе с Идрилью отплыл на Запад, держа курс на заходящее солнце, и более не говорится о нем в преданиях ни слова.
Впоследствии Эарендель построил «Вингелот» и отправился на нем в великое плавание, преследуя двойную цель: отыскать Идриль и Туора, которые так и не вернулись, и «мнил, что, возможно, удастся ему достичь последнего брега и, прежде чем истечет отмеренный ему срок, доставить Богам и эльфам Запада послание». Но Эарендель не нашел Туора с Идрилью и в том первом путешествии на запад не добрался до берегов Валинора.
В последний раз мы видим Гвиневеру, когда она издалека провожает взглядом паруса Ланселотова отплывающего корабля: она «видит, как его серебряное знамя исчезает под луной». Упоминается о том, что она бежит в Уэльс, спасаясь от «людей востока». Судя по
нескольким набросанным карандашом фразам, отныне в ее жизни, по-видимому, не осталось ничего, кроме горестного одиночества и жалости к себе; «но хотя горе было ее уделом, не говорится, что она больше печалилась о других, нежели о себе». Две стихотворных строки (см. выше), набросанные отцом, носят характер эпитафии:
- В сером сумраке состарилась Гвиневера,
- Все утратила та, что всего алкала.
Эволюция поэмы
«Древнеисландские» поэмы моего отца, «Песнь о Вельсунгах» и «Песнь о Гудрун» отличает примечательная черта: от всей работы, предшествовавшей законченному тексту, осталось лишь несколько страниц, и, помимо них, «никаких ранних набросков не сохранилось» («Легенда о Сигурде и Гудрун» (стр. 51). Безусловно, этот материал существовал – но на какой-то стадии был утрачен. Ситуация с «Гибелью Артура» совершенно иная: «окончательной» редакции текста, опубликованной в этой книге, предшествует около 120 страниц черновиков (дошедших до нас, что неудивительно, в беспорядке). Продвижение от самых ранних наработок (зачастую не везде поддающихся прочтению) можно по большей части отследить по последующим рукописям, в которые вносилось множество исправлений. В отдельных частях поэмы противоречивые детали – это следствие параллельной проработки разных версий и перенесения целых фрагментов текста из одного контекста в другой.
Поразительно, сколько времени и размышлений мой отец затратил на это произведение. Разумеется, можно было бы привести здесь полный и подробный текстологический аппарат, включая анализ каждого изменения, возникавшего в очередной рукописи, пока мой отец неустанно оттачивал размер или подыскивал более удачное слово или оборот в рамках аллитерационной системы стихосложения с ее жесткими правилами. Но задача эта колоссальная и, на мой взгляд, несоразмерна затраченным усилиям.
С другой стороны, опустить все текстологические комментарии означало бы утаить чрезвычайно интересные и важные детали создания поэмы. Это особенно справедливо в случае песни III – ведь именно она составляет ядро произведения: наиболее проработанная, она больше прочих менялась в процессе. Я привожу довольно подробный анализ (более подробный, нежели может показаться целесообразным, и местами неизбежно неудобочитаемый) этой эволюции, как я ее себе представляю. Однако в текстологических комментариях к поэме я зачастую опускаю мелкие поправки, подсказанные соображениями метрики и стилистики.
Ниже я употребляю слово «черновик» по отношению к любой или всем вкупе страницам со стихотворным текстом, предшествующим самому позднему варианту «Гибели Артура», то есть рукописи, из которой взят текст для данной книги. Создается впечатление, что этот последний вариант был переписан целиком и отложен в сторону, так что может считаться «окончательным», однако ж впоследствии в него было внесено немало изменений и поправок, главным образом в первых двух песнях. Действительно, как правило, ни одна из рукописей моего отца не могла считаться «окончательным вариантом» до тех пор, пока благополучно не уходила из его рук. Но в данном случае несравнимо большее количество такого рода исправлений было внесено наспех, карандашом; о подобной редактуре в рукописи отцовских «древнеисландских» поэм я писал: «У меня сложилось впечатление, что отец внимательно прочитал текст много лет спустя ‹…›, походя исправляя то, что бросалось ему в глаза» («Легенда о Сигурде и Гудрун» (стр. 52). То же, возможно, справедливо и в отношении «Гибели Артура», но, безусловно, доподлинно это установить нельзя. Тот факт, что в песнях I и II исправлений заметно больше, наводит на мысль о вновь пробудившемся интересе к поэме на каком-то последующем этапе – интересе, который тут же иссяк.
Но как бы ни воспринималась эта рукопись, я неизбежно буду на нее то и дело ссылаться, так что я обозначу ее буквами ПВ, то есть Последний Вариант.
Чрезвычайно любопытный факт, касающийся создания поэмы, обнаруживается на страницах черновика, а именно: песнь I, рассказ о военном походе короля Артура на Восток, написана отнюдь не первой – напротив, она была вставлена в текст, когда автор уже достаточно далеко продвинулся в работе над «Гибелью Артура».
Сохранились две черновые рукописи песни II (в ней рассказывается об известиях, доставленных капитаном потерпевшего крушение фризского корабля, и о посещении Мордредом Гвиневеры в Камелоте), и в придачу к ним отдельная страница, содержащая начало поэмы. Все три начинаются со строк:
- Темный ветер веет над водной пучиной,
- влечет на взморье валы с юга…
Самый ранний из вариантов (я назову его IIa) озаглавлен:
Гибель АртураIКак [Мордред ›] Радбод явился с вестями, а Мордред собрал армию, чтобы помешать высадке короля.
Текст в основном совпадает с песнью II в ПВ в опубликованном виде, хотя и содержит в себе множество мелких расхождений; он доходит только до аналога строки II. 109, в данном варианте – «бакланы взморья и ветреных топей».
Второй, последующий черновой вариант, обозначенный как IIb, на первой странице озаглавлен так же, как и IIa, но содержит в себе полный текст песни, также с многочисленными расхождениями, хотя и не структурного характера.
Отдельная страница песни, о которой речь шла выше, IIc, воспроизводит текст IIb, но заголовок здесь другой:
Гибель АртураIIКак явился с вестями фризский корабль, а Мордред собрал армию и явился в Камелот к королеве.
Но цифра II в этом заголовке была позже переправлена из I.
Примечательно, что, когда к тексту добавилась песнь I, никакими новыми повествовательными элементами или отсылками та часть, что стала песней II, не дополнилась; полагаю, потому, что мой отец изначально намеревался начать поэму с Мордреда и Гвиневеры, и на тот момент не видел необходимости в каких-либо предваряющих эпизодах. Если теперь прочесть песнь II, памятуя об этом, то ясно осознаешь, насколько мало говорится об отсутствии Артура в Британии: о предшествующих событиях нет никаких упоминаний, кроме как в словах умирающего Радбода, капитана фризского корабля, к Мордреду (в черновой рукописи IIb они соответствуют строкам II. 70–77 конечной версии):
- Крадок клятый твои козни выдал,
- о дерзких делах твоих донесли Артуру,
- о замыслах знает он – и зол безмерно.
- Собирает силы он, спеша домой
- от рубежей римских ревущей бурей.
Предостерегающие слова Мордреда к Гвиневере (II. 144–147) в IIb содержатся в нижеследующей форме, с упоминанием Бенвика:
- Вовек не воротится в вотчину Артур,
- Ланселот Озерный о любви и не вспомнит,
- в Британию из Бенвика через бурное море
- не вернется к верности!
Еще одно, весьма примечательное, упоминание о Ланселоте появляется в IIb (повторено из IIa): Мордред собирает под свои знамена «лордов и эрлов ‹…› верных в вероломстве, врагов Артуровых, преданных Ланселоту»: в ПВ (последнем варианте) слово «Ланселот» [Lancelot] было переправлено на «предательство» [treason] (II. 105)[97].
В силу ряда причин для вящей наглядности (или хотя бы во избежание лишней путаницы) стоит начать анализ с песни III, «О сэре Ланселоте, пребывающем в Бенвике».
Черновые рукописи состоят по большей части из стихотворного текста, но в них же содержатся три конспекта истории Ланселота и Гвиневеры, в том ее виде, в каком мой отец собирался ее изложить или, скорее, принять как данность в своей поэме. Конспекты пронумерованы (последовательно) цифрами I, II и III. Все три набросаны наспех, но почти везде разборчивы; я расшифровал сокращения и внес несколько совсем незначительных исправлений.
Конспект I начинается с восхваления Ланселота: этот фрагмент близко воспроизведен в III. 19–28. За ним следует:
Один Гавейн был почти ему равен, но строже нравом, он любил короля превыше всех мужей и превыше всех жен, за учтивостью скрывая недоверие к королеве. Но королева любила Ланселота и желала внимать только похвалам ему. Так в ничтожных душах пробудилась ревность, но главным образом в Мордреде, воспламененном ее красотой. Ланселот восхищался красотой королевы и неизменно служил ей, но долго оставался верен своему сюзерену, однако западня захлопнулась, и королева не желала отпустить его, но смехом или слезами подчиняла его намерения, пока он не отрекся от верности.
Гавейн ни о чем не догадывался, но Мордред был настороже. Наконец Мордред обратился к Гавейну и его братьям Агравейну и Гарету и сказал, что они как родичи короля должны предупредить его. Агравейн, завидуя положению и фавору Ланселота, от имени брата все рассказал королю. Двор разделила междоусобица. [Добавлено: Агравейн убит Ланселотом.] Мордред сказал Гвиневере и Ланселоту, что это предательство затеял Гавейн из зависти, и Ланселот поверил этой лжи – хотя на самом деле Гавейн был единственным из всех рыцарей, кто зависти не ведал и думал только о короле, а не о себе самом. Король приговорил королеву к [неразборчивое слово вычеркнуто и заменено на и Ланселота к смерти], и люди обвинили Ланселота в трусости, потому что он бежал прочь. Но, когда королеву вели к костру, Ланселот появился во главе своих родичей, спас ее и увез прочь. Гарет [? и прочие] из рода Гавейна были убиты. Но Ланселот преисполнился отвращения к содеянному и возвратил королеву – однако Артур не желал более его видеть, и он уехал обратно в Бенвик.
Ни он сам, ни его родня более не сражались за Артура, даже когда прослышали о нападениях на Британию и даже в Артуровом походе на Восток. Это раздражало его сторонников, и они скорбели о его настрое – покаянном сокрушении и усмиренной гордыне после того, как он потерял себя ради любви и теперь отрекся от любви ради верности.
И вот дошли вести о предательстве Мордреда – и о том, что Артур вооружается против собственного своего королевства. Ланселот яснее осознал, что стал жертвой вероломства. Он отчасти подумывал о том, чтобы собрать войско в помощь Артуру. Но гордость удержала его, и мысль о Гавейне, к коему он был так несправедлив, и о его холодном презрении. Он решил, что все равно придет, если король позовет его. Где была Гвиневера – у него недоставало сил приехать в Британию без того, чтобы воссоединиться с Артуром. Неужели она прекрасна и лжива, как говорили люди (и Мордред)? Легко оставила она его и, по-видимому, не испытывала жалости к его мукам и не поняла его раскаяния. Если бы она послала к нему рассказать об опасности, он бы приехал. Но не было вестей от Артура, которого направлял Гавейн. Не было вестей от Гвиневеры, которая выжидала своего часа. Ланселот не уехал, но пребывал в Бенвике. Солнце вышло и засияло после грозы, и на сердце у него полегчало. Он позвал музыкантов и велел всем веселиться, ибо в жизни есть еще надежда, но он не знал, что течение судьбы поменялось и прилив он упустил.
Конспект II в самом начале довольно близко повторяет Конспект I, вплоть до: «воля его была подчинена, и он отрекся от верности». Далее следует:
Гавейн догадывался, но Мордред был настороже. Так возникла междоусобица и распался Круглый Стол, о чем многие сложили песни. [Неразборчивое слово] первая туча сгустилась над Артуровой славой. Мордред, действуя исподтишка, предостерегает и Ланселота, и короля. Великий гнев короля; Гавейн пытается его унять, но Мордред до поры завладел вниманием короля. Он клянется, что и Ланселот, и Гвиневера будут казнены по обвинению в измене – согласно справедливому закону. Но предупрежденный Ланселот забирает Гвиневеру и спасается бегством (все, как рассчитывал Мордред), тем самым подтверждая свою вину. При нападении на замок убиты многие, включая Агравейна и Гарета, родичей Гавейна. Только тогда Гавейн соглашается присоединиться. Он бросает Ланселоту вызов, чтобы не погиб никто больше из благородных рыцарей. Но настрой Ланселота переменился: он раскаялся в содеянном разгроме, а королева напугана, опасается, что Ланселот проиграет, и не желает рисковать. Ланселотовой любви нанесен первый удар. Потому Ланселот вступает в переговоры и выдает Гвиневеру при условии, что она получит прощение и будет принята со всем почетом. Но король никак не соглашается простить Ланселота – и Гавейн на этом не настаивает – и изгоняет его, и Ланселот со своей родней уезжает в Бенвик.
Рядом с цифрой III третьего конспекта мой отец помечает: «воспроизведен в поэме». Он начинается с очень сокращенного варианта начала первых двух конспектов и во многом перекликается с конспектом I в заключительной части, но я процитирую этот текст полностью.
Ланселот считался доблестнейшим из Артуровых рыцарей и первым красавцем – темнокудрый и блистательный рядом с золотым Гавейном. Только Гавейн был почти ему равен, но строже нравом, и любил он одного короля превыше всех мужей и превыше всех жен, но не доверял королеве еще до того, как пала тень. Но королева любила Ланселота, а Ланселот восхищался красотой королевы и служил ей с неизменной охотой, и любил ее превыше всех жен и всех мужей. Лишь честь и славу любил он почти столь же сильно. Потому долго оставался он верен своему сюзерену. Однако западня захлопнулась, и королева затягивала путы все туже – ибо редко отступалась она от того, чем уже завладела, или выпускала из рук желаемое. Прекрасная, как фея, но с беспощадной душою, в мир пришедшая на горе мужам. Так улыбками и слезами подчиняла она Ланселотову волю.
Так возникла междоусобица, о которой многие сложили песни, и первая туча сгустилась над Артуровой славой, когда в королевском чертоге были извлечены из ножен мечи и собратья по Круглому Столу поубивали друг друга. [Вычеркнуто: Мордред подстроил это, завидуя Ланселоту, вожделея королеву, он предал Ланселота.] По жестокому закону, королева была приговорена к костру, но Ланселот спас ее и увез [ее] далеко прочь. В тот день многие рыцари пали от руки Бановых родичей, и в их числе – брат Гавейна. Но Ланселот преисполнился отвращения к содеянному, а королеве изгнание пришлось не по вкусу. Он раскаялся в смертоубийствах и возвратил королеву – добившись полного прощения для нее, но не для себя. Он отбыл в Бенвик вместе со своей родней и больше не ходил на войну под знаменами Артура.
Но вот дошли вести о предательстве Мордреда и о том, что Артур вооружается против собственного своего королевства. Он уже почти решил собрать войско и поспешить к королю. Гордость удержала его, и мысль о холодном презрении Гавейна, к коему он был так несправедлив. Король призвал бы его, если понадобится. При мысли о Гвиневере его охватывала тоска. В опасности ли она – но у него недоставало сил приехать в Британию без того, чтобы воссоединиться с Артуром. Неужели она столь же лжива, сколь прекрасна, как шепчутся некоторые? Легко оставила она его, ничуть не жалея. Если бы она послала к нему, он бы на свой страх и риск выступил против Мордреда или Артура. Но не было вестей от Артура, который полагался на Гавейна. Не было вестей от Гвиневеры, которая ждала своего часа, чтобы вырвать у погибели благо. Так что Ланселот пребывал в Бановой башне, разрываясь надвое. Гроза улеглась. Засияло солнце, на душе у него полегчало. Он сказал себе, что в жизни по-прежнему есть место надежде, удача переменчива, но не знал он, что течение времени пошло на убыль и что свою судьбу он упустил.
Эволюцию песни III в значительной степени можно проследить по черновикам, хотя некоторые сомнения мне так и не удалось прояснить. Сохранились самые ранние наработки, и среди них – несколько страниц настолько неразборчивых, что расшифровать их возможно, только опираясь на знание последующих текстов; но любопытно, что, даже сочиняя настолько наспех, отец умел соблюсти аллитерационные и метрические схемы.
За первичными наработками идет целая последовательность рукописей, сменяющих друг друга в обычной манере моего отца: каждая вбирает в себя изменения, внесенные в предыдущую, и, в свою очередь, подвергается правке. Первая из них (назовем ее А) со всей очевидностью являет собою самую первую запись текста песни, пусть и далеко не законченного. Текст представлен в черновом, но читаемом виде, все еще со множеством сомнительных мест и замен, производимых по ходу написания. Начинается он так (III. 19 и далее):
- Сэр Ланселот, лорд Бенвикский,
- в прошлом – первый из паладинов Артуровых…
Далее текст А можно опустить, поскольку его вскорости (как мне кажется) вобрала в себя следующая рукопись, и примечательные черты А вновь появляются в весьма пространном и сложном тексте Б[98].
Две первые страницы этой рукописи со всей очевидностью были написаны в одно время, не имеют заглавия и идентичны практически во всем, если не считать вступительного фрагмента песни. В одном из вариантов (назовем его Б1) первые строки выглядят так:
- В благостном Бенвике Бан правил встарь,
- чьи праотцы прежде чрез пучину бурую,
- на брегах благодатных бросив дома свои,
- в путь пустились к пределам западным
- королевства закладывать, крестить язычников,
- валы воздвигать против варваров диких.
- Бан башни на берегу северном
- возвел высокие; валы под ними
- грохотали гулко в густеющем сумраке
- скал сквозных. Солнцем венчаны,
- в ограде роскошной, овеяны ветром,
- на воды взирали, войны не страшась.
На другой рукописной странице, Б2, начало дословно повторяет ПВ («Последний Вариант») III. 1-10:
- К свирепой силе от сна на юге
- разбужена буря, с бряцаньем грома
- и лютым ливнем над лигами моря
- стремительным смерчем к северу движется;
- седые вершины взгорий и скал
- взъерошены ветром пред вздыбленным морем.
- Бьют в брег буруны на Бенвикском взморье,
- крушат в крошево в крутом гневе
- валуны великие. Взвесь соленая
- висит в воздухе вспененным маревом.
После этих двух разных вариантов начала песни обе рукописи продолжаются со строки: «Там Ланселот за лигами моря…» и т. д., как и в конечном тексте, но отличаются от него во фрагменте III. 14–18:
- Томился он тяжко. Тьма сгущалась.
- Лорда он предал, любви уступая,
- но любовь отринув, лорда не возвернул.
- Впредь вероломцу в вере отказано[99],
- от любви ж отделен он лигами моря.
Вместо этих строк в Б1 и Б2 значится:
- Томился он тяжко. Тьма сгущалась,
- сокрушался он скорбно, смиряя гордыню:
- презревши преданность пред призывом любви,
- любви лишился, любя преданность.
Фрагмент на отдельной странице в этом месте Б2 отмечен для замены, после слов «Томился он тяжко. Тьма сгущалась»:
- презрел он преданность пред призывом любви;
- на преданность его впредь не полагался лорд его,
- а любовь – покинута за лигами моря.
После первых страниц Б1 и Б2 текст некоторое время продолжается, не дублируясь, и потому может называться просто Б. В ряде случаев ПВ отличается от Б, как в нижеприведенных примерах (многие из них встречаются также и в A). В каждом случае ссылки на строки даются по варианту песни III в ПВ, приведенному в этой книге.
- (III. 46–53) Он верен всегда был владыке Артуру;
- противился преданно. Но в прочные сети
- поймали в плен его. Их плела королева,
- все теснее и туже тенета шелковые,
- соблазняя, стягивала. Страстно любила…
Окончательный вариант («за Круглым Столом, в королевском ордене») приведен на другой странице рукописи Б в качестве альтернативы; еще один альтернативный вариант предложен для III. 53, «для себя сберегала. Страстно любила…»:
- Милей мнила то, что во мраке сокровищниц,
- как клад королевин, под ключ прятала,
- сберегала и счет вела. Страстно любила
- (III. 57–59) Судьбою сподвигнута. Не согласна отдать она,
- на что зарилась жадно. Как на заре – солнце.
Что касается смысла этих строк, ср. Конспект III: «Редко отступалась она от того, чем уже завладела».
- (III. 62) Сталь стойкая. Сломила волю она.
Изначально здесь в рукописи А значилось: «Сила не выстояла». Напротив, «Сломила волю она». В варианте Б на полях есть пометки: «Сильна ее воля» и «Сломила мечи она». В рукописи ПВ «Не сдержала клятв она» карандашом было исправлено на: «Не сдержали клятв они».
(После III. 67; позже отмечено для удаления)
- Менестрели многие в мелодиях скорбных
- о поре той поведали, о преданных клятвах,
- о разладе и розни, и растоптанной вере.
- (III. 74–78) Родичи Бановы рдяной кровью
- Залили Артуровы златые чертоги.
- Королеву казнь на костре ожидала.
- Прекрасной как фея – приговор суровый:
- смерть судили ей. Но судьба замешкалась.
- Ло! Ланселот лучистой молнией,
- смертоносный, сияющий, в сполохах грозных…
(III. 82–83) Там, где в ПВ значится:
- Гахерис и Гарет, Гавейновы братья,
- подле пламени пали: повелел так рок.
В варианте Б стоит одна-единственная строка, впоследствии зачеркнутая:
- Там Гарет пал, Гавейном любимый.
- (III. 88–90) Поздно оплакал он,
- крушась, крах Круглого Стола,
- союз и свободу славного братства,
- горевал о Гарете, Гавейновом родиче, —
- по злосчастной случайности, он сразил безоружного,
- за любовь воздав, как вовеки не мыслил.
Последние три строки этого фрагмента были вычеркнуты одновременно с предыдущим упоминанием Гарета (а в предшествующем тексте А они были взяты в скобки как предназначенные для удаления). В результате этих сокращений Гахерис и Гарет в изначальном варианте текста ПВ не упомянуты, но строки III. 82–83 добавлены карандашом.
- (III. 90–92) В гордыне покаялся, проклял доблесть,
- так, любви лишившись лорда Артура, честь он чаял…
- (После III. 101)
- Многих она видела, что в мыслях озлобились, [› озлились]
- что Ланселота с любовью хранили, [› холили]
- но к безмужней монархине, от мук спасенной,
- пусть прекрасной, как фея, приязнь не выказывали.
(III. 102) Вместо «Презрительным словом» в Б стоит: «Приветной речью», но «презрительным словом» значится в А.
- (III. 104–108) Путы, ей думалось, до поры ослабшие,
- в руках ее крепких, пусть робеет он в сердце.
- Придет пора еще. Но прискорбно ждать ей,
- и чернила она его. Чужой она мнилась,
- переменившись. Потом в видении
- на миг мучительный смог он, как в зеркале,
- постичь ее душу – и понял себя он,
- и немо застыл, недвижен, как камень.
- (После III. 119) Гордыне низвергнутой не найдется сочувствия;
- Гавейн не верил в его волю добрую,
- возвращаться ему не велено – коль не вздумает сам он
- предстать покорно пред правосудием строгим.
- (III. 124–127) Скорбел Артур
- в душе и думах; дом вновь обрел
- жену неверную, недосчитавшись достойного:
- паладина первейшего потерял в час нужды он.
Вскоре текст Б снова распадается надвое, и с этого момента (III. 143), где ПВ переходит к:
- От гаваней западных грядут вести:
- Артур с оружием на отчизну двинулся
эти далее идентичные тексты, как ни странно, возвращаются к начальным фрагментам в Б1 и Б2 (см. выше), только они поменялись местами, то есть в рукописи, где песнь открывается строками «В благостном Бенвике Бан правил встарь», здесь стоит фрагмент, начинающийся со строк: «К свирепой силе от сна на юге», а во второй рукописи – наоборот.
В обоих вариантах за данным фрагментом следуют стихи, повествующие о том, как Ланселот глядит из окна на море (ср. III. 11–14, 187–189):
- Ныне Ланселот за лигами моря
- в круговерти ветров из высоких окон
- глядел да гадал, горюя один,
- в смятении сердца. Тьма сгущалась.
(где во второй рукописи значится: «Сгустилась тьма»).
Отец, по-видимому, в итоге решил, что из всех этих вариантов компоновок в качестве начала песни лучше всего сохранить «К свирепой силе от сна на юге», а для фрагмента, начинающегося с «В благостном Бенвике Бан правил встарь», места уже не найдется. Подробнее см. ниже.
Отсюда текст Б продолжается с «От гаваней западных грядут вести» (III. 143) в двух следующих одна за другой формах, обозначенных как «Версия А» и «Версия Б». Ниже я проиллюстрирую расхождения Версии А (до редактуры) с ПВ. Проще всего привести здесь текст Версии А с самого начала – что соответствует III. 143–173, но фрагмент III. 148–157 в нем отсутствует.
- От гаваней западных гремят вести:
- [вычеркнуто: о лордах Логрии, лукавых изменниках]
- Артур с оружием на отчизну двинулся;
- могучий флот, местью сподвинутый,
- собрал он споро, но свирепая буря
- послужила преградой и препоной нежданной,
- отбросил вспять его океан мятежный.
- Днесь надеялся и нехотя ждал он
- получить приказ поспешный и срочный
- воспомнить о верности[100] вассала – к монарху,
- Ланселота – к лорду Артуру.
- О Гвиневре снова, хоть гнал он думы,
- вспоминал невольно он, как о вешнем солнце.
- Война в Британии, великие беды —
- возрожденной верности вновь неверна ль она,
- ее гнетет ли опасность? Глубоко любил он.
- Ушла от него она, как угасла любовь,
- в гневе и ярости, горя не выказав,
- не печалясь, не плача, в презрении гордом.
- Глубоко любил он. Если б в горький час
- прислала письмо она, то поплыл бы в ночи,
- против бури и недруга, по бурливым морям
- в предел покинутый по приказу владычицы.
С этого момента Версия А совпадает с ПВ, с III. 174 и до конца песни, если не считать нескольких мелких разночтений:
- (III. 174–176) Не пришло ни письма ему с призывом от лорда,
- ни вестей от владычицы: лишь ветер быстрый
- над вольными волнами веял безгласно.
- (III. 179) Кровью кропя кромку сумерек
- (III. 187) А Ланселот за лиги ветров
- (После III. 194)
- С плеском пятились приливные волны
- (III. 204) На крылах белых, а на кряжи и долы
Далее приведены разночтения между Версией Б и ПВ. Фрагмент III.148–157 здесь отсутствовал, как и в версии А, но текст, соответствующий III. 157 и далее, отличается как от Версии Б, так и от ПВ.
- послужила преградой и препоной нежданной;
- отбросил вспять его океан мятежный,
- заперев в заливе. Запутавшись в мыслях,
- днесь надеялся и нехотя ждал он
- получить приказ поспешный и срочный
- воспомнить о верности вассала – к монарху,
- Ланселота – к лорду Артуру.
- Но гордость гнела его: готов отозваться он,
- к просьбе покорной прислушавшись только лишь.
- Не пришло, однако, ни призыва смиренного,
- ни приказа, ни просьбы. Пострадала гордость.
- В мыслях мнилось ему: мужи хмурятся,
- глаза Гавейна глядят холодно,
- поневоле прощает он причиненное горе.
- Не трубил он в рог, и рать не сбирал он,
- хоть сердце стеснилось от сомнений тяжких,
- печалил настрой его приверженцев любящих.
- Не пустился в путь он. Пенились волны,
- сотрясались стены, сердилась буря.
- О Гвиневре снова, хоть гнал он думы,
- как в темнице тяжкой и темном узилище,
- вспоминал невольно он, как о вешнем солнце.
- Великие беды и война в Британии —
- возрожденной верности вновь неверна ль она,
- ее гнетет ли опасность?
Этот фрагмент далее совпадает с Версией А, процитированной выше, и до самого конца песни существенных расхождений между ним и А не отмечено.
Еще одна полная рукопись песни III (назовем ее С), снова без заглавия и без нумерации песен, обнаружена в подборке черновиков, столь же аккуратно и разборчиво переписанная как «окончательная» редакция (т. е. ПВ), и, вполне возможно, таковой ей и предполагалось стать. По отношению к рукописи, или рукописям, Б, она на самом деле приближается к первоначальной форме ПВ (до того, как гораздо позже в него внесли новые карандашные исправления): почти все фрагменты, детально разобранные выше, были изменены на конечные варианты. Ее существование демонстрирует готовность моего отца создавать поэму слой за слоем, переписывая одни и те же или близкие друг к другу фрагменты снова и снова, что позволяет проследить ход работы в целом или в мелких подробностях.
Здесь необходимо привести только один фрагмент из этого нового текста С. Это III. 124–127; он же в варианте Б цитировался выше. В С изначально значилось:
- Скорбел Артур
- в душе и думах; дом вновь обрел
- жену неверную, недосчитавшись
Написав эти строки, отец их вычеркнул и заменил на
- В душе и думах; дом его, мнилось, —
- Хотя пагубно прекрасная прелестнейшая из дам
- Под кровом златым вновь королевою стала, —
- Оскудел днесь светом, обеднел радостью.
Отсюда возникает окончательный вариант:
- Дом его, мнилось,
- Оскудел днесь отрадой, отравлен горечью.
Наконец, напротив вступительного фрагмента песни в С («К свирепой силе от сна на юге…») отец вписал карандашом: «Или, если это Эпизод [в оригинале – Fit. – Прим. перев.] I, В благостном Бенвике и т. д.». Здесь употреблено древнеанглийское слово «fit», означающее часть или фрагмент поэмы; мой отец иногда его использовал, хотя по отношению к «Гибели Артура» он также употреблял слово «песнь». Здесь оно может означать только одно: отец предполагал сделать «песнь о Ланселоте» первой песнью поэмы, и в таком случае она начиналась бы со строк «В благостном Бенвике…». Возможно, этим и объясняется наличие двух аналогичных страниц в рукописи Б (см. выше), на каждой из которых приведен либо тот, либо другой из двух вариантов начала.
В истории песни III есть еще одно любопытное осложнение. Это – рукопись, или последовательность рукописных страниц среди огромного вороха черновиков, в которой события, приведшие к распре и распаду братства Круглого Стола, пересказываются в разговоре между Лионелем и Эктором, родичами Ланселота, вместе вспоминающими эту трагическую историю.
Эта версия начинается с фрагмента «В благостном Бенвике Бан правил встарь» в форме, что уже была представлена в начале рукописи Б1 (см. выше), но третья строка в ней изменена: где в Б1 значится «на брегах благодатных бросив дома свои / в путь пустились к пределам западным», в данном тексте стоит: «от векового Востока, взыскивая островов, / в путь пустились в пределах западных».
Эта версия очень разборчиво написана чернилами, включает в себя некоторое количество предварительных карандашных набросков и карандашную отметку II: номер песни. Я привожу здесь текст полностью, все то, что следует за последней строкой начального фрагмента, «на воды взирали, войны не страшась».
- Днесь Ланселот, лорд Бенвикский,
- тоскуя тяжко, томился в горести.
- Печалил настрой его приверженцев любящих,
- друзей и родичей, разделивших удел его,
- покинувших Логрию и лорда Артура.
- Лионель и Эктор одни сидели,
- племянник с дядей, прошлые беды
- воскрешали в мыслях. Могучий Эктор,
- Банов младший сын, о брате молвив,
- о славе его и слабости, сокрушался горько.
- «В былые дни нашего братства славного
- почитался он первым. Почет и славу
- и мужей уважение к мощи и чести
- снискал он стократ, но стряслась беда,
- и преданность пала. Так прекрасна монархиня,
- так прям паладин, так прочны сети,
- поймавшие пленника. Не как подданный – королеву,
- не как даму – данник, но дороже жизни
- Ланселот любил ее, хоть лорду Артуру
- пребывал предан. Победила любовь.
- Сколь ни старался он, не сумел вырваться
- из силков на свободу. Страсть непреклонная
- со слезами и смехом склоняла исподволь,
- как сталь стойкого – к сладости горькой».
- Лионель ответствовал – лорд горделивый,
- стоек в сражении, советом – мудр,
- сердца читал он и суть помыслов:
- «Да, любви во мне мало к леди безжалостной,
- чьи пагубны помыслы; прекрасна – как фея,
- мужам на муку в мир пришла она,
- судьбою сподвигнута. Но сочту я гнуснее[101]
- заведомо зоркие зависти очи,
- Мордреда мстительность во мгле радела
- советом тлетворным – о скверной цели.
- Не любил Ланселота он за лестную славу,
- за королевину ласку клял судьбу его;
- ненавидел Гавейна, неправде чуждого,
- благородного, смелого, сурового нравом.
- Ведь сюзерен любил его, на советах первым
- из вассалов выслушивал; он владыку берег,
- как пес преданный – простака хозяина.
- Следил я за ними. Слова он нашептывал
- Гавейну гнусные, Гвиневеру бесчестил,
- Ланселота ложью порочил,
- сгущая краски. Страшен был гнев
- и горе Гавейна. Горд был Мордред:
- ведь слухи скверные на суд Артура,
- во вред – вестнику, внимавшему – к горю,
- принес простодушно самый преданный рыцарь[102].
- Так Гавейн снискал Гвиневры ненависть;
- а Ланселот ложь поддержал ее:
- что-де зависть и злоба в змею подколодную
- обратили отныне одного лишь рыцаря,
- кто, вровень во всем с ним, не ведал ревности,
- кто за почтением прятал подозренье недоброе
- к красе королевиной. Клятая подлость![103]
- Змея и впрямь здесь затаилась в травах,
- чтоб ужалить украдкой – не увидел он ее!»
- Эктор рек: «Вся родня наша
- за блажь безумную, бесспорно, в ответе:
- кроме Лионеля. Легко отмахнулись мы
- от речей разумных, радели о нем
- по праву и поводу, покрывая неправду,
- королевину ссору сочли своим делом
- из любви к Ланселоту. Любовь не угасла,
- хоть свободу и содружество Стола Круглого
- в распре рьяной раскололи мы надвое.
- Мечи могучие мир нарушили,
- королеве в помощь. Приговор суровый
- смерть судил ей. Но смерть задержалась.
- Ло! Ланселот лучистым пламенем,
- смертоносный, сияющий, в сполохах грозных
- напал нежданно, неистово ринулся
- на друзей давних, как на дерева – буря.»
- [Королеву вызволил и вдаль умчал он]
Последняя строка была вычеркнута, а под ней отец карандашом вписал слова: «Я там был с ним», – по-видимому, их произносит сэр Эктор.
Здесь данный текст – назовем его «вариант с Лионелем и Эктором» (сокращенно ЛЭ) – заканчивается. Я уверен, что из этого пересказа событий в косвенной речи ничего больше написано не было. Видно, что после строки «Мечи могучие мир нарушили», за семь строк от конца, данный текст приближается к ПВ в Песни III. 71–80; и действительно, последние пять строк почти совпадают с текстом как самой ранней рукописи А, так и последующей рукописи Б (см. выше), где говорится:
- Смерть судили ей. Но судьба замешкалась.
- Ло! Ланселот лучистой молнией,
- смерть сея, в сполохах грозных
- напал нежданно, неистово ринулся
- на друзей давних, как на дерева – буря.
Если бы на этом все имеющиеся свидетельства заканчивались, можно было бы предположить, что если мой отец не держал перед глазами вариант Б, то, во всяком случае, когда он дошел до этого места в «варианте с Лионелем и Эктором», он, должно быть, воспроизводил фрагмент из Б по памяти; а если так, то, вероятно, к тому времени отец осознал, что Лионель и Эктор становятся просто-напросто рассказчиками истории в ретроспективе, как ее уже изложил он сам. Но, как мы вскоре увидим (ниже), на самом деле все куда сложнее.
Однако, прежде чем обратиться к данному вопросу, отметим: эта новая версия особенно интересна тем, что только здесь и в Конспекте I отец сколько-то подробно описал интриги Мордреда. Во втором конспекте (выше) говорится только, что «Мордред, действуя исподтишка, предостерегает и Ланселота, и короля». В третьем конспекте, который, как отмечает отец, был воспроизведен в поэме, об этом вообще не упоминается, кроме как в вычеркнутой фразе (выше) о том, что Мордред предал Ланселота; но сообщается также, что по возвращении во Францию, размышляя о том, что же ему делать, Ланселот думает о «холодном презрении Гавейна, к коему он был так несправедлив» (выше). Безусловно, ни один из этих конспектов не соответствует в точности предполагаемому повествованию; это скорее памятки, важные «моменты», которые автор записал, чтобы не позабыть.
Однако из Конспекта I (выше) мы узнаем, что Мордред рассказал обо всем Гавейну и его братьям; что Агравейн донес королю; и что Ланселот убил Агравейна. Основной сюжетообразующий элемент здесь – то, что Мордред, солгав и Ланселоту, и Гвиневере, утверждал, будто предательство «затеял Гавейн из зависти»; и Ланселот Мордреду поверил. Здесь впервые появляется «холодное презрение» Гавейна к Ланселоту, который был к нему так несправедлив; эта же формулировка повторится в третьем конспекте.
В варианте «с Лионелем и Эктором» в этой песни Мордред обвинил Гвиневеру и Ланселота перед Гавейном, и в «гневе и горе» Гавейн рассказал обо всем королю, тем самым снискав ненависть Гвиневеры и заставив ее солгать о том, что Гавейна якобы обратили в змею подколодную похоть и зависть, – Ланселот же поверил этой лжи и приписал Гавейну дурные побуждения.
Здесь уместно будет вкратце представить еще один текст. Первая из двух страниц исписана мягким карандашом и выглядит так, как если бы набросок представлял собою новое сочинение, почти без знаков препинания; при этом он на удивление разборчив, хотя и не везде.
- Ланселота и лорды, и люд незнатный
- самым смелым считали средь славного братства
- Круглого Стола, пока крах, и пагуба,
- и мстительность Мордреда мукой не обернулись.
В этом месте в текст вклиниваются посторонние заметки, и не вполне понятно, следует ли воспринимать последующие строки как продолжение.
- распалилась ревность, радость погасла,
- не по сердцу Гвиневере славословья кому-либо,
- кроме лишь Ланселота, не любо такое
- вероломным вассалам [неразборчиво],
- когда мстительность Мордреда
- слова были сказаны о слабости женской
- и мужском безволии, многие вняли.
- Оповестили Артура: опозорен двор его —
- [? и или то] сам Мордред сиял улыбкой,
- Но сказал королеве он, что секрет ее предан
- Гавейном гордым из глубокой праведности,
- из любви и верности владыке Артуру.
- Так вспыхнула ненависть меж Гавейном и Ланселотом.
- Так вспыхнула ненависть меж Гавейном с Гвиневрой.
- Так вспыхнул гнев меж Артуром и Ланселотом.
- Покинул он братство Круглого Стола,
- поплыл чрез пучину к своим поместьям исконным,
- к Веселой Страже средь высот зубчатых,
- в Беноик благостный, где Бан правил встарь
История распри, возникшей из-за любви Ланселота и Гвиневеры, здесь, по-видимому, сводится к тому, что Мордред сообщил Гвиневере, будто Гавейн обо всем рассказал королю.
Последние две строки (в самом низу страницы) примечательны использованными в них топонимами. Название «Веселая Стража» в «Гибели Артура» фигурирует только здесь и нигде более (см. выше); тут замок находится «средь высот зубчатых в Беноике» – во всех других случаях неизменно употребляется вариант «Бенвик»; форма «Беноик» используется во французском «Mort Artu» (см. выше).
Текст на второй из двух страниц, записанный чернилами крайне неразборчиво, с трудом поддается расшифровке. Он начинается со строки «Так вспыхнула ненависть меж Гавейном и Ланселотом» и повторяет последующие шесть строк (только вместо «Беноик» значится «Бенвик»). Далее следует:
- [?Так] изъел червь изобилье и корень
- Древа прекрасного в пору [неразборчивое слово],
- так Ланселот впредь не хаживал с лордом в битву
- на дальних границах против диких саксов.
- [неразборчивая строка]
- Из-за вод вести о войне в Британии
- Ланселота достигли в далекой земле его:
- Артур с оружием на отчизну двинулся.
- выжидал он, не выступив. Вести от госпожи [?его]
- не пришли [?призывая его] приказ короля
- плыть за пучину не послали к нему,
- ибо герой Гавейн Гвиневериных [?друзей]
- [неразборчивые слова]
Эти последние слова можно проинтерпретировать как «почитал за предателей». Мне кажется, что данный текст представляет собою очень ранний набросок этого сюжетообразующего элемента. Между прочим, строки этого текста (см. выше) распалилась ревность, радость погасла, не по сердцу Гвиневере славословья кому-либо, кроме лишь Ланселота, не любо такое вероломным вассалам напоминают формулировку Конспекта I (см. выше): «Но королева любила Ланселота и желала внимать только похвалам ему. Так в ничтожных душах пробудилась ревность…»
Существует еще одна отдельная страница, что практически наверняка связана со страницами предшествующего текста: она лежала с ними вместе, и речь в ней идет о той же самой теме, а одна строка практически повторяется. Текст начинается на середине строки, но предыдущая страница потерялась; записан он наспех, чернилами.
- Артур с оружием на отчизну двинулся.
- Часто гадал он, не грядут ли вести,
- не попросит правитель ли помощи в битве.
- Ныне мстительность Мордреда смог распознать он,
- понял многое, что проглядел раньше.
- Помышлял, предвкушая, что прибудут письма,
- повелев плыть ему за пучину соленую,
- прося о помощи в пору бедствия.
- Или вести, верно, вскоре из Британии
- придут: паладина призовет королева.
- Но посланий не прибыло, и проклял день он;
- дума недобрая душу томила.
- Пусть падет Артур – и овдовеет Гвиневра.
- [В] Мордред попомнит мощь Бенвика;
- другой, достойный, добудет корону ту.
- Мрачно глядел он Рек Лионелю Эктор
Не думаю, что эти последние слова демонстрируют, будто данный текст имеет отношение к уже отвергнутому приему – попытке вложить ретроспективный рассказ о Ланселоте и Гвиневере в уста сэра Лионеля и сэра Эктора. Я думаю, он жорее согласуется с отдельной заметкой, в которой мой отец предполагает, что какая-то часть предыстории может «быть вплетена в раздумья Ланселота – в момент, когда поднимается буря», и изложена еще подробнее, «когда Эктор и Лионель обсуждают его бездействие и злятся из-за него» (см. ниже). В строке «В Мордред попомнит» предлог «В» прочитывается вполне отчетливо, но это явная ошибка – вероятно, здесь должно было стоять «Тогда». Я так понимаю, что под «короной той» подразумевается корона Британии. Поразительны размышления Ланселота о возможном желаемом исходе бедствий Британии; никаких их отголосков в черновиках нигде не встречается. С другой стороны, душевное смятение Ланселота, как оно изображено в Конспекте I (см. выше) и сходным образом в Конспекте III (см. выше), вполне может быть воспринято как благодатная почва для столь черных «недобрых дум», что «в душе зарождались».
Возвращаясь к вопросу о тексте про Лионеля и Эктора (ЛЭ) и его взаимосвязи с версией Б (см. выше), нужно отметить, что существует еще одна рукопись, явно более ранняя, чем ЛЭ, которую отец, со всей очевидностью, держал перед глазами, записывая ЛЭ, – однако ж в ней Лионель и Эктор отсутствуют.
В этой рукописи вступительный фрагмент, начинающийся с «В благостном Бенвике…», присутствует в форме более ранней, нежели во всех других многочисленных случаях. В строке 3, как и в ЛЭ (см. выше), говорится: «от векового Востока, взыскивая островов»; но в придачу там, где в ЛЭ представлены более поздние варианты (см. выше), здесь содержатся следующие: в строке 6 «против вековой дикости» вместо «против варваров диких»; в строке 7 «башню» вместо «башни» (и ниже в строке 8 «под нею» вместо «под ними»[104]; «взирала» вместо «взирали» в строке 12); и «скал изрезанных» вместо «скал сквозных» в строке 10. Эти и многие другие исправления были вписаны на полях данного текста, но я привожу его в том виде, в каком он пребывал до внесения правки.
После вступительного фрагмента текст продолжается следующим образом (ср. с текстом ЛЭ выше):
- Днесь Ланселот, лорд Бенвикский,
- томился тяжко, тоской сжигаем.
- В былые дни братства славного
- почитался он первым; почет, и славу,
- и мужей уважение к мощи и чести
- снискал он стократ, но стряслась беда,
- и преданность пала. Так прекрасна монархиня,
- так прям паладин, так прочны сети,
- поймавшие пленника. Не как подданный только лишь,
- не как даму – данник, но дороже жизни
- любил Ланселот ее, но лорду Артуру
- пребывал он предан. Пересилила страсть.
- Ослеплен красой ее, под конец сдался,
- стойкий как сталь – стал он изменником;
- так сеялось семя скорбей беспредельных.
- Зорки зависти злобные очи;
- Мордреда мщение манило всех больше:
- не любил Ланселота за лестную славу он,
- за королевину ласку клял судьбу его;
- ненавидел Гавейна, несгибаемо-верного,
- сильного, стойкого, строгого нравом;
- королеве не верил он, но короля почитал:
- так пес преданный – простака хозяина
- стережет бессонно. Слова рек он
- Гавейну гнусные, Гвиневеру бесчестил,
- Ланселота ложью порочил,
- сгущая краски. Страшен был гнев
- Гавейна достойного – горевал в душе он.
- Так слухи скверные на суд Артура,
- печальную весть принес самый преданный рыцарь.
- Так Гавейн снискал Гвиневеры ненависть,
- а любви Ланселота лишился навеки;
- Мордред же глядел, готовый смеяться.
- Свободу и содружество Стола Круглого,
- рассорясь рьяно, раскололи мы надвое.
- Мечи могучие не мешкали в ножнах:
- брат с братом бился, и бежала кровь
- королеву пленили. Приговор суровый
- смерть судил ей. Но судьба не исполнилась.
- Ибо Ланселот, как лучистое пламя,
- смерть сея, в сполохах грозных
- напал нежданно, неистово ринулся
- на друзей давних, как на дерева – буря.
- Королеву вызволил и вдаль умчал он;
- но ярость иссякла, излился гнев,
- поменялся настрой его. Поздно оплакал он
- раскол и крушенье Круглого Стола,
- свободу и содружество славного братства;
- лишившись любви лорда Артура,
- в гордыне покаявшись, и притом в доблести.
- Не получив прощения, просил он о мире;
- чаял он честь отчаяньем вылечить,
- возвернуть королеву, королевской милостью,
- к почетному чину. Чуждым ей мнился он;
- все ж участь изгнанницы угодна ей мало,
- за любовь лишенья не любо терпеть ей.
- Простились в муке. Ей прощенье даровано,
- чтоб в Камелоте снова стать королевой,
- хоть Гавейн противился. Приязни Артуровой
- Ланселот лишился: за лиги изгнан,
- от Стола Круглого и славного рыцарства,
- с высоты низвергнут, в вотчину дальнюю
- поплыл поневоле. Печален Артур
- в душе и думах: во дворец возвратилась
- королева-красавица, но какой ценою —
- паладина первейшего потерял в час нужды он.
- Не один отплыл за океан бурный
- Ланселот в ладье. Лордов в роду его
- могучих много. На мачтах реяли
- Борса бравого и Бламора стяги,
- Лионеля, и Лавейна, и лихого Эктора,
- сына младшего Банова. Они по морю уплыли
- из Британии в Бенвик. В битвах отныне
- опорой Артуру с оружием не были,
- но в башнях Бановых бдили зорко,
- за валами высокими войну отвергая,
- лорда Ланселота с любовью хранили.
Здесь мой отец оставил пустое место, прежде чем продолжить писать, по-видимому, в то же время, но на другую тему (причем нумерация строк предшествующего текста не прерывается). Позже, более мелким и более аккуратным почерком, он вставил на полях строки, следующие за «с любовью хранили»:
- в час черный. Чаша горька его:
- сокрушался он скорбно, смиряя гордыню:
- презрел он преданность, покорившись любви,
- и любви днесь лишился, любя преданность.
Не вполне понятно, какое место занимает этот текст по отношению к остальным рукописям песни III, но, по разнообразным свидетельствам, создается впечатление, что он стоит ближе всего к самой ранней из них, то есть А (см. выше) и, следовательно, удобства ради может быть обозначен как А*; но в любом случае его следует воспринимать как отдельную версию, учитывая приведенный выше анализ возникновения распри, – а данный элемент возникает в рукописи поэмы только здесь и в «варианте с Лионелем и Эктором», восходящем к этому же тексту (см. выше). То, что в ходе создания ЛЭ мой отец держал перед глазами А* и что по мере написания он превращал исходный текст в диалог между Лионелем и Эктором, не подлежит сомнению. Если я прав, предполагая, что А* датируется временем, близким к началу работы моего отца над «песней о Ланселоте», то, по-видимому, мысль о том, чтобы изложить историю Ланселота и Гвиневеры как диалог между двумя Рыцарями Круглого Стола, Ланселотовыми родичами, возникла достаточно рано в ходе эволюции поэмы – и рано была отвергнута.
Песнь I
Я уже писал о том, что в рукописи А* за рассказом о распре, разрушившей братство Круглого Стола, спустя какое-то время следует стихотворный текст на совсем другую тему, причем нумерация строк не прерывается. Приведу здесь данный фрагмент этой рукописи:
- В битвах отныне
- опорой Артуру с оружием не были,
- но в башнях Бановых бдили зорко,
- за валами высокими войну отвергая,
- лорда Ланселота с любовью хранили.
- На восток выступил с воинством Артур,
- Войну вел он на вольных границах…
Здесь в черновиках впервые появляется будущее начало поэмы, первые строки песни I, повествующие о походе Артура на языческих захватчиков с востока. Крайне маловероятно, что мой отец изначально намеревался уделить в своей поэме большое внимание «восточному походу» короля Артура. В конспектах о нем упоминается лишь единожды, а именно, в конспекте I (см. выше): «Ни он сам, ни его родня более не сражались за Артура, даже когда прослышали о нападениях на Британию, и даже в Артуровом походе на Восток». Сохранились также карандашные наброски на отдельном листке бумаги, из которых явствует композиционная последовательность песней. В одном из них значится:
I Артур на Восток
II Ланселот и поднимающаяся буря (и тут же – неразборчивое упоминание Гвиневеры)
III Мордред
В другом говорится:
II Артуровский поход на восток поставить сразу после Бегства Гвиневеры
III Частично вставить предысторию в размышления Ланселота – когда начинается буря. [? Больше] когда Эктор и Лионель обсуждают его бездействие и злятся из-за него
IV Ромериль и Смерть Гавейна
Эти планы, не согласующиеся ни друг с другом, ни со структурой поэмы в последнем ее варианте, вероятно, отражают собственные размышления моего отца, в ходе которых Артуров поход на восток сделался ключевым элементом повествования. В замечании о песни III во второй группе заметок автор раздумывает о возможном обрамлении для ретроспективного рассказа о Ланселоте и Гвиневере и великой распре. Заметка II во второй группе с трудом поддается истолкованию.
Нужно признать, что, хотя порядок создания рукописей отдельных песней восстановить возможно, я так и не смог со всей определенностью вычислить, в какой последовательности вносились эти композиционные изменения. Но, судя по многочисленным сохранившимся черновикам, по меньшей мере очень вероятно, что именно здесь, в рукописи А*, внезапно, «нежданно-негаданно», как говорится, в поэму «Гибель Артура» вошел великий поход короля Артура против варваров.
Эта самая ранняя сохранившаяся рукопись песни I «Как Артур и Гавейн отправились на войну и достигли Востока» (она представляет собою последнюю часть А*, но я обозначу ее как АВ, «Артур на Восток») и конечный вариант текста соотносятся между собою крайне интересным образом. Здесь я привожу первые 28 строк текста; нумерация строк, более или менее соответствующая ПВ (Последнему Варианту), приводится на полях.
- На восток выступил с воинством Артур, (I. 1–4)
- войну вел он на вольных границах:
- поплыл за море в пределы саксонские,
- рубежи римские от разора спасти.
- На кумирни и крепости королей нечестивых (I. 41–42)
- мощь его двинулась маршем победным
- до мглистого Мирквуда мрачных пределов.
- (после I. 43, вычеркнуто)
В ходе написания в текст были вставлены следующие восемь строк, с указанием поместить их после строки 7:
- Волну времени вспять обратить, (I. 5–9)
- смирить нечестивцев сердцем жаждал он,
- чтоб ладьи недобрые не дерзали рыскать
- близ брегов белоснежных Британии Южной
- и поживу промыслить в приливных водах,
- круша и грабя. Каркали вороны, (I. 76–78)
- орлы откликались с облачных высей,
- выли волки у врат чащобы.
- Ланселота лишился он; Лионель и Эктор, (I. 44–45)
- Борс и Бламор на битву не вышли.
- Но время вело его, и вероломство судьбы,
- мстительность Мордреда мысли смущала.
- Предательства подлого не приметил Гавейн, (I. 35)
- веселясь войне; впереди прочих,
- чести чая, мчался он вихрем,
- [вычеркнуто: Заслон Артуров.] Задул ветер. (I. 79)
- Вести по ветру влекомы с Запада: (I. 143–145)
- беда в Британии, к битве готовятся.
- Кручинясь, Крадок к королю явился
- В рубище рваном; без роздыху мчался;
- загнан и голоден, сгинул конь его.
Если сравнить эти два текста, не располагая никакими иными сведениями, то можно было бы предположить, что автор выдергивал строки из более длинного текста как попало, по собственной прихоти! Но на самом-то деле все наверняка обстояло иначе. Думаю, разгадка вот в чем: эти строки в первой части АВ, должно быть, так живо и ярко запечатлелись в сознании моего отца (или, возможно, он весь этот текст держал в памяти), что, когда впоследствии он приступил к написанию гораздо более полной поэмы о походе Артура, они возникли снова, пусть и в совершенно ином контексте. Так каркающие вороны, и парящие в вышине орлы, и завывающие волки у врат чащобы после набегов саксонских разбойников и грабителей вновь появляются в пустынных землях далеко от британского побережья. А со строки «выли волки у врат чащобы» начинается четвертая песнь «Гибели Артура».
Но далее оговоренного выше места АВ меняется и на протяжении пятидесяти строк довольно близко соответствует будущей песни I в тексте ПВ, начиная с
- О скверных вестях вел речь пред Артуром: (I. 151–200)
- «Надолго, владыка, владенья покинул ты!
- Пока ведешь войну ты с вражьим племенем
- на Востоке сиром…»
с очень незначительными расхождениями там и тут. Затем, после «и мечами бесчестными черных изменников / нашу мощь умножу» (I. 200–201) в АВ опущены строки I. 202–215, тем самым:
- Нашу мощь умножу. Не много ль того тебе?
- Гавейн не верен ли? Не великим угрозам ли
- бросали вызов мы, бежать вынуждая? (I. 216)
И продолжается до самого конца, как в окончательном варианте, но в последней строке вместа слова «мщенье» стоит «гнев».
Весь текст АВ, который заканчивается здесь, отец вымарал карандашом. Среди всего множества черновиков к «Гибели Артура» не содержится никаких других фрагментов, имеющих отношение к песни I, если не считать отдельного листка бумаги с очень аккуратно переписанным текстом, начинающимся со слов: «врагами вступят в войну друзья их [надо: твои]» (I. 194). Со всей очевидностью это единственная сохранившаяся страница текста песни I, который либо непосредственно предшествует ПВ, либо отделен от него какой-то одной промежуточной версией. Он почти не отличается от текста ПВ, за исключением строк, следующих за «до острова Авалон, огромные рати» (в окончательном варианте это I. 205–210), которые в данном тексте выглядят так:
- благороднее рыцарей, в битве прославленных,
- столь могучих мужей, нашей мощи под стать,
- не собрать тебе заново. То – земли цвет,
- что помнить потомкам сквозь полог времени,
- как златое лето до лютой зимы.
Здесь уместно было бы отметить несколько существенных исправлений, аккуратно внесенных чернилами в последний вариант текста песни I.
(I. 9) Две строки, следующие за «промышляя поживу в приливных водах», были вычеркнуты:
- круша и грабя. Как в клетке – узник,
- дух его пылкий покоя не ведал.
(I. 25) Вместо «Могуча длань твоя» здесь изначально значилось: «Мощны корабли твои».
(I. 43) После «по разным странам» строка «до мглистого Мирквуда мрачных пределов» была вычеркнута (см. выше).
(I. 56) После «Как в последний прорыв за пределы осады» вычеркнуты нижеследующие строки:
- когда осаждавшие отброшены вспять,
- и смельчаки славные судьбу почти что
- меняют мужеством, мятежны и дерзки,
- войску вражьему вопреки и надежде, —
- так вел их Гавейн.
(I. 110–113) В рукописном варианте, до внесения исправлений, эти строки выглядели так:
- Отгорел закат,
- Месяц был мглист; мягкие веянья
- Ветрам вдогонку в ветвях стенали,
- Где вихрей вервия…
Песнь II
Выше я показал, что, согласно исходному замыслу моего отца, поэма «Гибель Артура» должна была начинаться с прибытия фризского корабля и прихода Мордреда к Гвиневере в Камелот; в самых ранних текстах первая песнь обозначена номером I, а содержание ее описывается в следующих словах: «Как явился с вестями фризский корабль, а Мордред собрал свою армию, чтобы помешать высадке короля».
Самая ранняя рукопись этой песни, которую я обозначил как IIa (см. выше) доходит до строки II. 109 окончательного варианта. В первом из черновиков, который, по-видимому, в этом плане был достаточно быстро заменен, Мордреду предстояло навестить Гвиневеру непосредственно до того, как зашла речь о вестях, доставленных капитаном разбитого судна. Мордред глядел из окна «своей западной башни» (II. 20), «внизу волны со всхлипом катились», и сразу после этого говорится:
- Гуэнаверу гордую, гладкорукую,
- что мужей столь многих ума лишала,
- желал он жадно, жаждой измучен.
- Ступил на ступени он, сошел по лестнице
- к почивальне покойной…
Но этот фрагмент был переписан (по-видимому, сразу же):
- Желал он жадно, жаждой измучен,
- Гвенаверу гордую, чьи гладкие руки
- мужей столь многих с ума сводили,
- прекрасную, пагубную, переменчиво-стойкую,
- суровую, хрупкую. Сокрушит он твердыни,
- повергнет престолы – но не прейдет жажда.
- В почивальне покойной.
Переписанный фрагмент теперь приблизился по форме к ПВ (см. II. 25–32), а «витая лестница» (II. 42) теперь ведет не вниз, но вверх, к зубчатым стенам замка.
Ниже я отмечаю дальнейшие расхождения между самым ранним текстом (IIa) песни II и вторым текстом IIb (см. выше) из ПВ, опуская множество исправлений (зачастую внесенных из соображений метрики), представляющих собою замену одного-единственного слова или изменения в порядке слов. Можно отметить, что многие варианты IIb вошли в ПВ и были отвергнуты и заменены уже после того, как текст был записан. Формулировки ПВ отмечены ссылками на нумерацию строк, представленную в данной книге.
(II. 47–65) В тексте IIa значится:
- Слуги спешат к нему, ступая неслышно,
- пробежав поспешно по пристройкам и залам.
- Пред спальней Гвиневриной, где стража дежурила,
- у дверей дубовых, дрожа, помешкали.
- Ивор-оруженосец огласил двор криком
- зычно и звонко. Звал он: «Лорд мой!
- Верные вести: время уходит!
- Скорей спеши сюда! Срок покаянья
- Море даст малый». Мощные двери
- сотряс со стуком он. Сердит и заспан,
- Мордред откликнулся; мужи дрогнули;
- стоял как скала он, свирепо глядя:
- «Знатные вести, коль зарезал сон ты,
- рыща с отребьем в роскошном дворце моем!»
- Ивор ответствовал: «Исполняя приказ твой,
- капитан фризский из Франции несся
- на крылах летучих, но корабль обреченный
- разбит о берег. Бедняга чуть дышит,
- но жизнь убывает, и уста бредят.
- Покойники – прочие».
В IIb и в ПВ ответ Ивора Мордреду повторяет соответствующий фрагмент IIa; в II. 60–64 вошел его исправленный вариант.
(II. 70–73) Эти строки добавлены карандашом к ПВ; в IIa и IIb здесь значится:
- Крадок клятый твои козни выдал,
- о дерзких делах твоих донесли Артуру,
(II. 80–84) В IIa и IIb здесь значится:
- Баркасы и барки на белом взморье
- кишат, что конклав крикливых чаек
- на бортах блещут…
(II. 90–91) В IIa здесь значится (IIb совпадает с ПВ):
- неизменен в ненависти, насмешник над верностью,
- привержен преданно предателю-лорду,
- сгиб, как судил рок.
(II. 101–105) В IIa здесь значится (повторено в IIb, но вместо слова «ветрогонство» поставлено «вероломство»):
- по лугам Логрии к лордам и эрлам,
- Что согласно сговору, союз не нарушат, —
- Верны в ветрогонстве, враги Артуровы,
- Ланселотовы прихвостни, до подкупа жадные…
Этот фрагмент вошел в рукопись ПВ, где заменивший его текст был вписан на полях.
(II. 108–109) И в IIa, и в IIb здесь значится, там, где заканчивается IIa:
- из Альмейна, и Ангельна, и с островов Севера
- бакланы взморья и ветреных топей.
Далее повсюду текст приводится по IIb (до внесения правки), а на полях даются отсылки на соответствующие строки ПВ.
(II. 110–120)
- В Камелот прибыл он с королевой свидеться;
- вожделея, воззрился взором сверкающим,
- серые очи смело встретили
- безжалостный взгляд, но бледнели щеки;
В ПВ мой отец сперва повторил этот фрагмент, затем вычеркнул его и заменил на отдельной странице текстом более пространным, начинающимся с «По ступеням спешно ступая в гневе» (строка 111). В строке 119 слово chill «холодные» заменило, со знаком вопроса, вариант still «недвижные».
- (II. 128–133) веселье воинское. Незавидны ночи.
- Но меньше монархини и немилой женою
- не бывать вовек тебе, не ведать горя.
- Король корону кладет к ногам твоим…
В IIb данный фрагмент карандашом исправлен на:
- веселье воинское. Но не век тебе
- любви лишаться, королеве гордой.
- Коли выберешь верно – вернется счастье.
Окончательный текст ПВ был вписан на полях рукописи.
(II. 144–147) Касательно текста IIb в этом фрагменте (см. выше).
(II. 157–165)
- «…прежде насытившись;
- коль тоскою томишься, тягостна жизнь;
- потом как король коронуюсь златом».
- Гвиневра гордая, в глубине сердца
- боясь и брезгуя, – та, что в былые дни
- красотой сражая, скорей предпочла бы
- принужденью – почтение, притворно молвила:
- «Сколь скор и страстен ты в сватовстве своем, лорд мой!
- Передышку позволь мне.»
(II. 176–177) В IIb эти строки отсутствуют.
- (II. 213) и времени волны своей волей направит.
Песни IV и V
В песни IV историю текста проследить легко. Самая первая рукопись, которую вряд ли удалось бы разобрать без помощи текстов более поздних, представляет собою не столько текст самой поэмы, сколько записи отцовских «размышлений с пером в руке». Возможно, что он, в известном смысле, облекал в письменную форму стихи, уже придуманные и заученные наизусть; но не приходится сомневаться, что он также и сочинял ab initio[105], экспериментируя по ходу дела и зачастую набрасывая несколько вариантов аллитерационной строки.
Эта рукопись уже на удивление близка к последнему варианту. Следом за ней идет наспех набросанный, но вполне читаемый текст, кое-где исправленный в обычной отцовской манере, что приводит нас к тексту (ПВ) в опубликованном виде. Один фрагмент песни в ПВ был отвергнут, а вместо него вписана более пространная версия (IV. 137–154) – столь же аккуратно, чернилами, на отдельном листке. Отвергнутый текст таков:
- Вровень с Артуром рвался вперед
- могучий корабль в мерцающем зареве —
- бела обшивка, борта раззолочены,
- на ветрилах вышито встающее солнце;
- на браном стяге, что струился по ветру,
- грифон гордый горел золотом.
- Так Гавейн приспел на помощь к Артуру,
- Вперед вырвавшись. Тут взорам открылась
- Сотня судов, сиявших бортами;
- Паруса полнились, пестрели щиты.
- Десять тысяч тарджетов теснились друг к другу…
Стоит упомянуть несколько карандашных правок, внесенных в текст:
строка 24 «стекали, сверкая стеклом расплавленным» заменило исходный вариант «как стеклянные слезы сверкали, звякая»;
строки 98–99 добавлены на полях;
строки 209–210 «как валится колос / пред жнецом безжалостным, как под жгучим солнцем» заменило исходный вариант «так скворцы прянут/ от жнецов безжалостных, как под жгучим солнцем…».
И, наконец, приведенное мною название песни «О том, как Артур возвратился на заре и с помощью сэра Гавейна пробился к берегу» заменило собою исходное, вписанное чернилами заглавие «О закате над Ромерилем», которое было перенесено в песнь V.
Черновиков стихотворного текста песни V не сохранилось.
Приложение: ДРЕВНЕАНГЛИЙСКАЯ ПОЭЗИЯ
Примечательно, что единственная «Артуровская» поэма моего отца написана древнеанглийским «аллитерационным стихом»; потому стоит разъяснить его природу и суть на страницах этой книги, причем предпочтительно словами самого же автора. Его заметки о древней системе стихосложения хорошо известны: они вошли в предисловие к прозаическому переводу «Беовульфа» Джона Р. Кларк-Холла в новом издании (1940) Ч. Л. Ренна. Это предисловие было перепечатано в издании: Дж. Р.Р. Толкин. «„Чудовища и критики“ и другие статьи», 1983. Я также частично процитировал этот текст в «Легенде о Сигурде и Гудрун», 2009.
14 января 1938 года по Би-би-си транслировалась в записи краткая лекция моего отца под названием «Англосаксонская поэзия». В эту лекцию он вложил немало размышлений и труда, что явствует из огромного количества предварительных набросков; но здесь нужно сказать только то, что существует и более поздняя, гораздо более пространная лекция на ту же тему, прочитанная перед живой аудиторией: она явно связана с радиопередачей, но совершенно с нею несхожа.
Я решил, что будет небезынтересно включить в данную книгу отдельные отрывки из этой лекции, слегка их подредактировав: она принадлежит к тому же периоду, что и предисловие к «Беовульфу», но разительно отличается и по объему, и содержанию, и по манере изложения.
В качестве примера отец взял заключительные строки древнеанглийского стихотворения «Битва при Брунабурге» и снабдил их аллитерационным переводом. В текст лекции впоследствии вносились значительные изменения, и многие фрагменты были помечены как подлежащие изъятию, вероятно, ради экономии времени. В первой строке дата «1006 лет этой осенью» (т. е. отсчет ведется от 1943 года как года создания) была изменена сперва на «1008», а потом на «1011 лет прошлой осенью»: это, вероятно, означает, что в течение этих лет лекция была повторена в других местах.
- Ne wearð wæl máre
- on þýs églande æfre gýta
- folces gefylled beforan þyssum
- sweordes wecgum, þæs þe ús secgað béc,
- ealde úþwitan, syððan éastan hider
- Engle and Seaxe úp becómon
- ofer brád brimu, Brytene sóhton,
- wlance wígsmiþas Wéalas ofercómon,
- eorlas árhwate eard begéaton.
- Не гибло вовеки
- Полчищ подобных прежде сего дня
- На острове этом, под остриями мечей
- Не пало в побоище, как поведали книги
- И сказители древние, с тех пор, как с востока
- Англы и саксы по океану приплыли
- По вольным волнам, вторглись в Британию,
- На наковальне войны валлийцев разбили,
- К славе стремясь, в старину воины,
- Обрели на острове обитель прочную.
Так пел придворный поэт тысячу лет назад – 1006 лет исполнилось этой осенью[106], если быть совсем точными! – в честь великой битвы при Брунабурге, произошедшей в 937 году н. э. Битва эта была настолько грандиозной, что она вошла в историю как magnum bellum[107]. Победил в ней Этельстан, внук Альфреда, один из величайших монархов своего времени. Против него выступила объединенная армия скандинавов, скоттов и валлийских королей и вождей. Этими строками заканчивается небольшое стихотворение (длиной в 73 строки), вписанное в так называемую Англосаксонскую хронику. То есть датируется оно десятым веком; а это – век великих королей-Этельвульфингов (то есть потомков Этельвульфа и его сына Альфреда), когда англичане вновь воспряли духом после разрухи IX века. Именно к X веку относится большинство прозаических и стихотворных документов, что пережили разрушительное влияние времени. Мир более древний, мир, предшествующий набегам скандинавов, сгинул безвозвратно. Все, что дошло до нас с тех давних эпох первого расцвета древнеанглийской поэзии, сохранилось в рукописях X века – все, за исключением нескольких обрывочных фрагментов.
Именно в хроникальных записях о V веке впервые появляется слово «англосаксонский». Действительно, именно король Этельстан, в придачу к прочим высоким титулам, таким как «бретвальда» и «цезарь», впервые поименовал себя «Ongulsaxna cyning», то есть «король ангель-саксов». Но на англосаксонском он не говорил, потому что такого языка никогда не существовало. Языком короля тогда, как и сейчас, был Englisc – английский. Если вы когда-либо слышали, будто Чосер – «отец английской поэзии», забудьте об этом. У английской поэзии, даже как у письменного искусства, нет задокументированного отца, а истоки ее теряются за пределами видимости, в туманах северной старины.
Так что термин «англосаксонский язык» неверен и вводит в заблуждение. Можно говорить об «англосаксонском периоде» в истории, до 1066 года. Но от такого ярлыка пользы немного. Единообразного и однородного «англосаксонского» периода никогда не было. Пятый век и приход англов в Британию, о которых поэт «Брунабурга» вспоминает в десятом веке, так же далеко отстояли от него по времени и так же сильно отличались по духу от его собственной эпохи, как Войны Роз отстоят от нас.
Но что есть, то есть: «англосаксонский период» включает в себя шесть веков. В течение этого долгого срока обширная литература на народном языке (если говорить только о ней) – и я имею в виду «литературу» в полном смысле этого слова, книги, написанные людьми образованными и учеными, – успела возникнуть, и погибнуть, и снова до какой-то степени возродиться. Сегодня от всего этого неисчислимого богатства остался лишь истрепанный обрывок. Однако, насколько можно судить по тому, что сохранилось, у всего поэтического наследия этого периода, как раннего, так и позднего, есть нечто общее. А именно, древнеанглийская метрика и техника стихосложения, совершенно не похожие на современные размеры и приемы, и в том, что касается правил, и в том, что касается задач и целей. Их часто называют «аллитерационным стихом» – и я о нем расскажу чуть ниже. «Аллитерационные» модели использовались на протяжении всего англосаксонского периода для создания поэзии на английском языке; а в английской поэзии использовался только «аллитерационный» стих. Однако в 1066 году он не приказал долго жить! Он остался в употреблении на протяжении по меньшей мере еще четырех сотен лет в северных и западных областях. В «книжной» разновидности этого стиха (предназначенной для людей просвещенных, духовных или светских) аллитерационная техника была тщательно отточена и доведена до совершенства. Она использовалась потому, что ее ценили и ею восхищались люди образованные, а не только потому, что бедняги «саксы» ничего другого не знали, ведь на самом-то деле это не так. Тогдашние англичане интересовались стихосложением и зачастую мастерски владели метрикой: сочиняя на латыни, они умело пользовались многими классическими размерами или применяли то, что мы называем «рифмой».
Более того, эта «аллитерационная» метрика сама по себе обладала немалыми достоинствами. Я хочу сказать, что как технику ее стоит изучать и современным поэтам. Но она также представляет интерес как исконно английское искусство, не зависящее от классических моделей (я имею в виду по форме; я не говорю о содержании: древнеанглийские поэты тех дней зачастую использовали аллитерационный стих для переложения материала, заимствованного из греческих и латинских книг). В дни Альфреда аллитерационный стих уже был очень стар. Действительно, он восходит к временам еще до того, как англичане явились в Британию, и практически совпадает с метрикой, использовавшейся в древнейших скандинавских (норвежских и исландских) стихотворных памятниках. Огромный корпус устной поэзии о былых эпохах в северных землях был известен певцам в Англии, хотя сохранилось из него немногое, за исключением одного пространного стихотворного каталога [ «Видсид»] тем для героической и мифологической песни: списка ныне забытых или почти забытых королей и героев.
На то, чтобы подробно объяснить систему древнеанглийского стихосложения и показать, как она работает и что в ней дозволяется, а что – нет, потребуется час-другой. По сути дела, берется с полдюжины самых расхожих и сжатых формулировок обыденной речи, содержащих в себе по два основных элемента или ударения – например, строки из перевода отрывка «Битвы при Брунабурге»:
- A glóry séeking (к славе стремясь[108])
- B by the édge of swórds (под остриями мечей)
- С from the séa lánded (по океану приплыли)
- E gréat men of óld (в старину воины)
- [добавилось позже: D bríght árchangels (яркие архангелы)]
Две из них, как правило, разные, уравновешивая друг друга, образуют полную строку. Они связаны или скреплены воедино посредством того, что обычно, хотя и ошибочно, называется «аллитерацией». Это не «аллитерация», потому что основывается не на буквах и не на написании, а на звуках: по сути дела, это краткая начальная рифма.
Главный слог – самый громкий (под основным ударением), самый высокий по тону и самый значимый – в каждой краткой строке должен начинаться с одного и того же согласного звука или с любого гласного (то есть с отсутствия согласного):
Так, in battle slaughtered as books tell us (не пало в побоище, как поведали книги)
или glory seeking great men of old (к славе стремясь, в старину воины)
или ancient authors since from the east hither (и сказители древние, с тех пор, как с востока)
В последнем примере в первой краткой строке присутствуют две начальные рифмы или «скрепы». Так бывает часто, но не обязательно. Во второй краткой строке двух быть не может. Первый значимый слог, и только он, должен быть носителем ударения или рифмы. Отсюда – немаловажное следствие: фразу всегда нужно строить так, чтобы самое значимое слово во второй краткой строке шло первым. Тем самым конец древнеанглийской строки оказывается и более слабым, и менее громким, и менее весомым; а затем в начале следующей строки пружина снова сжимается.
Очень часто в начале новой строки повторяется в более энергичной форме или с некоторыми вариациями финал предшествующей строки:
as books tell us // ancient authors (как поведали книги // и сказители древние)
from the sea landed // over the broad billows (по океану приплыли // по вольным волнам)
Так что вся древнеанглийская поэзия богата на параллелизмы и словесные вариации.
Но, безусловно, древнеанглийский стих – это далеко не одни только звуковые модели. Это еще и лексика, и стиль. Он «поэтичен». Уже в самых ранних сохранившихся письменных образчиках древнеанглийского стиха мы обнаруживаем богатейший поэтический словарь: тогда, как и сейчас, эти слова в большинстве своем являлись архаизмами – устаревшими лексемами и древними формами, которые вышли из употребления в повседневной речи в некоторых своих значениях или полностью, но сохранились в поэтической традиции.
Кеннинги. Поэтические обороты-«загадки», иногда называемые кеннингами (это исландское слово означает «описания») – характерная черта древнеанглийского стихосложения, особенно в произведениях, отличающихся большей сложностью, и одно из его основных поэтических средств. Так, поэт может сказать ban-hus «дом костей», подразумевая «тело», и при этом заставляя вас (пусть и на краткий миг) вообразить себе дом, его деревянный каркас, и балки, и пространство между ними, заполненное и залепленное глиной на старый лад, – и осознать сходство между этим домом и скелетом и плотью. Поэт может сказать beado-leoma «пламя битвы», подразумевая «меч» – сверкающий клинок, что выхвачен из ножен и яркой вспышкой сверкнул под солнцем; и аналогично merehengest «скакун моря», подразумевая «корабль»; ganotesbwd «купальня олуши», подразумевая «море». Древнеанглийский поэт любил яркие картины, но особенно ценил в них внезапность, резкость и сжатость. Сравнений он не разъяснял. Для того чтобы понять все оттенки смысла в его словах и образах, требовались внимательность и сообразительность.
В стихотворении «Битва при Брунабурге», вписанном в «Хронику», поэт говорит о «wlance wigsmipas», сокрушивших валлийцев – буквально это «великолепные кузнецы войны». Если угодно, вы можете сказать, что «кузнец войны» – это «всего лишь поэтический кеннинг» для «воина»; так оно и есть, если исходить только из соображений логики и синтаксиса. Но он был создан и использовался как обозначение для «воина» и вместе с тем для того, чтобы создать звуковой образ и зрительный образ битвы. Мы этого не замечаем, поскольку никто из нас не видел и не слышал битву, в которой сражались бы стальным или железным оружием, и мало кому доводилось своими глазами видеть кузнеца, кующего по старинке железо на наковальне. Лязг и звон подобной битвы разносился бы очень далеко – как если бы множество людей били молотами по металлическим пруткам или рубили окованные железом бочки; или – для тех, кому доводилось слышать такие звуки (а в те времена доводилось всем и каждому), – как будто кузнец выковывает лемех плуга или кольчужные кольца; и не один кузнец, но сотни – и все состязаются друг с другом. А на близком расстоянии мерное движение вверх-вниз мечей и секир наводило бы на мысль о кузнецах, размахивающих молотами.
Уделить еще больше времени технике древнеанглийской поэзии я не могу. Но вы, конечно же, уже поняли, насколько она интересна. Попытка переводить ее – недурное упражнение, когда учишься лучшему пониманию слов, – а наши современники в этом плане сделались вопиюще небрежны; хотя на самом-то деле перевод невозможен. Наш язык стал быстр и прыток (в слогах), но при всей его гибкости и живости он небогат на звуки, а смысл его слишком часто размыт и невнятен. Язык наших праотцев, особенно в поэзии, звучал неспешно, не слишком бегло, зато звучно, и отличался чрезвычайной плотностью и насыщенностью – по крайней мере в устах хорошего поэта.
К этой лекции прилагаются четыре фрагмента из собственных «аллитерационных» сочинений моего отца. Первый – это «Зима приходит в Нарготронд» в третьей версии, почти в точности совпадающий с тем, что приведен в «Лэ Белерианда», 1985, (стр. 129). Второй – это эпизод из аллитерационного «Лэ о детях Хурина (там же, строки 1554–1570), с множеством мелких отличий (гораздо более проработанный вариант приведен в „Лэ Белерианда“», (стр. 129–130).
Что примечательно, третий и четвертый отрывки взяты из «Гибели Артура». Первый из них, записанный чернилами, включает в себя строки с первой по десятую из третьей песни («К свирепой силе от сна к на юге…»), отличающиеся только пунктуацией. Позже отец добавил карандашом еще четыре строки, до «Тьма сгущалась» (которую отметил буквой «D»), и приписал напротив фрагмента: «Описательный стиль».
Второй отрывок из «Гибели Артура» включает в себя строки 183–211 из первой песни и в точности соответствует тексту, приведенному в данной книге, за исключением того, что опущена строка «и мечами бесчестными черных изменников» (I. 200), а в строке 207 «под месяцем ясным» заменено на «в мире смертном». Характерно, что напротив каждой строки отец вписал соответствующие буквы, обозначающие типы ритмических схем с чередованием сильных и слабых позиций («вершин» и «спадов») в каждой краткой строке (см. выше).
Говорит Артур:
- B C Now for Launcelot I long sorely
- «Днесь по Ланселоту лью я слезы:
- B B and we miss now most the mighty swords
- Нужда у нас ныне в надежных мечах
- C A of Ban's kindred. Best meseemeth
- Рода Банова. Разумным мнится
- E A swift word to send, service craving
- Послать поскорее к ним, прося о службе
- B C to their lord of old. To this leagued treason
- Повелителю прежнему. На предательский сговор
- B A we must power oppose, proud returning
- Мы воинство выдвинем, вернемся гордо
- B A with matchless might Mordred to humble.
- С мощью немалой – Мордреда усмирять».
- A A Gawain answered grave and slowly:
- Говорит Гавейн, грозно и веско:
- A C Best meseemeth that Ban's kindred
- «Быть в Бенвике Бановым родичам
- +A C abide in Benwick and this black treason
- Думаю, должно, не содействуя более
- A B favour no further. Yet I fear the worse:
- Предательству подлому. Предвижу худое:
- B C thou wilt find thy friends as foes meet thee.
- Врагами вступят в войну друзья твои.
- B C If Launcelot hath loyal purpose
- Коли Ланселот – ленникверный,
- +A B let him prove repentance, his pride foregoing,
- Пусть раскаянья ради отринет гордыню,
- C C uncalled coming when his king needeth.
- Незваным нагрянет при нужде к королю.
- +A A But fainer with fewer faithful-hearted
- Но скорее с сотней сердец верных
- C B would I dare danger, than with doubtful swords
- Грозу я встречу, чем гербами бесславными
- B C our muster swell. Why more need we?
- Нашу мощь умножу. Много ли надо нам?
- B B Though thou legions levy through the lands of Earth,
- Собери хоть сонмы по странам мира
- A C fay or mortal, from the Forest 's margin
- Смертных ли, эльфов ли – от сводов Леса
- +A A to the Isle of Avalon, armies countless,
- До острова Авалон огромные рати -
- A A never and nowhere knights more puissant,
- Нигде не найдется надежней рыцарей,
- A C nobler chivalry of renown fairer,
- Бойцов благороднее, в битве прославленных;
- A B mightier manhood upon mortal earth
- Мужи, столь могучие, в мире смертном
- B C shall be gathered again till graves open.
- Не сойдутся снова, пока склепы не вскроются.
- +A B Here free, unfaded, is the flower of time
- Здесь не вянет на воле времени цвет,
- +A B that men shall remember through the mist of years
- Что помнить потомкам сквозь полог годов,
- B C as a golden summer in the grey winter.
- Как златое лето средь лютой зимы».
Как можно видеть, краткие строки, соответствующие типу D, в этом отрывке не представлены, а тип Е представлен лишь единожды. Значок «+А» используется здесь для обозначения приставки-спада или «анакрузы» перед первой вершиной в кратких строках А-типа. В строках 202 «Though thou legions levy» («Собери хоть сонмы») и 211 «as a golden summer» («как златое лето»), отмеченных как B, слова «levy» и «summer» представляют собою «преломленные вершины», где вместо долгого ударного слога наличествует краткий ударный слог и следующий за ним слабый слог.
Стиль данного отрывка обозначен, но пометка с трудом поддается прочтению; ее возможно истолковать как «драматичный и красноречивый».
